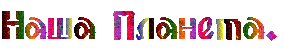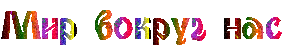"Самый памятный день войны. Сколько людей, прошедших путь от
Сталинграда до Берлина, героев Бреста, партизан, узников страшных
лагерей откликнутся на эту просьбу газеты. Самый памятный... А мне было
всего 9 лет, когда она началась, 13 — когда закончилась. Я не была на
фронте, не видела лиц врага, но хорошо помню, как в наш дом пришла
война, и в моей памяти сквозь годы живет тот самый страшный день войны.

В
субботу, 21 июня 1941 года, почти все сотрудники завода, на котором
работал отец, отправились на гулянье по Днепру на заводскую водную
станцию. Водная станция - это что-то вроде громадного клуба на воде. В
дни гуляний заказывали буксир, и он отвозил станцию в какое-нибудь
живописное место недалеко от Киева. Станция была громоздкой, с очень
красивыми балконами, палубами, заканчивалось это трехэтажное сооружение
высоким шпилем. Игротеки, концертный зал, многочисленные комнаты отдыха,
палубы для танцев, а наверху, в углу верхней палубы, был сооружен для
ребят «капитанский мостик», руль, множество винтиков и рукояток, и,
конечно, ничем другим детвору занять было невозможно... Все мы были по
очереди «капитанами», взрослые и дети веселились от души.

Домой меня,
вероятно, принесли спящей, потому что сразу после этого я помню утро,
утро 22 июня 1941 года. Напротив дома, в больницу, одна за другой машины
привозили раненых, гудела сирена. В 12 часов дня радио сообщило —
началась война. Прошло несколько дней. Фашисты начали свое вторжение на
нашу землю, стали появляться первые известия о зверствах гитлеровцев. Мы
начали готовиться к эвакуации. 7 июля отец получил повестку в
военкомат, а в июле завод решил отправить в тыл семьи сотрудников,
выделив для этого водную станцию. Я с мамой и двухлетним братишкой
собрались в дорогу. Когда мы подъехали к станции, первый горький комок
встал в горле: не венчал эту гордую красавицу изумительный высокий
шпиль, из голубой она превратилась в зеленую, специально окрашенную для
маскировки, исчезли нарядные шезлонги, хрусталь, ковры. Голые комнаты,
ни одного лишнего предмета, чем меньше вещей, тем больше людей можно
будет увезти. Помню суровые лица, скупые прощальные жесты рукой,
медленно, как в счастливые дни гуляний, мы отчалили от берега, не зная,
когда вернемся мы обратно, увидим ли тех, кто остался на берегу.
Первые
4 дня мы спокойно плыли по направлению к Днепропетровску. Опять вся
детвора была на верхней палубе, опять стояли длинные очереди «побыть
капитаном». Больше всех там «начальствовал» четырнадцатилетний Аркашка.
Эвакуировался он один (родителей у него не было). Начал он знакомство с
ребятами жалобами на козни взрослых из военкомата, которые принудили его
к «отсиживанию в тылу». Слушали мы его сочувственно, так как, не скрою,
нам даже досадно было, что мы уходили от войны, не увидим врагов и не
сможем проявить свою храбрость.
К самообороне готовились под
руководством Аркашки [...], в июльский солнцепек сидели в противогазах,
по-пластунски ползали по палубе; мальчишки использовали бильярдные кии,
дрались врукопашную. Первый раз настоящую войну мы увидели в следующую
ночь: нас разбудили громкие крики с левой стороне станции. Все
проснулись, бросились к перилам. В нескольких метрах от нас проходила
баржа, полная людей. Плыли они, видимо, с Западной Украины, с первого
дня войны. Среди них было много поляков. Все они громко кричали:
«Хлеба!» Завод, отправляя нас, обеспечил продуктами всех до места
назначения, и мы не знали еще этого — хлеба! Взрослые заволновались.
Немедленно в мешки полетели буханки, [...], консервы, сахар. Мы подошли
очень близко к барже и стали перебрасывать туда мешки с продуктами. Люди
оттуда продолжали кричать. От нас каждый отдавал, что мог. Мама держала
на одной руке братишку, а в другой — буханку хлеба. [...] видно,
страшно было бросить, чтобы хлеб не оказался в воде, мужчина на той
барже (никогда не забуду этого лица) снял с руки часы и, обращаясь к
маме, стал жестикулировать, что он их предлагает за хлеб. Отдав мне на
руки брата, мать обеими руками бросил хлеб. И тут же я услышала громкое
истерическое: «Нет!» Это кричала мама, что часов ей не нужно.

В
эту ночь мы отдали больше половины своих запасов. [...] все жители
нашей станции перешли на строгий скупой паек. Ровно месяц после этого мы
ехали от Киева до Свердловска; и ни разу никто не пожалел о том, что
тогда мы поделились с голодными людьми.
Наконец мы добрались до
Днепропетровска и ожидали, когда нам подадут эшелон. Для безопасности
нас отвезли в какой-то заливчик (названия и точного места я, конечно, не
помню), положили узкий, шаткий трап на берег, замаскировали ветками, и
буксир ушел. Так мы прожили несколько дней. Но вот подали эшелон,
выделили одну машину, и мы медленно начали выгружаться. В ожидании своей
очереди детвора находилась на верхней палубе. Стемнело. Вдруг мы
услышали страшный взрыв где-то очень близко потом второй, третий, и
громадное зарево осветило все вокруг, казалось что горит весь берег.
Пламя было таким высоким, стало светло, как днем. Без буксира станцию
никуда нельзя было отвезти, бежать на берег было бесполезно, т.к. горели
даже прибрежные кусты. Над нами пронесся немецкий самолет. Огонь
освещал нас как-то снизу, будто прожектор, мы стояли на воде, видимые со
всех сторон. Я с подружкой Раечкой находились у самого «капитанского
мостика». Спрятаться было некуда. Мы с ужасом следили за самолетом. Вот
он опустился настолько, что виден был пилот. По палубе метались дети.
«Ложись, ложись» — это Аркашка, наш бессменный «капитан», принял на себя
команду. Даже спустя столько лет не могу понять, почему же я не легла.
Отчетливо помню голос Аркашки, как вокруг ребята, послушные его команде,
бросились ничком на палубу, а мы с Раей стояли, прижавшись одна к
другой. Самолет резко пошел на нас. Вдруг сильный удар в голову, и
что-то тяжелое навалилось на меня. В то же мгновение сухой стук, свист,
до сознания медленно доходило, что это пулемет, что он с самолета бьет
по нам. Прежде чем стало ясно, что я лежу на палубе, что меня со всей
силы бросил Аркашка и закрыл собой, я услышала его крик. Он сразу как-то
осел, судорога пронизала его, и кровь залила палубу, мое лицо, руки.
Самолет ушел, но немногие из ребят поднялись после его ухода. Несколько
человек было убито, очень много ранено. На руках у врача на наших глазах
умер Аркашка, успев прошептать: «Убейте его».
Прошло двадцать
лет. Как много раз по старой традиции киевлян в самые счастливые минуты
жизни я приходила к Днепру. Аттестат зрелости, и всем классом мы шли к
Днепру встречать восход, а через пять лет я пришла сюда уже с
университетским значком на груди. Прихожу сейчас, как к самому верному
другу, вспомнить, глядя на его гордое течение, все, что мы видели в ту
ночь.
Нет семьи, которая не потеряла бы в войну близких. Но
память наша не может вместить всех жертв, всех героев прошедшей войны,
осталась другая память — память сердца. Для меня этот защитник, боец,
герой собран как бы в одном лице. И хотя не он сражался, не он
форсировал, не он окружал, а мне все представляется в вылинявшей
гимнастерке юный боец с лицом Аркашки, голубоглазого веселого мальчишки,
«капитана» и настоящего героя моего детства".
(Из сборника "ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ. Свидетельства очевидцев". №149).
Оцените материал:
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
|