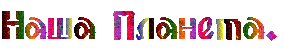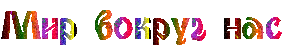|
Мир прозы,,
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 17.03.2023, 16:37 | Сообщение # 2726 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Над беззлобьем парю.
Глажу лапы и спину собаке.
Всем, кто предал, дарю
Всепрощения алые маки.
______________________
***
ПО ЛУЧШЕЙ УЛИЦЕ ЗЕМЛИ
Сидели бабы на завалинке,
И куры нежились в пыли.
Бежали детские сандалики
По лучшей улице Земли.
Мелькали мальвы, гладиолусы,
Калитки, окна на восток.
И в хвостик собранные волосы
Ерошил встречный ветерок…
Но время серыми асфальтами
Покрыло прошлого следы,
А за оградами богатыми –
Газоны, розы и сады.
Хожу-брожу, вздыхаю горестно,
Ищу приметы прежних дней
Я на окраине Егорьевска,
На Красной Армии моей.
***
ИЗМОР
Здесь никто не стрелял.
Ни золы, ни пожарищ...
Где же ты, сеновал,
Мой душистый товарищ?
Не испить молока
С белой пенкой воздушной.
И плывут облака,
И глядят равнодушно
На хлева и овин,
На паскальники тына,
Что без вражеских мин
Ныне – тлен и руины.
Что за скрытый злодей
Губит хлебное поле,
Горем русских людей
Упивается вволю?
Видя этот измор,
Успокоюсь едва ли.
Будто сердце в упор
Без ружья расстреляли.
***
Без хозяина дом – сирота.
И Россия сироткой чумазой,
Под защитой святого креста,
По руинам бредёт непролазным.
Здесь – пожарища выжженных лет,
Там – холодного мрака воронка.
И глядит она солнцу вослед
Со слезами больного ребёнка.
Полонённые снытью луга,
Борщевик по полям, бездорожье…
Это что – беспощадность врага?
Или праведный замысел Божий?
Замарашка, родная страна,
Чёрный хлебушек в воду макает.
Гробовая стоит тишина –
Перед бурей бывает такая.
* * *
Вопли звучат инородные
Песням родным вопреки.
Родина, солнце холодное,
Плачут твои кулики.
Время в садах позаброшенных
Спиливать гиблый сушняк,
Вспомнить, что было хорошего,
Вспомнить, что было не так.
Верится мне и не верится,
В то, что поднимется рать,
В то, что поникшее деревце
Листья расправит опять.
Чтобы цвести безбоязненно
В белом саду по весне,
Чтобы и горе, и праздники
Не насаждались извне.
***
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ ОЧЕНЬ СЛАБО
Глаза зажмурив, без оглядки
Плетёмся вяло в темноту,
И обветшалые заплатки
Едва скрывают наготу.
Забыв родство, без покаянья
Грызём чужие калачи
И не стыдимся подаянья,
И жаждут крови палачи…
Здесь Русью пахнет очень слабо,
На нивах царствует пырей,
Здесь разучились, видно, бабы
Рожать лихих богатырей.
Здесь вымирают деревушки,
Уста младенцев корчит мат,
И лишь берёзы на опушке
Листвой пока ещё шумят.
***
РУССКИЙ ДУХ
– Ты ела гурьевскую кашу?
Слыхала я, она вкусна.
– Не доводилось, баба Маша,
Налей-ка щей из чугуна,
Дай деревянную мне ложку,
Зубок ядрёный чеснока,
Посыпь укропчиком картошку,
Плесни парного молока.
А вместо каши той ванильной –
Парёнки реповой кусок…
И вот уже гляжу умильно,
Освобождая поясок.
Наверняка простой крестьянкой
В той, прежней жизни, я была,
Месила тесто спозаранку,
И за водой к колодцу шла,
Ждала любимого с покоса,
Топила баньку горячо,
И расплетала на ночь косы,
Ложась на мужнино плечо.
Тот русский дух даёт мне силы
В лихие новые года.
А то, что каши не вкусила,
Так это, право – ерунда!
***
Беляши, хинкали, пицца,
Роллы… Господи, прости.
Удиви меня, столица,
Пирогами угости!
А столица предлагает
Хачапури, чебурек…
Но желает расстегаев
Всякий русский человек.
Со слезами умоляю:
«Дай мне русскую еду!»
В легендарном «Разгуляе»
Расстегаи я найду.
Пусть с простой, обычной рыбой –
Не с ломтями осетра,
И за это вам спасибо,
«Разгуляя» повара!
Дух старинный, дух московский,
Ты бесследно не исчез.
Улыбнётся Гиляровский
Одобрительно с небес.
***
КЛЮКВА ДА СМОРОДИНА
Клюква да смородина,
Вишня да черешня –
Распласталась Родина
Шкурою медвежьей.
Пыльною, да тусклою,
Да побитой молью…
Где ж ты, удаль русская,
За какой неволей?
За какими глинами,
Чернозёмом вязким
Молодцы былинные,
Быстрые Савраски?
Кто там за болотами
Открывает шлюзы,
Лапищами потными
Потирает пузо?
Тешится отродие
Над святым и грешным…
Подавилась Родина
Косточкой черешни.
***
ПЕРЕЗИМУЕМ
Перезимуем. Не впервой.
Бывало хуже.
Воспрянет буйный травостой,
Теплом разбужен.
И будут плакать клевера
В туманах белых:
Негоже пахарям с утра
Лежать без дела.
И буду я в своём саду
Лелеять всходы,
Лягушек слушать на пруду
И черпать воду.
Прости меня, моя земля,
Простите травы,
Ведь я – не штурман у руля
Больной державы.
Но я на маленьком клочке,
Что возле дома,
Не прозябаю в уголке,
Впадая в кому.
Я здесь – и пахарь, и косарь.
Мотыжу, сею.
И всей душой, как предки встарь,
Люблю Расею.
***
РУССКИЕ ИЗБЫ
От Оки до Двины и Онеги,
От московских до псковских дорог
Ладить лапти, ладьи и телеги
Мог любой на Руси мужичок.
В городах, деревнях – повсеместно –
Хоть парнишка, хоть вовсе малец,
Знал топор, долото и стамеску,
И работал с душой, удалец.
Были русские избы нарядны,
А ладони умельцев - грубы.
Украшались любовно фасады
Кружевами тончайшей резьбы.
У окошек Авдотьи и Фёклы
Вышивали и пряли порой.
И сверкали в наличниках стёкла
Словно девичьи очи весной.
Пятистенка, родная избушка,
Ты – праматерь часовен, церквей,
Что от пят и до самой макушки
Вырастали совсем без гвоздей!
На холмах, крутоярах, в селеньях,
Украшая излучины рек,
Возвышались над миром творенья –
Рукотворная радость навек.
Белый свет, он с избою прекрасней,
За порогом расступится тьма.
Словом, что ни деревня, то праздник –
Золотые из сосен дома!
***
КАЛАЧИ
Ты, буревестник, не кричи
Там, между тучами и небом!
Я наскребла на калачи
Чуть-чуть муки – и буду с хлебом.
Едва дыша – ресницы вниз –
Воркую тихо над мукою.
Крикливый мир, угомонись!
Сегодня хочется покоя.
Не разрешит моя стряпня
Проблем взъерошенной эпохи.
И вы тусуйтесь без меня,
Шуты, торговцы и пройдохи.
Приглажу скатерти залом,
Запарю чаю с бергамотом
И крепко-накрепко узлом
Свяжу житейские заботы.
Негоже ныть от неудач!
Я не вприглядку пью, не с "таком":
Ещё – с изюмом мой калач,
И даже – с зёрнышками мака!
А завтра, выйдя за порог,
- Не всё же прятаться в берлоге –
Пойму: из множества тревог
Мои – не худшие тревоги.
***
ПОСРЕДИ ТИШИНЫ
Как в неводе рыба, как птица в силках,
Как осенью ранней листва золотая,
Как заяц в капкане, как змей в облаках,
Трепещет душа моя, изнемогая.
Замочная скважина ключ обняла,
Закрытая дверь ухмыльнулась мне в спину.
Глотнув кислорода, я вдруг поняла:
Меня засосала раздумий трясина.
По пыльной брусчатке плетусь я едва
Вдоль ярких витрин от сомнений подальше,
Туда, где лесная трава-мурава,
Где все – естество без назойливой фальши:
И губчатость мхов, и лазейка дупла,
И я, как застывшая зоркая цапля,
И эта уставшая за день пчела,
Несущая в улей душистую каплю…
Шепну муравьям: «Тяжело ли ползти
С нелегкою ношей на маленьких спинах?»
Спрошу журавлей: « Каково вам в пути,
В кровавых мозолях лететь на чужбину?»
И станут нелепы, ничтожны, смешны
Все страхи мои, суетливые страсти...
Присяду в траву посреди тишины –
Не это ли есть светлоокое счастье?
***
Прикасаюсь щекой я к сосновой коре,
Обнимаю рукой я березы прохладу.
То ли иней вокруг, то ль хрусталь в серебре.
Любоваться бы век – и другого не надо.
Тонких веток сплетенье, качанье стволов
Наполняют покоем и нежностью сердце.
Никуда мне не деться от белых снегов
И от русской зимы никуда мне не деться.
Где-то пальмы растут и маслины цветут,
Но милее глазам березняк и ольшаник…
Если сердце стучит, если ноги идут,
Я навеки, земля, твой восторженный странник.
***
БОЛОТО
Не по хитрому расчёту,
Добровольно, без пинка
Я хвалю своё болото
С постоянством кулика.
Эта высохшая кочка –
Не роскошный Аюдаг,
Но она моя – и точка.
И со мной – Иван-дурак.
Накормлю его брусникой,
Горьковатою чуть-чуть,
Но с родной земли великой –
В этом вся и соль, и суть.
Не по щучьему веленью –
По хотенью моему
Доживём до воскресенья,
Побеждающего тьму!
***
ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ ОЧЕНЬ СЛАБО
Глаза зажмурив, без оглядки
Плетёмся вяло в темноту,
И обветшалые заплатки
Едва скрывают наготу.
Забыв родство, без покаянья
Грызём чужие калачи
И не стыдимся подаянья,
И жаждут крови палачи…
Здесь Русью пахнет очень слабо,
На нивах царствует пырей,
Здесь разучились, видно, бабы
Рожать лихих богатырей.
Здесь вымирают деревушки,
Уста младенцев корчит мат,
И лишь берёзы на опушке
Листвой пока ещё шумят.
***
На чужой каравай
Рот не разевала –
Чёрствой корочки край
В кулаке зажала.
Бдит хапуга без снов,
Опасаясь вора.
У моих закромов
Сломаны запоры.
Всё богатство моё –
Строчки на бумаге.
Не польстится жульё
На ручей в овраге,
На картошку в золе,
Прудик обмелевший,
На лазейку в дупле,
Прутик отсыревший.
Капля, крошка, щепоть –
Мало или много?
А огромный ломоть…
Если бы – от Бога!
***
Мороз кусает, но не больно.
Конец предзимья. Тишина.
Привет, синица! Ты довольна?
Кормушка семечек полна!
Тебя в беде я не покину.
Держи и сало, и крупу.
Хватай зерно – и на рябину.
Роняй в сугробы скорлупу.
Лузга пестрит на снежной крупке
Подобно чёрточкам берёз.
Подъест хрустящие скорлупки
На волю выпущенный пёс.
Ещё зима не начиналась.
В кладовке – вкусностей запас.
Но сердце сдавливает жалость
Ко всем зависимым от нас.
В душе смятенье и тревога.
Надолго ль эта тишина?
Война у самого порога.
Большая, страшная война.
***
ВОПРОС
Была весёлой и прилежной.
Теперь лежит под простынёй.
И бант воздушный, белоснежный
Испачкан кровью и землёй.
А солнце в небе так же светит,
Румянит сочные плоды...
Кто виноват, что наши дети
Вновь беззащитны в час беды?
Кто виноват за век их краткий
Среди подвальной темноты,
За выстрел в хрупкие лопатки,
За осквернённые мечты,
За ненадетые панамы,
За пульс, ослабший на виске,
За то, что мелом слово "мама"
Не написать им на доске?
Мы знаем гневные ответы.
Но вновь и вновь звучит вопрос:
"Когда ж насытится планета
Кровавой солью детских слёз?"
***
ВИНА
Ночная птица – трень да трень.
Апрельский дождь по крыше хлещет.
Берёз качающихся тень
В окне затюленном трепещет.
Гоню бессонницу из глаз
И нежусь в ласковой постели…
А в это время на Донбасс
Ракеты смерти полетели.
Вновь солнце начало сиять,
И небо ласково бездонно.
А где-то в Горловке опять
Убита «Градами» Мадонна.
За ад Одессы по весне,
За пепел, смерть Ясиноватой,
За вопль и шёпот на войне
Себя считаю виноватой.
Изводит горькая вина,
Огнём на сердце пламенея.
Я покаяния полна
За то, что хлеб и кров имею.
***
В момент слабоволия, горький и жуткий,
Когда побелело лицо,
Под окна мои приземлились две утки,
И ёжик забрёл на крыльцо.
Поведали утки: "Мы долго летели,
Мозоли под каждым крылом.
Но мы добрались до намеченной цели,
Здесь наше гнездовье и дом".
А ёжик сказал, расправляя колючки,
Что голоден, что изнемог,
Что спасся едва от озлобленной Жучки,
Но встретил приветный порог.
Я им раскрошила намокшую булку,
Напиться воды налила.
И сердце забилось тревожно и гулко,
И я, наконец, поняла,
Что все мы сильнее и духом, и телом,
Чем думать об этом могли.
Победа даётся лишь стойким и смелым
По жёстким законам Земли.
***
ПРОВОДЫ
Если мне суждено на роду
Провожать на сраженье мужчину,
Я приму со смиреньем беду,
Не заплачу и выпрямлю спину.
Разогнусь, как тугая лоза.
Ни унынья в глазах, ни тревоги.
Пусть бойца не печалит слеза
На прощальном родимом пороге.
Он обнимет покрепче – и в бой!
Защищать, побеждать, не сдаваться!
Я вернусь сиротливо домой
И позволю себе нарыдаться.
Будут стоны до неба слышны.
Необъятна их горькая мера.
А солдата в окопах войны
Пусть согреют улыбка и вера.
***
ПИРОГИ
Пекла пироги, колдовала над тестом,
Готовила сыну паёк.
И пела о том, как горел у невесты
В ночи на окне огонёк.
И вот пироги – в боевом тормозочке,
Чтоб было солдату теплей.
А рядом – из шерсти верблюжьей носочки.
Не мёрзни, сынок, не болей.
Крестом осеняя бойца на дорогу
И руки скрестив на груди,
Шептала молитвенно: "Сыночка, с Богом!
С победой домой приходи!"
Захлопнулись двери. И быстро в метели
Затихли родные шаги.
Но спину солдатику ласково грели
Домашним теплом пироги.
***
«Раньше выстрела не падай. –
Ты однажды произнёс. –
Даже если слёзы градом,
Никогда не вешай нос!»
В час бессилия я трушу.
Сердце в пятках, как всегда.
Но девиз твой лечит душу
Так, что пятится беда.
И свалившись носом в яму –
Руки тонкие вразброс,
Я теперь твержу упрямо:
«Не сдавайся, выше нос!»
***
СОН СОЛДАТА
Он спал на земле, но сжимал автомат
Недремлющей, твёрдой рукою.
Ведь даже во сне в напряженье солдат,
Не ведает воин покоя.
Кошмаров полны беспокойные сны.
В них взрывы Донбасса, атаки,
В них грохот обстрелов среди тишины,
Огнём обожжённые маки.
Позволь ему, Боже, во сне увидать
Родные, любимые лица,
Прилечь на далёкого детства кровать,
В родительский дом возвратиться.
Беспечным ребёнком на мир поглядеть,
Зажав самолётик в ладошке,
И носом курносым от счастья сопеть,
Лаская дворовую кошку.
И сказку прочесть, как старуха Яга
Колдует в избушке упрямо,
И выйти во дворик с куском пирога,
И чтоб испекла его мама...
***
Топтался лучик золотой
На подоконнике гостиной.
Просилось солнце на постой,
Но я задёрнула гардины.
Я, воспевающая свет,
Сегодня выбрала темницу.
Шуршу обёртками конфет,
Борюсь с желанием напиться.
Там, на свету, кровит заря.
То – митингуют, то – парады.
Сначала – выберут царя,
Потом – свергать на баррикады.
А я – адамово ребро.
И я хочу быть просто мамой,
Растить детей, ваять добро,
Любить надёжного Адама.
Сижу – отчаянья сестра.
Застыла призраком бесплотным.
На Красной площади – ветра,
Ветра – на площади Болотной.
Ветрами выстужен Майдан.
Дрожат берёзы и каштаны.
И брат по имени Богдан
Готовит пулю для Ивана.
***
ОДИЧАЛОЕ ПОЛЕ
На бескрайней безумной юдоли
Я дарю тебе ласку руки,
Одичалое русское поле,
Где, родное, твои колоски?
Ты грустишь по старинным укладам,
По традициям прошлых веков,
Да по синим пронзительным взглядам
Так любивших тебя васильков,
По линялым рубахам, мозолям
Верных пахарей, преданных жниц…
Одичалое русское поле,
Я былинкою падаю ниц
На дородные сорные травы
И принять никогда не смогу,
Что великая чудо-держава
Покорится смиренно врагу.
Анна Петровна Токарева
____________________
142906
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 17.03.2023, 16:39 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 17:15 | Сообщение # 2727 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Владимир Высоцкий - Я не люблю https://www.youtube.com/watch?v=DlYunCAvDZg
Я не люблю фатального исхода
От жизни никогда не устаю
Я не люблю любое время года
Когда веселых песен не пою
Я не люблю холодного цинизма
В восторженность не верю, и еще
Когда чужой мои читает письма
Заглядывая мне через плечо
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор
Я не люблю, когда стреляют в спину
Я также против выстрелов в упор
Я ненавижу сплетни в виде версий
Червей сомненья, почестей иглу
Или когда все время против шерсти
Или когда железом по стеклу
Я не люблю уверенности сытой
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово честь забыто
И что в чести наветы за глаза
Когда я вижу сломанные крылья
Нет жалости во мне и неспроста —
Я не люблю насилье и бессилье
Вот только жаль распятого Христа
Я не люблю себя, когда я трушу
Досадно мне, когда невинных бьют
Я не люблю, когда мне лезут в душу
Тем более, когда в нее плюют
Я не люблю манежи и арены
На них миллион меняют по рублю
Пусть впереди большие перемены
Я это никогда не полюблю
______________________________________________
Высоцкий жив - Я НЕ ЛЮБЛЮ! (памяти Владимира Высоцкого)
Артур Федорович https://www.youtube.com/watch?v=2oZw0jrRUvo
Растут певцы в эстраде, как поганки
Забыли об актерах на Таганке
Попса мне режет ухо, как поэту
Эстраде посвящаю песню эту:
Я нелюблю попсовую эстраду
Ее законы чужды мне совсем,
Ведь чтоб известным быть нужны скандалы,
Без них ты ноль, и звать тебя никем.
Я нелюблю, когда у микрофона
Пытаясь всем, чем можно возбуждать,
Какая-то певичка томно стонет,
А ей самой на песню наплевать.
Я нелюблю, когда на половину
На сцене то ли баба, то ль мужик,
Надел парик так хочет быть красивым,
С лица накрашен, но торчит кадык.
Я нелюблю поющих однодневок
Мелькающих с экрана каждый день,
Поющих о любви гламурных девок
Приехавших из дальних деревень.
Я ненавижу модных кавер-версий,
Ремиксов на попсовую пургу,
Я ненавижу рифмы против шерсти,
С мотивом, словно гвозди по стеклу.
И RNB мне ваше мозги сушит,
Когда мотив мне откровенно врут
Я нелюблю, когда поют про душу,
А кажется, что мне в нее плюют.
Я нелюблю дрянное слово райдер
И этих звездных требований, блин,
Как будто фонограмма хуже станет
Если тебя не встретит лимузин.
Я ненавижу модных папарацци,
Готовых маму за скандал продать,
Я старомоден, видно, братцы,
Мне не дано все это понимать,
Но я б не стал на людях лицемерить,
И о себе заказывать статьи,
И гонорарами не стал бы славу мерить
Как хорошо, что я успел уйти таким.
***
Артур Федорович: ВСЕМ НАШИМ РЕБЯТАМ ОСВОБОЖДАЮЩИМ ЗЕМЛЮ ОТ ДЬЯВОЛА ПЕСНЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО https://www.youtube.com/watch?v=6sZYqk4_Vnk
Солдат всегда здоров,
Солдат на всё готов,
И пыль, как из ковров,
Мы выбиваем из дорог.
И не остановиться,
И не сменить ноги,
Сияют наши лица,
Сверкают сапоги!
По выжженной равнине —
За метром метр —
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
— На «первый-второй» рассчитайсь!
— Первый-второй…
Первый, шаг вперёд — и в рай!
— Первый-второй…
А каждый второй — тоже герой —
В рай попадёт вслед за тобой.
— Первый-второй.
Первый-второй.
Первый-второй…
А перед нами всё цветёт —
За нами всё горит.
Не надо думать! — с нами тот,
Кто всё за нас решит.
Весёлые — не хмурые —
Вернёмся по домам,
Невесты белокурые
Наградой будут нам!
Всё впереди, а ныне
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
— На «первый-второй» рассчитайсь!
— Первый-второй…
Первый, шаг вперёд — и в рай!
— Первый-второй…
А каждый второй — тоже герой —
В рай попадёт вслед за тобой.
— Первый-второй.
Первый-второй.
Первый-второй…
***
ПЕСНИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО ПЕСНЯ О НЕНАВИСТИ исп ФЕДОРОВИЧ АРТУР https://www.youtube.com/watch?v=82PVMN2Ba1w
Торопись — тощий гриф над страною кружит!
Лес — обитель твою — по весне навести:
Слышишь — гулко земля под ногами дрожит?
Видишь — плотный туман над полями лежит?
Это росы вскипают от ненависти! Ненависть в почках набухших томится,
Ненависть в нас затаённо бурлит,
Ненависть потом сквозь кожу сочится,
Головы наши палит! Погляди — что за рыжие пятна в реке?
Зло решило порядок в стране навести.
Рукояти мечей холодеют в руке,
И отчаянье бьётся, как птица, в виске,
И заходится сердце от ненависти! Ненависть юным уродует лица,
Ненависть просится из берегов,
Ненависть жаждет и хочет напиться
Чёрною кровью врагов! Да, нас ненависть в плен захватила сейчас,
Но не злоба нас будет из плена вести.
Не слепая, не чёрная ненависть в нас —
Свежий ветер нам высушит слёзы у глаз
Справедливой и подлинной ненависти! Ненависть — пей, переполнена чаша!
Ненависть требует выхода, ждёт.
Но благородная ненависть наша
Рядом с любовью живёт!
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 24.03.2023, 17:17 | Сообщение # 2728 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| В этом городе крыши низки,
В этом городе много калек.
В этом городе полном тоски,
Я один неплохой человек.
В этом городе злые глаза.
В этом городе грохот и свист.
В этом городе словно слеза
Я горяч, незаметен и чист...
(Н.М.Рубцов)
ВЛАСТЬ ПЕЧАТНОГО СЛОВА
Неожиданно позвонила сестра, и в первую минуту я сильно перепугайся. Телефона у нее не было, международный переговорный пункт далеко, да и очередь там всегда. К соседям ходить неудобно: денег не берут, сами оплачивают счет, вот и пойми тут – доброта это душевная или позиция?
– Как здоровье мамы? – сразу спросил я.
– Ничего, ходит, – ответила сестра. – И все другие тоже... Пока все хорошо.
– Ну, слава Богу, а то меня аж в пот бросило.
– Нет, пока все хорошо. Тут твой рассказ напечатали в городской газете. Мы все прочитали с удовольствием.
– Что ты говоришь. Надо же, откуда они его, интересно, взяли? Так-то, ничего не посылал.
– Вот видишь, значит, где-то взяли. А ты молодец. Мама сказала: иди и позвони. Это чтобы ты знал – следим за твоими успехами.
– Кто что-то делает, тот знает, как радует признание труда, и память – о тебе, уехавшем…
– Только странный какой-то у тебя рассказ, вроде воспоминаний…
– Вспоминать мне пока рановато... А как называется рассказ-то?
– И название странное. «Мои встречи с Черчиллем».Я так и ахнул:
– Ты что, сестра, откуда Черчилль, какой Черчилль...
– Вот и мы подумали. И мама сказала: странно все. Но рассказ твой.
– Но ты же понимаешь – даже по возрасту, я никак не мог встречаться с Черчиллем.
– Я-то понимаю. Да и мама говорит... Но с другой стороны…
– Какая другая сторона, о чем ты... Чушь какая-то.
– Мы тоже решили, что чушь. А с твоей фамилией как быть? Мало ли что... и ты давно не приезжал.
– Но Черчилля давно нет в живых.
– Да.
– Значит, это не мои воспоминания, а кого-то другого
– Тогда другого, – согласилась сестра и вздохнула. - Ну ладно, и так много говорим. Приезжай, как выберешь минуту. А рассказ у тебя все-таки интересный. Мы его вчера и отправили тебе заказным письмом.
***
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
К нам в гости пришла француженка, - не та, которая сидит в каком-нибудь кооперативе и, жутко коверкая язык, тяжким потом созидает подстрочники, а настоящая, из Парижа, и переводила она как раз наоборот: с русского на французский. А имя у нее почему-то было немецкое – Эльза. И пришла она в гости не с пустыми руками, а принесла ребенку подарок красивый чайный набор явно из валютного магазина, и на упаковке была крупная надпись: «Сделано в Австрии».
Гладкие блестящие чашечки и блюдца были прекрасных чистых тонов: голубые, синие, красные, желтые.
Эльза тут же преподала ребенку урок: она сама распаковала пакет и расставила чашечки – красную на синее блюдце, желтую на сиреневую.
– Теперь в Европе делают так, это очень модно – смешивать цвета.
Потом мы пили чай, обсуждали живопись Ильи Глазунова и аграрную политику правительства.
А перед уходом она взглянула на детский столик. Чашечки на блюдцах были переставлены: голубая стояла на голубом, красная – на красном.
– О-о! – удивленно протянула Эльза. – Нет, с этими русскими ничего не поделаешь, их не перевоспитаешь.
Она засмеялась и захлопала в ладошки.
***
С НАШЕГО СТОЛА
В доме творчества был странный заезд: всегда здесь были дети, хоть это не разрешалось. Но вот разрешили - и кроме шестилетней Насти – никого. Она и в клумбе копошилась, и собакам выносила оставшиеся куски из столовой, и с мамой гуляла за новым гаражом, собирая свежие, еще не распустившиеся сосновые шишки.
Она уже хотела попроситься назад, в Москву, когда к центральному входу подъехала блестящая, без единой пылинки, красивая машина И нос у нее был опущен, словно она принюхивалась к асфальту.
Открылись дверцы, вышли взрослые, вместе с ними вылез мальчик, наверное, одних лет с Настей.
Настя увидела мальчика и словно опешила; у нее даже приоткрылся рот, глаза стали круглыми, немигающими.
Мальчик был как мальчик, но в то же время это был совершенно взрослый мальчик, старше мамы и старше папы. Был он в черных лаковых туфельках на толстом высоком каблучке, в мохнатом, не смотря на жару, костюме, из-под расстегнутого пиджака, выбивался необыкновенный галстук, который загорался то синими, то розовыми искрами. Но больше всего поразил Настю носовой платочек, который торчал из нагрудного кармана.
– Папа, папа, – закричала Настя. – К нам карлик приехал.
– Это не карлик, – смутившись ответил папа, одновременно слегка поклонившись приехавшим. – Это мальчик, и, вполне возможно, твой ровесник.
Перед ужином новый житель дома творчества стал знакомиться.
Я – Георгий Михайлович, – сказал он. – А ты кто?
– А я – Настя.
Был он в этот раз в пестром спортивном костюме, в шапочке с длинным козырьком и над козырьком была вышита золотая многоконечная звезда.
– Видела машину? Это моя! Пока отцу разрешаю водить.
– Какая красивая звезда, – сказала Настя.
– Это звезда шерифа, – важно пояснил Георгий Михайлович. – У меня есть все, что полагаемся рейнджеру: и револьвер, и дубинка и наручники. Если хочешь, я тебе подарю наручники. У меня их несколько.
– Хочу, – сказала Настя. – А я тебя познакомлю с собаками. Они только с виду страшные, а так ждут всегда что-нибудь вкусненького из столовой. А что такое наручники?
Георгий Михаилович усмехнулся, поправил шапочку, потрогал звезду шерифа.
– Пойду готовиться к ужину. Ты удивишься: сколько будем жить здесь, я каждый раз буду в новом галстуке.
Утром все проснулись от стука в дверь. Папа открыл дверь. На пороге стоял сынишка вахтерши.
– Ты чего так рано? – встревожился папа. – Что случилось?
Мальчик вытянул руки по швам, и торжественно произнес:
– Георгий Михайлович просили передать: ровно в девять часов тридцать минут они ждут вашу Настю на мороженое с клубникой.
– Ух ты, – только и выдохнул отец. – А сам-то он почему не пришел?
– А зачем? Ему некогда. Он меня нанял.
– Надо же... А скажи, голубчик, а какая тебе в этом выгода?
– А я доллар получил от этого, Георгия Михайловича, – и мальчишка забавно прыснул, словно чихнул, прикрыв рот ладошкой.
– Вот как. Надо же... Тогда вот что: это передай Георгию Михайловичу, и скажи: ихнему столу с Настиного стола
Папа вытащил несколько ромашек из букетика, стоявшего на тумбочке, и протянул их мальчику.
– Да, и еще вот что, голубчик, отдал бы ты этот доллар назад. Стоит ли связываться с этих лет...
Некоторое время мальчик молчал, что-то соображая.
– А у вас есть доллар?
– У меня нету, – ответит папа, отчего-то смутившись.
– А у меня теперь есть, – и мальчик снова потешно прыснул, словно чихнул. Но взгляд его при этом сделался серьезным и отчужденным; вовсе не детский взгляд.
***
ПЕРШИНГ
Зашел по делу к давнему знакомому, у которого – так получилось – не бывал ни разу. Знал только, что у него удачно сложилась семейная жизнь, и вот уже много лет он считается домоседом. Отшумит в институте на своей философской кафедре – и тут же домой, воспитывать двух дочерей.
Встретили гостеприимно. Вся семья вышла в прихожую, жена Владимира тут же сказала: минут через десять можно к столу. А девочки – одной лет десять, другой пятнадцать, растерялись и обрадовались, когда я им протянул по шоколадке.
Прошли в комнату, обычное скромное, деловое жилье. Разномастная мебель, обычная расстановка ее вдоль стен, два сдвинутых письменных стола у окна, разделенные легкой ширмой, обыкновенный телевизор без всяких видеоприставок, простенький проигрыватель. Тут подумалось, что популярный среди студенчества кандидат философских наук мог бы, если бы захотел жить повеселей, посовременней что ли – модную гравюру повесить, ножки у дивана отпилить.
Но самое замечательное, что было в этой комнате – большой зеленый танк, сооруженный так искусно, что тянуло тут же присесть перед ним на корточки и потрогать округлую, крепко посаженную башку его. А управлялся он на дистанции, и чего только не выделывал, являя едва ли не акробатические способности.
А когда мы пили чай на кухне и остались вдвоем, я вспомнил о танке:
– Все-таки какая игрушка: играешь и еще хочется. И чувствуешь себя другим человеком...
– Да, чувствуешь... И ужас-то весь вот в чем. Я спросил старшую: что подарить тебе на день рожденья? И она, представляешь, не задумываясь ответила – танк! Ну, что тут скажешь? Все ясно: агрессор растет. Тогда я спросил у младшей: а тебе чего подарить? И она, тоже не задумавшись - пушку. Вот это да!
– Да...
А когда я возвращался домой, падал снег, было тепло и влажно. Последнюю остановку решил пройти пешком. Шел и размышлял: отчего же так получается? И семья замечательная, добрая, приветливая. Все домоседы. Философские воспитательные беседы. И на тебе – какую-то скрытую пружинку проворонили.
Пришел домой. Дочка готовила уроки. Свет настольной лампы высвечивал волосы изнутри, нимб окружал ее голову. Одна книжная полка отведена под игрушки – куколки, глиняные зверюшки, вышитые салфетки, стакан с высохшими фломастерами.
Тихая, застенчивая девочка растет. Иной раз горло перехватывает, как только представлю, какие испытания ожидают ее впереди. И наступит время, когда уже не придешь ей на помощь, беспомощной.
– А скажи-ка, дочка, вот Новый год подходит, какой бы ты хотела подарок от Деда Мороза? Вот какой, чтобы от всей души?
Она повернула голову, посмотрела на меня пристально, и даже как бы изучающе.
– Честно?
– А как же еще?
– Я хочу, чтобы он подарит мне першинг.
– Чего? – обалдел я.
– Першинг, – твердо сказала она.
– Boт это да! Это надо же... А зачем тебе ракета? А где ты ее будешь держать?
– На балконе.
– Подумать только... А ну, ответь отцу вразумительно: зачем все-таки тебе ракета?
– Надо, – сказала она, поджав по-старушечьи губы, и повела подбородком.
***
ЭТОТ ВЫСОКИЙ ДЕВЯТЫЙ ЭТАЖ
В пятницу, часов в семь вечера, когда стала спадать дневная жара, Валентина Ивановна заявилась вдруг к свояку Федору, чем сильно озадачила его. Уже много лет они не навещали друг друга: повздорили по какому-то пустяку – и словно разъехались в разные края.
– А где Клавдия? – сразу спросила Валентина Ивановна, чтобы скрыть неловкость.
– Шут ее знает.
Валентина Ивановна поправила платок, но не уходила.
Федор вспомнил, что она его считает шалапутным, и лицо его стало угрюмым.
– Чего случилось? – хмуро спросил он.
– Да так, ничего, – ответила Валентина Ивановна с нотками некоторого торжества. – Уезжать я собралась отсюда.
– Это дело... Поди, в город? Уж там тебя заждались, как же, –неторопливо проговорил Федор и ширкнул спичкой о коробок.
Гостья между тем прошла в комнату и устроилась на стуле у окна.
– У меня, Федор, внучек народился.
Федор разогнал дым ладонью, осознал услышанное, и лицо его просияло.
– Эх ты! У Кольки, что ль?
– Ну-у! Вот получила письмо. Пишет – нянчить некому. Давай, вроде того, приезжай. Сильно зовет. Ну, я прикинула – здесь ли век доживать в одиночку, там ли кружиться – какая разница. Дай-ка, думаю, попробую.
– Смотри, одна попробовала – семерых родила, – пошутил Федор. – И что теперь думаешь?
– А чего тут думать? Дом продам, уже покупатель есть. А пока то да сё, хочу корову им отвезти. Не подсобишь?
– Так и надо было начинать, – сказал Федор. – Это, конечно, хлопоты – везти корову за триста километров. Все же в кузове, а не в лайнере. Но кто тебе поможет, кроме меня? Шалапутные только и помогают.
– Да ладно тебе, – махнула рукой Валентина Ивановна.
В субботу ранним утром Федор подогнал свой грузовичок к дому свояченицы. Посигналил, чтобы пошевеливалась, и в ответ раздалось встревоженное коровье мычание. А на крыльце появилась Валентина Ивановна, в цветастом платочке, с узелком и плетеной корзинкой в руках.
– Больно рано нарядилась, – проговорил Федор.
– Ничего, я аккуратненько, – ответила Валентина Ивановна и положила в кабину на пружинистое, с потрескавшимся лаком сидение узелок и корзинку.
Потом ставили к кузову доски, по ним завели корову, и Валентина Ивановна держала ладонь на теплом боку ее, словно бы подстраховывала.
– Ну вот, – сказал Федор, когда был завязан последний узел, – теперь твоя буренка как на качелях. Ишь ревет, не терпится поехать.
– Ты, Федя, будь поосторожней, камешки там какие, ямки, уж как-нибудь – живая всё же.
– Ладно стонать! Хочешь – налей стакан и поставь в кузов, довезу, капли не пролью.
Федор крутнул ключиком, подергал рычаг и облапил покрытую синей изолентой баранку.
Когда выехали из села и от носа машины до непроглядной дали протянулась линия асфальта, Валентина Ивановна ослабила платок на голове и повернулась к заднему окошку. Корова, видать по всему, смирилась со своим положением, темный глаз, который видела Валентина Ивановна, был спокоен, как у пережившей себя старухи.
Надо же – ведет себя так, словно всю жизнь ездила на грузовиках. И тут Валентина Ивановна заметила, сколько всяких цветных картинок с девушками понаклеено в кабине.
– Федь, вчера постеснялась, подумала: все запросишь – ничего не получишь, а сегодня все же попрошу. Мы в город не могли бы завернуть, хоть на одну минутку?
– Это еще зачем? Такого крюка давать…
– Хотелось бы дочку повидать, ведь ни разу не бывала, особенно внучку Светочку.
Федор хмыкнул и надолго замолчал. Валентина Ивановна даже забеспокоилась: не сказала ли чего лишнего?
– Ну что ж, дело говоришь, – подал наконец голос Федор. – Обязательно надо заехать.
Валентина Ивановна согласно кивала и не переставала удивляться понятливости и бескорыстию свояка Федора.
Дочка Зоя перебралась в город, когда ей исполнилось шестнадцать лет. Уехала поступать в техническое училище – и канула, словно ключ на дно. Через два года написала письмо, что вышла замуж за архитектора. Все, кому давала читать письмо Валентина Ивановна, ахали и поздравляли, хотя никто толком не знал, чем занимается архитектор. Из того же письма Валентина Ивановна узнала, что архитектор старше Зои на тринадцать лет. В деревне к таким перепадам не привыкли, поэтому она первое время прямо извелась ночами, придумывая разные горестные возможности в дальнейшей дочкиной жизни. И свадьбы-то, наверное, не было, раз ее не пригласили…
В гости молодежь нагрянула на второе лето, когда Зоя четвертый месяц вынашивала ребенка, стало быть, Светочку.
Зять оказался веселым человеком и совсем не походил на того а р х и т е к т о р а, который представлялся Валентине Ивановне. В нем не было тучности, второго солидного подбородка, в нем вообще, казалось, не было никакой солидности. Только иногда взгляд его из-за очков как бы покалывал, легонько так, осторожно.
Когда вечером выпили по случаю приезда, зять разоткровенничался:
– Мне, мамаша, Зоя сразу понравилась. Мы дом принимали, и я ее увидел. Почему-то представил, как мы вместе в театр идем. На премьеру. Все говорили: что ты делаешь?.. А я так считаю: хорошие манеры, мамаша, это ерунда. Женщины легко приспосабливаются, когда попадут в приличное общество... Вот, допустим, из деревни в город... О-о, через месяц уже не отличишь от горожанки... Топ-топ каблучками, прости-подвинься... Ресницами взмахнет – и ничего больше не надо.
Больно все складно выходило у зятька: и про деревенскую неиспорченность, и про красоту, и про деньги. И очки у него какие-то странные – дужки тонюсенькие и на носу две перекладинки… Беспокойно было Валентине Ивановне, не по себе.
Но когда она увидела, как уверенно чувствует себя дочь, как она подсказывает мужу, даже поучает его, то немного успокоилась.
Ни в этот день, ни на следующий молодые в лес по ягоды и грибы не ходили, по селу не гуляли. Зоя к подружкам наведывалась, а ее, Валентину Ивановну, пустили по селу – ищи, вроде того, лапти и старые книги. А где их искать? Старых книг отродясь не видывала, а лапти – лапти только у Сони были. Потом молодые отмывали их у колодца от навоза.
Самовар еще увезли, прялку...
Машину Федор вел хорошо: умело притормаживал перед канавами и рытвинами, с легким сердцем разрешал обгонять себя – и это при его-то характере! Ни в чем ведь не знает угомону, живет так, словно перед ним еще добрая сотня лет выстилается. Работает за двоих, отдыхает – тоже. Как-то жену Клавдию на танцы в клуб позвал. Та, конечно, отказалась – зачем срамиться, сами седые, внуки скоро в школу пойдут. А он шум устроил: не смотри, как живут другие, живи так, как сам хочешь…
Перед развилкой Федор сбавил скорость:
– Вот и поворот на город.
Голос у него был какой-то потухший, и Валентина Ивановна забеспокоилась: может, она в тягость ему со своей затеей? Сама виновата, что за десять лет ни разу не побывала у дочки.
– Может, зря мы, Федя, в город-то? Так бы и поехали по прямой…
Валентина Ивановна повернулась к заднему окошку. Стекло заметно запылилось, но темный глаз и черный замшевый нос были видны.
– Надо заехать, – сказал Федор, но без прежнего увлечения. – Если откровенно, не люблю я город: милиции там полно и светофоров. Куда ни повернешься – что за черт, одни «кирпичи».
По городу блуждали недолго, всего раз или два спросили у пешеходов дорогу. Наконец, остановились у двенадцатиэтажного дома, в квадратном дворе, образованном такими же домами.
– Как в яме, – сказал Федор.
На девятый этаж поднялись в лифте. У двери, рябой от медных узорных шляпок, остановились, посмотрели друг на друга. Валентина Ивановна сделала глубокий вдох, Федор нажал на кнопку звонка и напряженно уставился в стеклянный кругляш.
Дверь открыла Зоя, которую Федор сразу и не узнал, настолько изменили ее годы, прожитые в городе. А еще – шапка крупных железных бигудей, стянувшая голову.
Секунду она оторопело смотрела на пришедших и с протяжным криком:
– Ой, Господи, ма-мень-ка! – уткнулась лицом в грудь Валентины Ивановны.
Худенькие плечи в голубом поролоновом халатике вздрагивали, а в крике прозвучало столько тоски, что посторонний человек мог подумать: из темницы девку освободили, не иначе.
– Да что же это я! – стала говорить Зоя, опомнившись. – Да вы проходите, проходите.
Квартира была добротная: большой коридор, темноватый от зеленой краски, которая покрывала стены и прихватывала края потолка, так что филенка была не на стене, как у людей, а на потолке; зеркало, перед ним маленькая табуретка; чудная картинка на стене: мальчик лет четырех повернулся ко всем спиной и справляет малую нужду. Но до чего же лицо у него симпатичное. Федор сразу подумал: вот бы достать такую себе домой.
В первой комнате блеск и чистота, видно, не долетает сюда, на этот высокий девятый этаж, уличная пыль. В углу, на видном месте, на обычных красных кирпичах прялка. Самовар – где книги, за стеклом. В общем вроде бы хорошо, но повеяло на Валентину Ивановну каким-то неуютом.
– А Светочка где?
– В пионерлагере, на две смены. Коля поехал проведать ее, к вечеру должен вернуться.
А глаза у Зои напряженные, будто ждет от них чего-то неожиданного.
Валентина Ивановна опустилась на диван, который был словно набит песком, до того жесткий. А Федор сказал:
– Мы ей корову привезли показать.
– Какую корову?
– Нашу, – сказала Валентина Ивановна. Да ты ее не знаешь. Без тебя заводила. Мы к Коле едем, у него сын родился. А это убери... – Она протянула Зое корзинку с клубникой. – Как к Светочке поедете, отвезете гостинца.
К большому удивлению приезжих, Зоя не бросилась сразу показывать свое хозяйство, не повела по комнатам, а носилась бестолково по квартире, то пряча руки в карманы халатика, то вынимая их. И вместо того чтобы удивиться рождению племянника, засыпать вопросами, Зоя сказала:
– Что же вы не предупредили заранее о своем приезде? Я бы хоть подготовилась…
– А чего готовиться? – ответила Валентина Ивановна. – Мы гости скорые: приехали, попили чайку – и дальше.
– Может, правда, чайку поставить? – воскликнула обрадованно Зоя. – Я сейчас, я мигом.
«Кошку бы запустить сюда, – отчего-то подумалось Валентине Ивановне. –Когда есть кошка, жилой дух в доме».
Федор подошел к висевшей на стенке полочке с деревянными игрушками и хотел что-то потрогать, но Зоя тут как тут: не трожьте, мол, все еле держится. Федор нахмурился и отошел к двери.
– Ладно, – сказала Валентина Ивановна. – Чаек пусть пока подождет, а мы сейчас парного молочка попробуем. Где ты, дочка, в городе парного молочка попробуешь? Корову как раз подоить надо.
Тут наконец до Зои дошло.
– Мама, да вы что, и вправду корову привезли?
Глаза ее округлились, и губы от великого удивления сложились в колечко. Она выскочила на балкон, и было видно, как, перегнувшись через перила, она смотрит вниз.
Федор ехидно кашлянул.
В груди у Валентины Ивановны стоял неприятный холодок. Конечно, все можно объяснить и оправдать. Дочь, в молодости покинувшая дом, – отрезанный ломоть. Сыновья еще могут наладить жизнь, как у родителей, а дочки – нет. Жалко, что Светочка в пионерлагере. В конце концов, ради нее приехали…
Валентина Ивановна стала возиться с дверным запором, и Зоя вернулась с балкона.
– Мама, ты куда?
– Подоить корову-то надо.
– Погоди… – Зоя снова стала суетиться хотела что-то сказать, но, видно, от волнения забывала слова. – Не надо сейчас этого делать… Ну, как тебе объяснить? Все же город, порядки другие, опять же разговоры...
– Какие еще разговоры? – нахмурилась Валентина Ивановна.
– Всякие, ну понимаешь, мама, вся-ки-е...
– А что, в городе не едят, не пьют? – спросил Федор. – Может, у вас думают, что молоко растет в бутылках?
– Да нет же, – словно от назойливой мухи отмахнулась от него Зоя.
Она между делом успела накинуть на бигуди косынку, и теперь голова ее была большой и шишковатой.
– Вы что, в самом деле, не понимаете? В центре города, перед большим домом – доить корову! Потом каждый будет говорить… Хоть меняй квартиру.
Выражение лица у Федора было сердитое, он хотел выругаться, но вместо этого достал ключи на цепочке, покрутил их на пальце, побренчал.
– Я на улице подожду, – сказал он и вышел.
Валентине Ивановне было стыдно перед Федором. Дочке этого не скажешь, по всему видно – не поймет. Может, сейчас все по-другому? Сама-то жила не так, и трудности были другие, и заботы. Дети еще по избе ползали, когда муж из дома ушел. До шестнадцати лет Зоя была второй хозяйкой в доме, ее переезд в город был таким же ударом, как и уход мужа. Что теперь осталось в дочери от тех шестнадцати лет, которые она прожила в родном доме? Может, и родителям нет надобности приезжать в город проведывать своих детей? Как-никак – навозом пахнут. И эта последняя мысль вдруг испугала Валентину Ивановну. Ерунда! Быть того не может!
Надо идти доить и не обращать внимания на Зойкины полные слез глаза. Надо подоить и собираться ехать – солнце уже перевалило за половину дня.
– Я пойду, – сказала Валентина Ивановна.
Зоя промолчала.
Когда за матерью захлопнулась дверь, Зоя метнулась следом. Остановилась у двери, зачем-то потрогала английский замок, словно была необходимость убедиться в его надежности. И прильнула к глазку.
Лестничная клетка была пуста. Лишь едва доносились удаляющиеся шаги матери.
«Что же это? – с ужасом подумала Зоя. – Что же это, в конце концов?»
Не зная, как унять волнение, она поправила в комнате на полке матрешку, которую хотел потрогать Федор.
Вышла на балкон и стала смотреть вниз. Далеко внизу, словно игрушечный, стоял грузовичок, и в кузове его была видна рыжая корова. Какая-то фигурка примащивалась рядом с коровой. Дневной свет слепил глаза, набегавшие слезы затуманивали все происходящее во дворе. Господи, как стыдно-то! Ведь все будут потом ходить и спрашивать: чья это деревенская женщина доила корову?
И тут на руки матери словно навели увеличительное стекло – так резко и так близко увидела их Зоя. Темные от загара, все в тяжелых синих венах, они ритмично двигались над ведром. Зоя услышала, как звучно бьют в цинковый бок ведра белые молочные струи.
М а м а п о л о ж и л а л а д о н ь н а г о р я ч и й л о б...
Зою вдруг пронзила острая жалость к матери. Оторваться бы от балкона, превратиться в птицу и неслышно опуститься у маминых ног…
Словно найдя какое-то успокоение, Зоя вздохнула и вытерла кулачком глаза, как делала когда-то в детстве.
Федор – молодец, не лез с ненужными вопросами и вел себя так, словно ничего не случилось.
Он обошел машину, по каждому колесу постучал носком ботинка, а сам с интересом наблюдал за окнами и балконами. Бедные горожане, да сколько же вас, любопытных, собралось там.
– Видала? – сказал он вполголоса Валентине Ивановне. – Это же для них такое событие. Это же им на всю жизнь!
– Не мельтеши, Федя, а сними-ка меня отсюда, и давай всё обратно закрепим. Ехать скоро.
К машине подошла старушка с алюминиевым ковшиком.
– Милая, – сказала она добрым голосом, – не нальешь чуток? Внучке хоть разок дать попробовать парного-то.
– Что за разговоры! – ответила Валентина Ивановна. – Налью, конечно. Внучке сколько?
– Второй пошел. Дай Бог тебе здоровья, милая.
Старушка поковыляла к подъезду. Валентина Ивановна, прищурившись, смотрела ей вслед.
– Федя, – сказала она, – давай не пойдем наверх. Больно высоко. Посидим вот здесь, в тенечке.
Валентина Ивановна говорила, а сама думала: если дочка захочет увидеть ее, сама прибежит. Не такой уж и высокий этот девятый этаж. А нет... Ну что ж, поедут они дальше, туда, где их ждут. Пусть тогда дочка пишет письма...
Валентина Ивановна прижалась к Федору, единственному близкому здесь человеку.
– Знобит что-то, – сказала она и заплакала.
Чернов Евгений Евгеньевич (1938—2002)
__________________________________
143061
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 24.03.2023, 17:19 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 28.03.2023, 19:49 | Сообщение # 2729 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Когда уйдем со школьного двора https://www.youtube.com/watch?v=tNU8IwDNqfA
Под звуки нестареющего вальса,
Учитель нас проводит до угла,
И вновь — назад, и вновь ему с утра -
Встречай, учи и снова расставайся,
Когда уйдем со школьного двора.
Для нас всегда открыта в школе дверь.
Прощаться с ней не надо торопиться!
Ну как забыть звончей звонка капель
И девочку, которой нес портфель?
Пускай потом ничто не повторится, -
Для нас всегда открыта в школе дверь.
Пройди по тихим школьным этажам.
Здесь прожито и понято немало!
Был голос робок, мел в руке дрожал,
Но ты домой с победою бежал!
И если вдруг удача запропала, -
Пройди по тихим школьным этажам.
Спасибо, что конца урокам нет,
Хотя и ждешь с надеждой перемены.
Но жизнь — она особенный предмет:
Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно!
Спасибо, что конца урокам нет!
Композитор: Флярковский А.
Автор слов: Дидуров А. А.
А. Г. Флярковский написал музыку более чем к 60 фильмам.
__________________________________________________
ФОТОГРАФИЯ
И девочку, которой нёс портфель...
А. Дидуров
На фото девочка с зелёными глазами:
Открытый, отчего-то грустный взгляд...
Неумолимо близится экзамен
И выпускной не сшит ещё наряд.
Ползут часы до школьного обеда,
И лодочки под партой – велики...
Ещё звучит вчерашняя беседа,
Рождая пульс младенческой строки.
Так важно было всё и так впервые!
Тетрадный лист волнение будил,
И карандаш стихи, а не кривые
На графиках, забывшись, выводил.
Взлетала чёлка под размах качелей,
Над парком грач саврасовский парил...
Томил апрель простудой и капелью
И гнал домой продроглостью перил.
Ждал под подушкой томик Мандельштама,
Тянулась к одиночеству душа,
И чутко отражала амальгама
Твою весну, с тобою в такт дыша…
Все были рядом: бабушка и мама,
Вилась судьбы каштановая прядь…
А первый дождь о счастье телеграмму
Спешил, стуча по стёклам, передать.
***
Девочка-весна в приютском ситце,
В башмаках с налипшею листвой...
Что тебе, пичуга, не сидится,
Чем заполнен день продрогший твой?
Нет... прилёта птиц не проморгала –
Встретила, восторженно шепча,
Россыпи грачей на снеге талом –
Сахарной макушке кулича.
Дотемна в пустынном гулком зале
Всё глядишь в старинное окно
Синими огромными глазами,
Словно всё познавшими давно.
А когда в умолкнувшей палате
Пахнет хлоркой кафель голубой,
Нежность материнского обьятья
Разливает ангел над тобой.
В тонком сне твои трепещут веки...
Ангельскому веянью внемля,
Крепко спят в постелях человеки,
Дышит обновлённая земля.
...Завтра хрустнут крашеные рамы,
Хлынет внутрь прозрачная река...
И настанет день, обычный самый
Для апреля, муторный слегка.
***
ДЕТДОМОВСКИЙ ХЛЕБ
Моему отцу, композитору Александру Флярковскому
В девять лет — одиночество. Серых простынь тоска.
От отца было — отчество и вихор у виска,
А от матери — родинка муравьём над губой,
Обещание: «Родненький, я приду за тобой!»
Довоенное прошлое унесли поезда…
Но горит за окошками ночью та же звезда!
На картошке да в валенках — ничего! — проживём.
Это дома ты маленький, здесь — пока что чужой.
Шли казённые ходики. Тьма. Не видно ни зги.
С чесноком бутербродики, чтоб спасти от цинги.
Ленинградскому мальчику объявили бойкот,
Обвинили запальчиво:
— Ты украл бутерброд!
Исхудавшим былиночкам было ясно до дна:
Хлеб — всем поровну, и?наче не наступит весна.
Все ребята без жалости в рот набрали воды,
И жила в нём до старости боль от этой беды!
И поклялся он истово над письмом от отца
Не горбушку, а истину отстоять до конца.
Эти нормы железные диктовала им жизнь,
Поднимала над бездною и шептала: держись!
Это кровное, генное… Так взрослела душа.
Слабость — каяться в сделанном, если не совершал!
Но с открытостью чистою доверять и прощать,
До последнего истину, как отец, защищать.
Времена незабвенные…
Эти бритые лбы…
Это детство военное
На прицеле судьбы.
***
«САМАЯ ТИХАЯ, СА-МА-Я НЕЖНАЯ…»
«Самая тихая, са-ма-я нежная
песня о маме моей...»
Спеть бы, да грусть заливает безбрежная
с ветреных снежных полей.
Детская радость слезами не душит, но…
вспомню – и в горле комок!
К тёплым рукам её ладит послушную
голову, словно щенок,
дочка её – фантазёрка упрямая.
Юную спесь распуша,
так ли уж редко бывала ты каменной,
чёрствый подросток – душа?
Что же теперь запинаешься в слоге ты
солнечным днём ноября?
Мама на карточке смотрит не строго, а...
словно прощенье даря.
***
Родина моя, в часы печали
Я гляжу, как плавно над рекой
Голубыми вётлами качает
Среднерусский девственный покой!
Спит река, объятая прохладой,
Видят рыбы сны на глубине.
В тяжкий час душевного разлада
Тишиной лечиться надо мне.
Над речным туманом, над осокой
Чуть дрожит рубцовская звезда,
Так поэта вечер одинокий
В слове отразился навсегда.
Отчего-то странно тянут душу
Огоньки знакомых деревень,
Здесь поют на майские «Катюшу»
И с гармонью бродят целый день.
А когда засвищут в ночь Победы
Пойменные асы соловьи,
На побывку с неба, до обедни,
Отпускают воинов к своим.
Мужики хлебнут из мятой кружки –
Поминать убитых – не впервой!
И всплакнут, как водится, старушки,
Затянув «Платочек голубой».
Вот и мне, стоящей у осоки
На мостках в желанной тишине,
На душе уже не одиноко,
Только страшно думать о войне...
***
МЕЖДУ НЕБОМ И ПТИЦЕЙ...
Между небом и небом...
Сэда Вермишева
Между небом и птицей,
меж землёй и лозой —
Только сон, что мне снится,
обжигая слезой,
О разверстой пустыне,
о целящей воде,
О любви, что и ныне
дарит силы в беде.
О бескрайней отчизне,
что стоит на краю,
О начавшейся тризне
с отпеваньем в раю,
О высоком и близком,
о пустом и чужом,
Об отчаянье риска
тех, кто прёт на рожон,
О надежде упрямой,
о святой простоте,
И об имени мамы
на могильной плите...
О Москве и Донецке,
о клубящейся мгле,
О снарядах немецких,
уцелевших в земле.
О полёте валькирий
над притихшим Донцом,
О потерянном мире,
обагрённом свинцом...
О собаке бродячей,
не нашедшей своих,
О молитвенном плаче,
переплавленном в стих,
О проклятой эпохе
разделенья и лжи,
О родившейся крохе,
что в пелёнках лежит!
О сиянии света
в каждой Божьей душе,
И о тех, чьи ответы
не услышать уже...
...На июньском рассвете
по вчерашней золе
Сны уходят, а детям
надо жить на земле!
20-21 июня 2022 г.
***
ДОЛЬЧЕ ВИТА
Смотрят на нас из окна незнакомой дачи.
Плачет, рукой зажимая рот будто рану, мама...
Избы опять горят. Ну а кони — скачут.
Красный петух прилетает на крыши храмов.
Там, в небесах, где, родные, у вас квартира,
Хочется верить, пионы цветут и розы.
А на Донбассе по школам палят «мортиры»,
А над Донбассом идут огневые грозы.
Только о чём я? Что края беде не видно,
Всё вам известно иных «Новостей» получше...
Рыжему Толе в бегах ни хрена не стыдно,
Макс-смехотун покупает супруге «гуччи».
Мы обещаем помощь. Пехота идёт в атаку.
И как тогда, в ту войну, что сейчас воскресла,
В море ложатся мины, грохочут танки,
И для могил солдатских так много места!
Что мы могли бы... Ну, что ты так смотришь, папа?
Что передать стремишься рукой и взглядом?
Ангел пришёл и луну потушил как лампу.
Летняя ночь разлила над Москвой прохладу.
Шторы закрылись, и сон наяву окончен.
Напополам разрезает экран ракета...
Вита — она безусловно и очень дольче,
И на рассвете особенно красно лето.
2 июля 2022 г.
***
Под скрип жерновов
Заметает героев и трусов
Наравне мировая метель,
Но понять, что такое быть русским,
Обязательно надо теперь.
И пока для России могилу
Закулисье готовит, спеша,
От земли исходящую силу,
Пробудясь, ощущает душа,
И свечение фресок Рублёва,
И часовни лесной тишину,
И величие Божьего слова,
И свою перед Богом вину.
Победить нас врагам невозможно
И доказано это не раз.
Если родины чувство – не ложно,
То оно просыпается в нас!
И отвага в решающей битве,
И способность стоять до конца
Подкрепляются тайной молитвой,
И она согревает бойца.
Силен русский в молитве и брани,
Если час роковой настаёт -
Но врага, что контужен и ранен,
Он, рискуя собою, спасёт.
Нынче так тяжело и натужно
Мировые скрипят жернова...
Русским быть обязательно нужно,
Потому и отчизна права.
17 февраля 2023 г.
***
А там, где родины колодцы...
А там, где родины колодцы
В прогнивших срубах чуть видны,
Где изб покинутых оконца,
Как платья скорбные, черны,
Где зарастает повиликой
За речкой-странницей погост,
И где на взгорье, велий ликом,
Поднялся дуб в огромный рост,
Там, как сокрытая святыня,
Дождями дней иссечена,
Живёт в деревне как в пустыне
Простая бабушка одна.
...А в доме сполохи герани
Манят к себе, лаская глаз.
До поздних звёзд от самой рани
Хозяйка молится о нас.
Любое дело – всё для Бога,
Устанет – Господи спаси!
Вот только где лежит дорога
К старушке этой на Руси?
27 февраля 2023 г.
***
ХОРОНИЛИ ЕЁ И МЫКАЛИ...
Перестаньте, как над покойницей,
Над Россиею причитать!
Игорь Ляпин, «Благодать»
Хоронили её и мыкали,
Продавали, как нищий вошь...
Заполошно погибель кликая,
В голенище ховали нож:
Заревую, лесную, горную –
Чтоб железом её, кнутом!..
Покидая страну озёрную,
С ней прощаться не стал никто.
Всё куражились, кляли, фыркали:
Мол, одно тебе – подыхай!
И судьба тебе: кукиш с дыркою,
А не свадебный каравай!
И мечи твои ржою точены,
И воители: тля и тлен.
И лежать тебе у обочины,
В дурнотравии до колен!
Поносили... Считали звонкие
Забугорные барыши...
А над нею шептали тонкие
Легкотелые камыши!
Золотыми тугими слитками
Осыпалась в ладони рожь,
А покров ей живыми нитками
Ткал негаданный щедрый дождь.
Озирались: чужая улица,
Всё казалось им как во сне...
А она им – а вдруг заблудятся? –
Свечку ставила на окне!
А она заревыми пальцами
Раскрывала всё шире даль
И предавших звала скитальцами,
И ей каждого было жаль.
И, прощая, молилась истово –
У иконы поклон клала,
И всё в небо тянула чистые,
В искрах солнечных, купола!
За своих забубённых детушек,
Недосчитанных в срок цыплят,
Покрывалась на праздник ветошью,
Власяницу надев до пят.
Становилась для всех юродивой,
О блаженстве печаль тая...
А звалась она просто Родиной,
И моя она, и твоя...
...Хоронили её и мыкали:
– На позор тебя, нищета!
А она и в скорбях великая,
Несравненная красота!
...Заревая, лесная, горная...
Сердцем кинешься – не обнять!
Только Богу раба покорная,
Нам до гроба святая Мать.
1 марта 2023 г.
Ольга Флярковская (Левкина Ольга Александровна) https://stihi.ru/avtor/fliarik
_________________________________________________________
143169
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 28.03.2023, 19:50 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 29.03.2023, 15:19 | Сообщение # 2730 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Я шаг за шагом, день за днём,
Живу, испепеляя душу.
Мой мир не до конца разрушен,
Ещё бурлит надежда в нём.
Весьма далёкая, признаться…
В недосягаемости снов.
Но я позволю ей остаться,
Надежде с Верою в Любовь!
***
Отпусти меня, мама, в войну играть, -
Так мальчишка просил торопливо,
Отпусти! Мы с ребятами будем стрелять,
Понарошку, а не правдиво.
Ну, пожалуйста, мама, прошу, отпусти,
А то скажут ребята, что струсил.
Ты же знаешь, я смелый… Мне б чуть подрасти,
И войны никакой не боюсь я!
Соглашалась с ним мать: «Пусть тебе повезёт!
Только лучше б играли вы в прятки».
И стремительно мчался мальчишка вперёд,
Воевать на детской площадке.
Пролетели года. Под влияньем причин
Позаброшены были игрушки.
В бывшей комнате детской, при свете свечи,
Над письмом склонилась старушка!
Пишет сын ей, солдат на военном посту,
Да вот почерк не ровный немножко:
Как же страшно, мама, играть в войну,
Если это не понарошку!
А ещё я, родная, хочу сказать,
Что я отдал бы всё на свете…
Я готов свою жизнь без остатка отдать,
Лишь бы в прятки играли дети!
Чтобы люди учились любить и прощать,
Без сомнений и без оглядки.
И чтоб больше никто не хотел воевать,
Даже на детской площадке!
***
О забытом важном
Ты помнишь, мы раньше друг другу писали,
И в ящик почтовый конверты бросали,
Неделями ждали ответ рукописный,
И вновь отправляли бумажные письма.
Ты помнишь, мы раньше друг другу звонили,
И на телеграф в выходные ходили.
Болтали в кабинках стеклянных и тесных,
Делились горой новостей интересных.
Ты помнишь, мы числились все в картотеке
Читального зала и библиотеки,
Ходили в музеи, театры, кино,
С азартом играли в лото, домино.
Ты помнишь, мы раньше сверялись часами,
В назначенном месте встречались с друзьями,
Из местных газет вырезали заметки,
Давали рецепты подруге соседке.
В больших словарях мы искали ответы,
В смешных бигуди заполняли анкеты,
С морей привозили в подарок ракушки,
И спали валетом на раскладушке.
Всегда до зарплаты рублём выручали,
Проблемы легко и совместно решали,
Смеялись, общались и даже ругались,
Но снова за общим столом собирались.
Всё было так просто, всё было так важно,
Куда же всё это исчезло однажды?
Ведь дело не в старых, отживших вещах,
И не в ностальгических тех временах.
Мы все изменились, чужими вдруг стали,
Общаться друг с другом совсем перестали.
Зависли в аккаунтах разных сетей,
И служим примером для наших детей.
Крутые смартфоны себе покупаем,
А близким при этом звонить забываем.
Совсем перестали читать и писать,
И смайлами стали слова заменять.
Живём и не знаем кто наши соседи,
Знакомимся чаще всего в интернете.
Не чувствуем меру кредитным деньгам,
Становимся жертвами разных реклам.
Быть может пора это всё прекратить?
Самим измениться и мир изменить.
Открыть в себе то, что не знает цены,
Не просто ведь души нам Богом даны.
***
Фантазия со вкусом Советского детства
Мне б сейчас чего-нибудь эдакого детского...
Кукурузных палочек, как в стране былой.
Я б себя представила школьницей Советскою,
С пионерский галстуком, с ранцем за спиной.
Я бы стала лидером, не совсем отличницей,
Но вот хорошисткою точно бы была.
Марки собирала бы, прыгала б в резиночки,
Нравился б задира мне из 6-ого "А".
Где-то в третьей четверти он бы стал примернее,
На линейках с горном бы первым шёл в строю.
Ну, а в День рождения подарил бы книгу мне...
Жалко, что не палочки. Я их так люблю.
А на переменах бы я давала списывать,
За ириски вкусные "Ключик золотой".
Он мечтал быть лётчиком, ну а я актрисою,
Или же певицею... Главное, - звездой!
Он бы провожал меня, угощал мороженым,
За копейку воду мне с газом покупал.
Приносил по праздникам лимонад с пирожным...
В общем, голодать бы мне точно не давал.
Бубликами, вафлями, пряниками русскими,
Разными печеньями б угощал меня.
Курабье, конечно же, самые превкусные,
А ещё зефир, и мармелад, и пастила.
А в кафе коктейли бы пили мы молочные,
Или сок берёзовый, - тоже ничего.
В булочной стояли бы, - там всё время очередь,
За плетёнкой маковой или калачом.
В общем, подружились бы, в этом нет сомнения,
Мелом выводили бы с плюсом имена.
Я бы даже торт ему "Муравейник" сделала.
Если б только палочки все не сожрала.
Как-то черезчур уже я всего придумала,
От избытка сладкого слиплось бы внутри.
Я б не влезла в платьице, то что было куплено
Мне на вырост, кажется, года так на три.
Всё, пора завязывать, а то мой поклонничек
Бросит и найдёт себе девочку стройней.
А ведь я хотела лишь кукурузных палочек.
Нужно фантазировать чуточку скромней.
***
Пока мы спали, началась Война.
Та, о которой восемь лет молчали...
Бомбили, но в упор не замечали,
Для всех была невидимой она.
А люди криком помощи просили,
В подвалах жили, прятали детей.
Их вовсе не жалели... Их винили!
И стравливали в сводках новостей.
Мы спали... Восемь лет мы просто спали!
Но ровно за неделю до весны,
Тревожные сирены зазвучали
Той самой "незамеченной" Войны.
И под ногами почва содрогнулась,
От взрывов, артобстрелов, канонад...
Планета в диком ужасе проснулась
От криков Украины: "Нас бомбят" !
Гастомель, Сумы, Харьков, Мелитополь,
Херсон, Одесса, Киев наконец...
Воочию столкнулись с катастрофой,
Знакомой городам - Луганск, Донецк.
Заговорили все одновременно
Призывами Войну остановить.
И вспомнили внезапно и мгновенно
О том, что мы желаем в мире жить!
В том самом мире, что нам подарили
Отцы и деды... Наш бессмертный полк.
Как вышло так, что мы о нём забыли?
Не вынесли из прошлого урок?
Ведь мы же люди! Братья и славяне!
Как мы могли все это допустить?
Все розни и размолвки между нами
Должны мы наконец остановить.
Поговорить спокойно, без оружий,
Обняться и поклясться на века:
Что будет мир! Он всем нам очень нужен!
Цена его уж слишком высока!
26.02.2022
***
Какой же вирус нас накрыл,
Что разум обратил в безумство?
Мы обесцветили наш мир,
И обесценили все чувства.
Наш светлый путь завёл в тупик,
Где ложь, вражда, кровопролитие.
Всё чаще гул и громче крик,
Имён всё больше на граните.
Смешались с дымом облака,
Переодели маски в каски,
И горечь даже в ДНК
Оставил этот червь заразный.
И правды нет, и веры нет,
Вакцин от Войн не бывает.
Уже надет бронежилет,
Но глубже вирус проникает.
А небо ближе и мрачней,
Вопросом давит обобщённым:
Куда ещё... Ещё страшней?
Лишь в ад всем миром прокажённым.
Мы можем всё остановить.
Поставить точку на терроре.
Чтоб наконец-то исцелить
Весь шар земной от страшной хвори.
5. 05. 2022
***
[Очередь за ложью]
Какое совпадение, мадам,
Вы тоже стали в очередь за ложью?
Я просто отлучалась по делам...
А так я перед вами, если можно.
Здесь хватит всем, не нужно так спешить.
Я знаю, я брала неоднократно.
Вам ношу эту некуда сложить?
В предательство вместите аккуратно.
Вас что, не предавали? Не беда.
Как новичку предложат вам в подарок.
Для склада это просто ерунда,
Таких товаров, в принципе, достаток.
Вам главное суметь всё унести,
А если вдруг не знали упреканий,
Здесь лучшие, - таких вам не найти.
Берите оптом и без колебаний.
Ах, да... И разговоры за спиной!
Возможно их вам выдадут по блату.
Ассортимент, как видите, большой,
И всё за символическую плату.
Кредит доверия и ценности души:
Любовь, забота, помощь и поддержка.
Поверьте, это сущие гроши
За то, чем вы наполните тележку.
Смотрю, мадам, что вам уж невтерпёж,
Ну, ладно, уступлю вам своё место.
Я выкупила раньше эту ложь,
Так что - жё нэ суи паз интэрэси.
30. 06. 2022
/ Je ne suis pas interessee - Я не заинтересована /
***
Нет... Никто не придёт... И никто не спасёт тебя.
Каждый сам за себя! Всем на всё наплевать!
В мире каменных лиц не предвидится оттепель,
А сердцам было сказано - Не открывать!
Все давно подключились к системе реальности.
Никого не смущает сплошной пофигизм.
Ты ещё не в сети? Значит не в безопасности!
Логин выдумай сам, а пароль - эгоизм!
Ты привыкнешь... Не сразу, но точно получится.
Будешь не отдавать, а как все потреблять.
И, глядишь, твоя вера в любовь улетучится,
Не придётся тебя от чего-то спасать.
Ты один в этом странном, наивном обличье.
Целый мир изменился, а ты не успел.
Все давно поменяли лицо на двуличие.
Так чего ты один против мира хотел?
Нет... никто не придёт! И никто не спасёт тебя!
Не надейся. Не жди. А карабкайся сам!
Ты про души людей намекал что-то вроде бы?
Нынче не с кем тебе говорить по душам.
25. 01. 2023
***
Ты сказал мне однажды, что я смогла бы тебя полюбить!
Может быть... может быть... Жаль, что не в этой жизни.
Ну, давай поразмыслим...
Ты безусловно хорош,
Красив, подтянут и уверенно себя ведёшь, но...
Меня цепляет другое:
Моё состояние рядом с тобою.
И это не влюбленность и не физическое влечение.
Это ощущение себя, как будто в детстве.
Где ты не знаешь причин и следствий,
Где непосредствен и безответствен...
В общем, без заморочек.
Ты скажешь с улыбкой: "Ну, точно
Могла бы влюбиться".
Хотя и знаешь, что не придётся.
Всё оборвётся и скоро закончится!
А жизнь продолжится.
В реальном мире, в моей квартире 54
Всё будет так, как и прежде было:
Спокойно, правильно, не торопливо.
Где много музыки, книг, медитаций,
Где каждое утро не раньше 12-ти
И неизменно всё на своих местах:
Одежда, сложенная в шкафах,
Духи на полке, ключи в дверях...
Только меня не станет,
Той, которая всей правды не знает
И этим нравится сама себе.
Я буду очень скучать по тебе!
27. 02. 2023
***
На старых черно-белых фотоснимках,
Старательно приклеенных в альбом,
Как будто оживают все картинки
Сквозь выцветший с годами монохром.
Где папа с мамой снова молодые,
А мы ещё по-детски так чисты,
Все близкие по-прежнему живые,
Улыбчивы, открыты и просты.
И память наша по щелчку затвора,
Возобновляет краски прошлых лет.
Там ласковей моря и выше горы,
И ночью в небе звёздам счёту нет.
Там песни у палатки под гитару,
Парадный марш под звонкий барабан,
Там чарочку подносят юбиляру,
И пляшут все на свадьбе под баян.
Друзей и одноклассников там лица,
И юности студенческий задор,
Товарищи там все и сослуживцы,
И дом любимый, улица и двор.
Там воду пьём мы прямо из-под крана,
Там спрятаны под ковриком ключи.
Коленки в вечных садинах и ранах
Обычно подорожник нам лечил.
Там яблоки сочней и ароматней,
Подсолнухи желтее на полях.
Там ближе всё, роднее и приятней,
В надеждах, целях, планах и мечтах.
Конечно, времена сейчас другие,
Не нужно больше плёнку проявлять.
Все камеры давно уж цифровые
И можно телефонами снимать.
И хоть получше качество картинки
В техническом прогрессе наших дней.
От старых и потрескавшихся снимков
Душе намного ярче и теплей.
В них трепетное чувство ностальгии,
Ведь в черно-белых красках сквозь года,
Живут воспоминания цветные,
Живут и не тускнеют никогда.
27. 02. 2023
Виталия Роменская https://stihi.ru/avtor/avitaliya1
________________________________________
143192
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 29.03.2023, 15:20 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 04.04.2023, 23:07 | Сообщение # 2731 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| “Сонэчко!” – нежно коснулась
Трепетных струн Украина.
Юность, далекая юность
Встала опять возле тына.
Солнце застыло в зените,
В воздухе – горечь полыни,
Марева зыбкие нити
Делают вещи иными.
Плавают томно стрекозы,
Смотрят, чтоб все было в норме,
Рядом, за кучей навоза,
Курица выводок кормит.
Спелое яблоко звонко
Шлепнуло боком о землю,
Завороженно буренка
Звону подойника внемлет.
Брызнут пахучие струи,
Первая кружка для внучки,
С легкой улыбкой подую
В белую пенную тучку.
“Сонэчко, - бабушка скажет, -
Дуже тонэнька ты стала”.
Фартук неспешно повяжет.
“Можэ, видризаты сала?”
Голос смешинкой взорвется,
Высветив прошлого дали.
Словом, лучистым от солнца,
Вы меня снова назвали.
***
У ПАМЯТНИКА
ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ
Село Дерновое, Сумская область, Украина
В годы Великой Отечественной войны погибло 116 моих
односельчан.
В их числе: 32 – Давыдовы, 23 – Басовы, 14 – Бобровы.
Все они в той или иной степени мои родственники,
в частности, среди погибших два родных дяди – Давыдов
Тихон Прокофьевич и Давыдов Михаил Прокофьевич и муж
моей тёти – Басов Ефим Иванович.
Здесь когда-то, над этой кручей,
Диким тёрном заросшей плотно,
Встал мой предок стопой могучей
Основательно и добротно.
И Давыдов, Бобров и Басов
(Три фамилии – три опоры),
Как герои былинных сказов
Выходили с врагами «спорить».
Защищали родную землю,
А потом возвращались в поле
И, наказу природы внемля,
Там работали до мозолей.
Я стою на высоком месте,
Вглубь столетий стремясь проникнуть.
Вижу волны лихих нашествий,
Вижу: люди за правду гибнут…
Озираюсь. Солдат склонился,
Возлагает венок погибшим.
Вьются вороны скорбных мыслей –
Вдруг он станет однажды лишним.
Больше ста человек на плитах
У подножия обелиска
Перечислены мелким шрифтом.
Треть – Давыдовы в этих списках.
Я – Давыдова. Предки славой
Не единожды род венчали
И гордились своей державой.
Что ж терзают меня печали?!
Над Украйной зловещим дымом
Флаги чёрные яро вьются.
Как такое стерпеть родимым,
Как в гробу не перевернуться?
А стервятники смотрят хищно.
Их добыча – сама Победа.
И всё чаще и громче слышно
Словоблудье на грани бреда.
Но пока сохраняют люди
Свою память хотя бы где-то
Будет вера и правда будет
Пробиваться лучами света.
И Давыдов, Бобров и Басов,
У небесного встав редута,
Неизбывным боезапасом
Защищать свою землю будут.
***
Сжалась, как шагреневая кожа,
Бывшая великая страна.
Стала абсолютно непохожей
На себя просторную она.
Только за распахнутой калиткой
Колобродит прежний соловей...
А туман распухшею улиткой
Зелень объедает у ветвей.
Цепь тревожно звякнула в колодце.
Долго ль новой ожидать беды?
Бог помилуй! – может быть придется
Нам платить за капельку воды.
За духмяный вересковый воздух,
За журчанье вешнего ручья.
Слюнки истекают у прохвостов –
Изобильна родина моя.
Выйду на рубиновом рассвете
Травы-изумруды собирать,
Рябью набежит жемчужный ветер
На аквамариновую гладь.
Все это дарилось, безусловно,
Мне, рожденной в звонкой красоте.
Пусть и дальше соловей влюбленный
Трели рассыпает в темноте.
***
Здесь когда-то молочные реки
Меж кисельных текли берегов.
В двадцать первом свихнувшемся веке –
Только отзвук случайных шагов.
Ветер западный вольно гоняет
Шелуху долгих брошенных лет,
И дырявая крыша роняет
На пол горсточку медных монет,
Да лопух прорастает сквозь стену.
Он давно-предавно мне знаком.
Помню, как напоили отменным
Нежно-сладким парным молоком.
Я тогда возвращалась из леса
Мимо фермы – коротким путем.
И накрыло колючей завесой –
Неожиданно ярым дождем.
Град впивался в озябшее тело,
Словно дикий безжалостный зверь.
Повезло! На бегу разглядела,
Как приют, приоткрытую дверь.
Притомившаяся молодуха
Протянула кувшин с молоком,
А собака с оторванным ухом
Норовила лизнуть языком.
Выходило смешно и нелепо.
Словно горсть золотого тепла,
Мне краюху домашнего хлеба,
Улыбаясь, доярка дала.
Ноздреватого, с легкой кислинкой.
Помню запах его и теперь.
Он пророс во мне каждой крупинкой,
Заглушая печаль от потерь.
***
"Ты жива еще, моя старушка..."
С. Есенин
Пока живут еще старушки
В людьми забытых деревнях
И травы собранные сушат
В духмяных сумрачных сенях,
Где вековые ароматы
Полыни, мяты, чабреца,
На лавке старые ушаты
И рядом свежий след корца...
Жива Россия. И пред Богом
Все еще может быть права.
И говорят ему о многом
Молитвы простенькой слова:
"Подай сегодня хлеб насущный,
И отведи от нас беду.
Тот срок земной, что нам отпущен,
Дозволь прожить с собой в ладу..."
А вверх уходит – Боже Правый –
Спаси Россию в трудный час!
Многострадальная Держава
Опять в плену. На этот раз
Не мчится с гиканьем и свистом
Лихой раскосый басурман,
Не танк ползет, не слышен выстрел,
Лишь клевета, подлог, обман.
Растет невидимая сила
И разрушает изнутри.
Благословенная Россия
В незримом пламени горит.
И с каждым днем огонь все выше,
Неистов, яростен и лют.
Но вечевой набат не слышит
Беспечный православный люд.
И лишь отдельные моленья
Осанну Вышнему поют.
Стоит старушка на коленях -
Спасает Родину свою.
***
Бегут деревья за окном вагона,
Сжимает сердце острая печаль,
И серая распластанность перрона
Неумолимо ускользает вдаль.
Сквозь стук колес размеренно унылый
Летит к окну зеленая звезда,
А в памяти встает и то, что было,
И то, чего не будет никогда.
***
Ну, здравствуй, Харьков. Я рада встрече,
А ты, скажи мне, ей тоже рад?
Тогда зачем же, как можно крепче,
Ты вяжешь сети сплошных преград.
Здесь моя юность живёт как прежде
В тенистом парке и на Сумской
И вновь девчонкой в цветной одежде
Вдруг исчезает в толпе людской.
А пограничник своим «допросом»
Отрезать хочет от жизни часть,
Угрюмо ставит силки вопросов,
Я усмиряю рассудком страсть.
Внутри клокочет негодованье,
Но улыбаюсь – «держу лицо».
В душе, на «мове» национальной
Кляну безбожно всех подлецов.
Разъединило страну на части
Однажды разных мастей жульё,
Плодов Майдана ползёт ненастье
И сеет морок и забытьё.
Змеёй кусачей лежит граница,
Без церемоний не перейти.
Хочу вздремнуть я – пускай приснится,
Что больше нет мне преград в пути.
***
Прикоснулась к корням,
Вновь припала к истокам,
Напоили меня
Здесь живительным соком
Эти лес и река,
Что достались в наследство
На года, на века
От далекого детства,
Где за рыжей горой
Притаилось болото,
Там ночами порой
Плакал жалобно кто-то.
Мне печаль иногда
В сердце снова стучится,
И неясно тогда,
Плачу я или птица.
***
Висят подзорами туманы
Над речкой Сасенкой с утра.
Я снова в домике саманном,
И, будто, не было утрат,
И сердцу милая Украйна –
Лишь окоем большой земли.
На расстояниях бескрайних
Еще границы не легли.
Еще звучат былые песни,
Веселье плещет через край,
И в танцевальном круге тесно,
– Эй, гармонист, давай играй!
И бабы лучшие наряды,
Чтоб в поле выйти, достают.
И – не поверите! – но радость
Приносит бескорыстный труд.
И за расхристанным туманом,
Попить присевшим у реки,
Растут во ржи косынкой рваной
И бредят Русью васильки.
***
В судьбе России – музыка гармоней,
Её глубинный культовый мотив.
Гармонь живёт не в вычурном салоне.
Всю гамму жизни в звуках воплотив,
Она вмещает русские просторы,
Историю накопленных веков,
Морозные изящные узоры
И шёпот заповедных родников
Дубов могучих грозное ворчанье
И песни белоствольные берёз.
Гармонь собой без устали венчает
Разливы счастья и потоки слёз.
О, сколько раз она спасала души,
В отчаянье не позволяя впасть.
А что сейчас? Её напевы глушит
Технических нововведений власть.
Приходят в жизнь теперь совсем другие
Далёкие и близкие шумы.
Но вдруг пробьются звуки дорогие –
Гармони русский голос слышим мы.
Неважно где – на улице, под крышей
В концертном зале или у пруда,
В руках затейливых гармошка дышит
Святой любовью к родине всегда.
***
Мои строки родом из детства,
Где маслята в сосновом бору,
Где петух на высоком насесте
Во все горло орет поутру.
Моя радость родом из речки,
Когда тело с обрыва вниз
Вдруг уходит под воду свечкой,
Разметав мириады брызг.
Моя нежность родом из леса,
Где в высокой траве утонув,
Уплываешь, не чувствуя веса,
В неба синюю глубину.
Мое счастье родом из поля,
Где волнуется спелая рожь.
И, вдохнув полной грудью воли,
Ты в нее, не спеша, идешь.
А сама я родом из света,
Меня держит чистая высь.
И за это, за все за это
Я спасибо твержу всю жизнь.
***
Вновь солнце ласкает косыми лучами
Февральский безоблачный день,
И светом с небес прогоняет печали
Нависшую мрачную тень.
Печали моей о судьбе Украины,
Стоящей на стыке дорог,
Опутанной сетью густой паутины,
Чьё имя – коварство, враньё и подлог.
Горючей печали о русской судьбине
Суровой издревле. И вновь
Скоплением ягод на горькой рябине
Алеет славянская кровь.
И падают капли на русскую землю,
Как было не раз и не два.
Тому, что случилось, с тревогою внемлю,
Теряя от боли слова.
И в полном молчании к небу взываю,
И милости Божьей прошу.
На страже вся память моя родовая,
Которую в сердце ношу.
***
Как стыдно и горько. Бежали от Харькова,
Оставив поверивших нам.
А в это же время салютами яркими
Светилась, гремела страна.
И лобстеров кушало племя бесчестное
В московских хмельных кабаках,
Когда вокруг Харькова, в земли окрестные,
Каратели сеяли страх.
Здесь хохот стоял под большими софитами,
И зрелищ несли ассорти.
Помилуй нас, Боже! С такими элитами
Как можно куда-то идти?!
***
На зеленой планете
Под названьем Земля
Неразумные дети
Вновь из пушек палят.
И кричат: «Я сильнее,
Это я победил!»
А от боли немея,
Выбиваясь из сил,
К ним взывает планета:
- Пощадите меня!
Я невзвидела света
От стрельбы и огня.
Стали полны озера
Кровью вместо воды,
Открывается взору
След не той борозды,
Что оставит на пашне
Юный пахарь весной,
Здесь воронки кричащей
Снова ширится вой.
И зияют глазницы
В опустевших домах,
И границы, границы
На земле и в умах.
Сытникова Антонина Семёновна
___________________________
143458
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 04.04.2023, 23:08 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 05.04.2023, 15:44 | Сообщение # 2732 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Если прошлое не отпускает, то оно ещё не прошло!
"МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ?"
- Можно попросить Нину? - сказал я.
- Это я, Нина.
- Да? Почему у тебя такой странный голос?
- Странный голос?
- Не твой. Тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
- Не знаю.
- Может быть, мне не стоило звонить?
- А кто говорит?
- С каких пор ты перестала меня узнавать?
- Кого узнавать?
Голос был моложе Нины лет на двадцать. А на самом деле Нинин голос
лишь лет на пять моложе хозяйки. Если человека не знаешь, по голосу его
возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев. Или долго
остаются молодыми.
- Ну ладно, - сказал я. - Послушай, я звоню тебе почти по делу.
- Наверно, вы все-таки ошиблись номером, - сказала Нина. - Я вас не
знаю.
- Это я, Вадим, Вадик, Вадим Николаевич! Что с тобой?
- Ну вот! - Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. -
Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича.
- Простите, - сказал я и повесил трубку.
Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои
пальцы не хотели звонить Нине. И набрали не тот номер. А почему они не
хотели?
Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет. Крепких как сигары. Их,
наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине?
Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее
нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в
театре, потому что на тысячу лет не была в театре.
Я позвонил Нине.
- Нина? - сказал я.
- Нет, Вадим Николаевич, - ответила Нина. - Вы опять ошиблись. Вы
какой номер набираете?
- 149-40-89.
- А у меня Арбат - один - тридцать два - пять три.
- Конечно, - сказал я. - Арбат - это четыре?
- Арбат - это Г.
- Ничего общего, - сказал я. - Извините, Нина.
- Пожалуйста, - сказала Нина. - Я все равно не занята.
- Постараюсь к вам больше не попадать, - сказал я. - Где-то
заклинилось, вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает.
- Да, - согласилась Нина.
Я повесил трубку.
Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в
перепутавшихся линиях на станции. И я дозвонюсь. "Двадцать два часа
ровно", - сказала женщина по телефону "сто". Я вдруг подумал, что если ее
голос записали давно, десять лет назад, то она набирает номер "сто", когда
ей скучно, когда она одна дома, и слушает свой голос, свой молодой голос.
А может быть, она умерла. И тогда ее сын или человек, который ее любил,
набирает сотню и слушает ее голос.
Я позвонил Нине.
- Я вас слушаю, - сказала Нина молодым голосом. - Это опять вы, Вадим
Николаевич?
- Да, - сказал я. - Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы
только не сердитесь, не думайте что я шучу. Я очень тщательно набирал
номер, который мне нужен.
- Конечно, конечно, - быстро сказала Нина. - Я ни на минутку не
подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич?
- Нет, - сказал я.
- У вас важное дело к Нине?
- Нет, я просто хотел узнать, дома ли она.
- Соскучились?
- Как вам сказать...
- Я понимаю, ревнуете, - сказала Нина.
- Вы смешной человек, - сказал я. - Сколько вам лет, Нина?
- Тринадцать. А вам?
- Больше сорока. Между нами толстенная стена из кирпичей.
- И каждый кирпич - это месяц, правда?
- Даже один день может быть кирпичом.
- Да, - вздохнула Нина, - тогда это очень толстая стена. А о чем вы
думаете сейчас?
- Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с
вами.
- А если бы вам было тринадцать лет или даже пятнадцать, мы могли бы
познакомиться, - сказала Нина. - Это было бы очень смешно. Я бы сказала:
приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в семь
часов ровно. И мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?
- Как когда.
- И у Пушкина?
- Не совсем. Мы как-то встречались у "России".
- Где?
- У кинотеатра "Россия".
- Не знаю.
- Ну, на Пушкинской.
- Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю
Пушкинскую площадь.
- Неважно, - сказал я.
- Почему?
- Это давно было.
- Когда?
Девочке не хотелось вешать трубку. почему-то она упорно продолжала
разговор.
- Вы одна дома? - спросил я.
- Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь
останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск.
- Ага, - сказал я. - Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.
- Вы со мной заговорили как с ребенком.
- Нет, что ты, говорю с тобой, как со взрослой.
- Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать с семи часов. До
свидания. И больше не звоните своей Нине. А то опять ко мне попадете. И
разбудите меня, маленькую девочку.
Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход
прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В
последний раз я решил позвонить Нине уже часов в одиннадцать, целый час
занимал себя пустяками. И решил, что, если опять попаду на девочку, повешу
трубку сразу.
- Я так и знала, что вы еще раз позвоните, - сказала Нина, подойдя к
телефону. - Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И
читать нечего. И спать еще рано.
- Ладно, - сказал я. - Давайте разговаривать. А почему вы так поздно
не спите?
- Сейчас только восемь, - сказала Нина.
- У вас часы отстают, - сказал я. - Уже двенадцатый час.
Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.
- Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас, - сказала она.
- Сейчас октябрь, и потому стемнело. И вам кажется, что уже ночь.
- Теперь ваша очередь шутить? - спросил я.
- Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет.
- Почему врет?
- А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль.
- Нет, декабрь, - сказал я. И почему-то, будто сам себе не поверил,
посмотрел на газету, лежавшую рядом, на диване. "Двадцать третье декабря"
- было написано под заголовком.
Мы помолчали немного, я надеялся, что она сейчас скажет "до
свидания". Но она вдруг спросила:
- А вы ужинали?
- Не помню, - сказал я искренне.
- Значит, не голодный.
- Нет, не голодный.
- А я голодная.
- А что, дома есть нечего?
- Нечего! - сказала Нина. - Хоть шаром покати. Смешно, да?
- Даже не знаю, как вам помочь, - сказал я. - И денег нет?
- Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом, что купишь?
- Да, - согласился я. - Все закрыто. Хотите, я пошурую в
холодильнике, посмотрю, что там есть?
- У вас есть холодильник?
- Старый, - сказал я. - "Север". Знаете такой?
- Нет, - сказала Нина. - А если найдете, что потом?
- Потом? Я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и
возьмете.
- А вы далеко живете? Я - на Сивцевом Вражке. Дом 15/25.
- А я на Мосфильмовской. У Ленинских гор. За университетом.
- Опять не знаю. Только это неважно. Вы хорошо придумали, и спасибо
вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не
думайте.
- Если бы я помнил, - сказал я. - Сейчас перенесу телефон на кухню, и
мы с вами посмотрим.
Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.
- Итак, - сказал я, - открываем холодильник.
- А вы можете телефон носить за собой? Никогда не слышала о таком.
- Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?
- В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?
- Значит, так... что тут, в пакете? Это яйца, неинтересно.
- Яйца?
- Ага. Куриные. Вот, хотите, принесу курицу? Нет, она французская,
мороженая. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с
работы. Лучше мы вам возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины,
шестьдесят копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?
- Да, - сказала Нина совсем тихо. - Зачем вы так шутите? Я сначала
хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.
- Это еще почему? В самом деле так проголодались?
- Нет, вы же знаете.
- Что я знаю?
- Знаете, - сказала Нина. Потом помолчала и добавила: - Ну и пусть!
Скажите, а у вас есть красная икра?
- Нет, - сказал я. - Зато есть филе палтуса.
- Не надо, хватит, - сказала Нина твердо. - Давайте отвлечемся. Я же
все поняла.
- Что поняла?
- Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?
- Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас,
полдвенадцатого, смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И
еще виден "Мосфильм". И пожарная команда. И железная дорога. Вот по ней
сейчас идет электричка.
- И вы все видите?
- Электричка, правда, далеко идет. Только видна цепочка огоньков,
окон!
- Вот вы и врете!
- Нельзя так со старшими разговаривать, - сказал я. - Я не могу
врать. Я могу ошибаться. Так в чем же я ошибся?
- Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.
- Что же она, невидимая, что ли?
- Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна
не выглядывали.
- Почему? Я стою перед самым окном.
- А у вас в кухне свет горит?
- конечно, а так как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня в
нем перегорела лампочка.
- Вот, видите, я вас уже в третий раз поймала.
- Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала.
- Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули
затемнение, то потушили свет. Правильно?
- Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?
- Ой-ой-ой! Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?
- Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток... Я не об этом.
- И я не об этом... Постойте, а вы инвалид?
- К счастью, все у меня на месте.
- У вас бронь?
- Какая бронь?
- А почему вы тогда не на фронте?
- Вот тут я в первый раз только заподозрил неладное. Девочка меня
вроде бы разыгрывала. Но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть
было меня не испугала.
- На каком я должен быть фронте, Нина?
- На самом обыкновенном. Где все. Где папа. На фронте с немцами. Я
серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может
быть, вы не врете о курице и яйцах?
- Не вру, - сказал я. - И никакого фронта нет. Может быть, и в самом
деле мне подъехать к вам?
- Так и я в самом деле не шучу! - почти крикнула Нина. - П вы
перестаньте. Мне сначала было интересно и весело. А теперь стало как-то не
так. Вы меня простите. Как будто вы не притворяетесь, а говорите правду.
- Честное слово, девочка, я говорю правду, - сказал я.
- Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет. Дров мало. И
темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть ой
как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала.
И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос:
- Вы почему не на фронте?
- На каком я могу быть фронте? - Уже и в само деле шутки зашли
куда-то не туда. - Какой может быть фронт в семьдесят втором году!
- Вы меня разыгрываете?
Голос опять сменял тон, был он недоверчив, выл он маленьким, три
вершка от пола. И невероятная, забытая картинка возникла перед глазами -
то, что было с мной, но много лет, тридцать или больше лет назад. когда
мне тоже было двенадцать лет. И в комнате стояла буржуйка. И я сижу не
диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это было керосиновая лампа? И
курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в
романах, хотя я тогда не думал о курице...
- Вы почему замолчали? - спросила Нина. - Вы лучше говорите.
- Нина, - сказал я. - Какой сейчас год?
- Сорок второй, - сказала Нина.
И я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она
не знает кинотеатра "Россия". И телефон у нее только из шести номеров. И
затемнение...
- Ты не ошибаешься? - спросил я.
- Нет, - сказала Нина.
Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей
не тринадцать лет? Может, она, сорокалетняя женщина, заболела еще тогда,
девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?
- Послушайте, - сказал я спокойно. Не вешать же трубку. - Сегодня
двадцать третье декабря 1972 года. Война кончилась двадцать семь лет
назад. Вы это знаете?
- Нет, - сказала Нина.
- Вы знаете это. Сейчас двенадцатый час... Ну как вам объяснить?
- Ладно, - сказал Нина покорно. - Я тоже знаю, что вы не привезете
мен курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает.
- Почему?
- Во Франции немцы.
- Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только если туристы. Но
немецкие туристы бывают и у нас.
- Как так? Кто их пускает?
- А почему не пускать?
- Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят! Вы, наверно, просто
вредитель или шпион?
- Нет, я работаю в СЭВе, Совете Экономической Взаимопомощи. Занимаюсь
венграми.
- Вот и опять врете! В Венгрии фашисты.
- Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия -
социалистическая республика.
- Ой, а я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки
все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет
потом. Придумайте что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И
извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.
И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил
себе, как сижу в этом самом сорок втором году, как не хочется узнать,
когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял
хлебную карточку за октябрь. И сказал:
- Мы победим фашистов 9 мая 1945 года.
- Не может быть! Очень долго ждать.
- Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем
второго мая. Даже будет такая медаль - "За взятие Берлина". А Гитлер
покончит с собой. Он примет яд. И даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы
вынесут его тело во двор имперской канцелярии, и обольют бензином, и
сожгут.
Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно
повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался,
когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее
доверия, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру,
поведав о Юрии Гагарине и о новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав
о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже
вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство
реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и
слушали. Только они были голодные как черти. И дела у Вадика обстояли даже
хуже, чем у Нины; хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с
матерью придется жить на одну ее карточку, рабочую карточку, потому что
Вадик посеял карточку где-то во дворе, и только через пятнадцать лет он
вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться потому что
карточку можно было найти даже через неделю; она, конечно, свалилась в
подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И
я сказал, уже потом, когда Нина устала слушать, то что полагала хорошей
сказкой:
- Ты знаешь Петровку?
- Знаю, - сказала Нина. - А ее не переименуют?
- Нет. Так вот...
Я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть
подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь сорок второго года, середина
месяца, то в подвале, вернее всего лежит хлебная карточка. Мы там, во
дворе, играли в футбол, и я эту карточку потерял.
- Какой ужас! - сказала Нина. - Я бы этого не пережила. Надо сейчас
же ее отыскать. Сделайте это.
Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она,
ни я не понимали, в каком году мы находимся, - мы были вне времен, ближе к
ее сорок второму году.
- Я не могу найти карточку, - сказал я. - Прошло много лет. Но если
сможешь, зайди туда, подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь,
что карточку обронила ты.
И в этот момент нас разъединили.
Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал:
- Это 148-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе.
- Вы ошиблись номером, - сказал я.
- Извините, - сказал женский голос равнодушно.
И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно
было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получалась
в общем чепуха...
- Да, - сказал голос Нины. Другой Нины.
- Это вы? - спросил я.
- А, это ты, Вадим? Что тебе не спиться?
- Извини, - сказал я. - Мне другая Нина нужна.
- Что?
Я повесил трубку и снова набрал номер.
- Ты сума сошел? - спросила Нина. - Ты пил?
- Извини, - сказал я и снова бросил трубку.
Теперь звонить бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои
места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат - три, нет, Арбат - один -
тридцать два - тридцать... Нет, сорок...
Взрослая Нина позвонила мне сама.
- Я весь вечер сидела дома, - сказала она. - Думала, ты позвонишь,
объяснишь, почему ты вчера так себя вел. Но ты, видно, совсем сошел с ума.
- Наверно, - согласился я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных
разговорах с другой Ниной.
- Какая еще другая Нина? - спросила она. - Это образ? Ты хочешь
заявить, что желал бы видеть меня иной?
- Спокойной ночи, Ниночка, - сказал я. - Завтра все объясню.
...Самое интересное, что у этой странной истории был не менее
странный конец. На следующий день утром я поехал к маме. И сказал, что
разберу антресоли. Я три года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я
знаю, что мама ничего не выкидывает. Из того, что, как ей кажется, может
пригодиться. Я копался часа полтора в старых журналах, учебниках,
разрозненных томах приложений к "Ниве". Книги были не пыльными, но пахли
старой, теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год.
книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц,
углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга было настолько знакома,
что казалось странным, как я мог ее забыть, - если бы не разговор с Ниной,
так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как
перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную
смерть.
Четыре первые цифры известны. Г-1-32... И еще я знал, что телефон,
если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в
переулке Сивцев Вражек, в доме 15/25. Никаких шансов найти тот телефон не
было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама
ничего не поняла, улыбнулась только проходя мимо, и сказала:
- Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, зачитаешься через десять
минут. И уборке конец.
Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон.
Двадцать лет назад он стоял в той же квартире, что и в сорок втором году.
И записан был на Фролову К.Г.
Согласен, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но
вполне допускаю, что процентов десять вполне нормальных людей, окажись они
на моем месте, делали бы то же самое. и я поехал на Сивцев Вражек.
Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жала ли
они здесь? Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила
Фроловых, с ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол.
Уже стемнело. По новому району, среди одинаковых панельных башен
гуляла поземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских
кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить
курицу и принести ее, как обещал, хоть и с двадцатилетнем опозданием. Но я
хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И по тому, как
гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали.
Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в
дверь рядом.
- Скажите, Фролова Нина Сергеевна - ваша соседка?
Парень в майке, с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно:
- Они уехали.
- Куда?
- Месяц как уехали на Север. До весны не вернуться. И Нина Сергеевна,
и муж ее.
Я извинился, начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве,
вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения.
И тут дверь сзади снова растворилась.
- Погодите, - сказал тот же парень. - Мать что-то сказать хочет.
Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.
- А вы кем ей будете?
- Так просто, - сказал я. - Знакомый.
- Не Вадим Николаевич?
- Вадим Николаевич.
- Ну вот, - обрадовалась женщина, - чуть было вас не упустила. Она бы
мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: не прощу. И записку на
дверь приколола. Только записку, наверно, ребята сорвали. Месяц уже
прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что
постарается вернуться, но далеко-то как...
Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас
открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину
пытала: кто он тебе? И Нина тоже сказала ей: "Просто знакомый".
Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.
"Дорогой Вадим Николаевич!
Я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским
мечтам, которые и себе уже кажутся только мечтами. Но ведь хлебная
карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать..."
Кир Булычёв
___________
И с каждым днём будущее кажется чуть мрачнее, а вот прошлое, со всей грязью, что там была, – светится всё ярче.
Фильм Временная связь (2020) По рассказу Кира Булычёва
> https://www.youtube.com/watch?v=WCoRBdjKRdE
Снято по рассказу Кира Булычёва «Можно попросить Нину?».
Москва. 2020 год. Однако, "художнику" телефонная книга Кира не указ. Бизнес и связи в ФСБ... а куда ж нынче без всего этого...
__________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 05.04.2023, 15:48 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 11:42 | Сообщение # 2733 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Моя хата с краю
Русская пословица
Сидит страна.
Глядит в окошко.
За ним война
Идёт немножко.
Звучат, – и что ж! –
Немного взрывы.
«Так –далеко ж.
Мои-то – живы».
Прищур судьбы
Учёл излишек:
Везут гробы.
Везут мальчишек.
«Так, не у нас
В дому покойник».
…Не на показ
Седой полковник
Безвольно сник,
Молча убого.
Немного – в крик.
С ума – немного.
А что – страна?
На фронт? В окопы?
Ей та война
Вполне до *опы. –
«Вина налей!
Я буду суши».
Не крикнуть ей:
«Спасай же души!
Гони тылы
Точить снаряды!»
Тылы светлы
И толстозады.
И чья вина,
Что – хата с краю?
Чтò за война
Идёт такая?! –
Идёт война,
Да не по-русски!
… Махни вина,
Возьми разгрузку.
В лицо, упав,
Посмейся страху,
Гранату сжав,
Рванув рубаху.
***
А в высоких теремах звякают монетами. –
Приказной преподлый люд, лиходей и вор.
Продают мою страну твари кабинетные.
Мне бы, бешеной, попасть да на подлый торг.
Знаю – торжище идёт. Чувствую и ведаю!
Что ж вы совестью – вразнос… да едрёна ж вошь…
Я в свидетели возьму лишь шинельку дедову.
Акаэм бы вот ещё, да где ж его возьмёшь.
Полно, твари, торговать бедною Отчизною! –
Плачет в голос, реки слёз не унять никак.
Я дорожку к шабашу вашему повызнаю,
Да с рогатиной свалюсь на ваш договорняк.
Ты, несмелая моя, лада неприметная,
В крик ори, душа моя, бедная, ори!
Мне не страшно помереть, твари кабинетные,
Если к Родине припасть – вглубь на метра три.
***
Когò тысяцким* выбрала война,
Что верховодит в армии докука*?
И званьям генеральским грош цена:
Сватья, братья, удачная жена.
И ни один из них, увы, не Жуков.
И ратный дар смущённых воевод
Не посещал, ни присно, ни отныне.
Упрямые, в неистовой гордыне
В распыл пускают вереницы рот, –
Чтò плакать о чужом погибшем сыне.
Лукавая, великая страна!
Тот под Лиманом бой – уже порука:
Рожает украинская война –
Героя, полководца, пацана.
Жди! – на подходе новый маршал Жуков.
И ради поседевших матерей,
Чьё сердце от бессилья обмирало,
Отправь на фронт бездарных упырей –
Зажравшихся трусливых генералов.
Из кресел – в пекло! Только поскорей.
______________
*докука – надоедливое, скучное дело
* тысяцкий – начальник военного ополчения в Древней Руси
***
Ни на шаг не приближусь к обману, незрячая, точно. И –
Не со зла – черновик с каждым днём солонее от слёз.
Табелируй мои на Земельке часы сверхурочные,
Гражданин занятой, в мире горнем живущий Христос.
Прикипело к душе ненадёжное снежное логово,
От него отрекусь, а другое спроворю – едва.
Мне чужого не нать, – честь по чести верну Богу – Богово:
Знаю – скоро души на храненье опорки сдавать.
К чёрту выстелить путь не нашлось незапятнанной скатерти.
… Я искала Тебя! Я искала Тебя, днём с огнём!..
И бросалась к Тебе, как ребёнок бросается к матери,
Забывая на миг о вселенском сиротстве своём.
На вокзале не выправить вдруг в Отчий дом подорожные. –
В Отчий дом возвращать непутёвых детей не с руки.
Мы на этой Земле незаконно и походя рóждены, –
Межпланетного Дома призренья мы все – байстрюки.
Без Отецкой руки одичали ненужные так-то мы.
Не отыщем любви, засветив даже тысячи звёзд.
Многодетный, Ты бродишь бессильно небесными трактами,
Взором ищешь давно Галактический тихий погост.
Тàк Тебя защитить от бессилья и холода хочется
Задыханием слов той молитвы, что слёз горячей.
Отче мой, не покинь! Отче мой, не имеющий отчества. –
Дай мне, Отче, уснуть на отеческом тёплом плече.
***
N.N.
Ты себя по мне не мерь, –
Мне, бедовой.
Я взрослела от потерь
В жизни вдовой.
Пересмешник век-босяк
Правил тризну.
Не тебе на горке рак
Сдуру свистнул.
Плечи, выдержат твои
Горя тонны?
Я ж не выронила и
Горстки стона.
И моя полна потерь
Канонерка.
Не пойдёт тебе, поверь,
Эта мерка.
***
Волен решать, ктò был неправ.
Чья посильней треба.
Просто уйми дерзкий свой нрав.
Встань, посмотри в Небо. –
Там, в вышине – в горнее дверь.
Ярких среди точек
В душу тебе, в чашу потерь
Молча глядит Отче.
Неправоту, что по зубам,
Гордой душой видишь.
Просто войди в зябнущий храм.
Может, другим выйдешь.
***
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ,
или Манифест поэта
Я в Аду поудобней устроюсь
В одноместном горячем котле
Неказистой бесцветной порою,
Как закончу дела на Земле.
Там вертлявые черные черти
С соучастьем огня принесут.
Грустный акт зафиксировав смерти,
Учинят мне Архангелы суд. –
Как дышала, лгала, с кем любилась,
Много ль слёз пролила в тишине?
Велика ли Всевышнего милость,
Перепала которая мне?..
И как станет погрешно разобран
Облик мой, и грехов скорлупа,
Непременно пройдутся по рёбрам, –
Это ж Ад, а не пошлое спа.
И с пристрастием вызнают, братцы,
Как дружила с неверным рублём.
И придирчиво будут копаться,
Особливо, под третьим ребром.
Что ж, зовите, пытайте – готова
На людской и на праведный Суд.
В адвокаты попросится Слово, –
Те стихи, что и в пекле не лгут.
На чертей огрызнусь я при этом:
За десяток немеркнущих строк,
Нам положен, бродягам-поэтам –
И в Аду – особливый паёк.
Он кому-то покажется малым,
Но дороже он царских даров:
Даже в адском котле небывалом
Дай: бумагу, чернила, перо!
Не меняя испуганно масти,
В неизбежном стремленье к нулю,
И в Аду, в закипающем масле
О Господней любви дохриплю.
Наущает не дрейфить поэта
Небом данное ремесло.
Не пугай, ради бога, Тем Светом, –
Мы на этом хлебнули зело.
***
С судьбой моей недолгая интрижка
Закончится весёлым куражом.
Стихи мои разбросаны по книжкам,
Что изданы мизéрным тиражом.
Стихи мои, спасенье и отрада.
Когда-нибудь, не сетуя ничуть,
Под ветра лепет и зимы прохладу
Светло проводят в лучезарный путь.
Снега расстелют свадебную скатерть.
С небес сойдёт снежинок похвала.
Стихи заплачут: – Вот, уходит матерь!..
Гордиться станут: – Мудрая была.
И никого, кто был знаком с сюжетом.
И ничего, что подлежит суду.
Уходят так легенды и поэты.
Вот так и я, незримая, уйду.
***
Я УБИТ НА ВОЙНЕ
Без вести пропавшим
в украинском конфликте
Раскрошился свет белый в пух и прах.
Хоть и грудь в крестах – голова в кустах.
Воет одурем дикий «Смерч» по мне.
Я лежу в кустах мирно на войне.
Громы по земле и вороний гам.
Я в глаза взглянуть не могу врагам. –
Откатилася сила за межу.
И лежу себе, в небо не гляжу.
Не увидеть снов боле, так и сяк.
Неживой, вблизи незаклятый враг.
У него вполне утомлённый вид.
Тоже думает, в небо не глядит.
Как теперь ступить мамке на порог…
Ждёт меня Донецк, Мурманск, Таганрог.
Ждёт Рязань и Курск. Жарят пироги.
Голова в кустах: «Думать не моги!..»
Отслужил солдат Родине сполна.
И лежит… Идёт по земле война,
Хрипло хохоча: «А подай обол!»
Полон горюшка у неё подол…
У войны у той дел невпроворот:
Не подарит мне двадцать пятый год.
В ступе воду, чтò, говорит, толочь. –
Не родится сын, не увидишь дочь.
Полно, матушка, плакать – «ох!» и «ах!»
Нас немало здесь полегло в кустах.
И не страшно нам, и не снятся сны.
И красны кусты, и поля черны.
***
ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР
«Пассивное большинство промолчит, как и при развале СССР. Ирак, Ливия и Сирия — это не только передел мира и война за нефть, но ещё и полигоны для испытания войны с Россией»
Хьюстонский проект США
«Солнцепёки» поют, «Герани».
Мир на грани, на зыбкой грани.
Новостной не уймётся ор.
Позабывшая про бессилье,
Отбивается вновь Россия
От паучьих вселенских орд.
Мир безумьем планету мерит
На аршин чумовых америк.
В рост – заморская трын-трава.
И плетут старики и дети
Для российской судьбы масксети. –
Богородицы Покрова.
Угомон вам, исчадья ада!
Так с Россией шутить не надо.
Но случилось уже, стряслось.
И солдатик родной, бедовый
Держит мир за чуприну снова.
Подпирает земную ось.
Стар и мал надевает латы.
Понукания ждут «Сарматы».
Весел только лишь гробовщик,
Бога зля и легко, и просто.
Галактического погоста
Проступает трагичный лик.
Не садимся в чужие сани.
И привычно на поле брани
Слышен крик: «Победиши сим!»
Всепланетная аритмия.
Но младенца спасёт Мария
На просторах сибирских зим.
***
Виктору Гагину (Хаген – автор и исполнитель, жил в Воркуте, потом в Германии, в настоящее время проживает в Канаде.)
Там слаще пьётся, легче спится,
Там не в ходу берёзы медь.
Но не умеет заграница
По-русски плакать и жалеть.
Не могут удаль и отвага
Прижиться там, где правит ложь.
С того, – без Родины и флага, –
Ты песню русскую поёшь.
Да песня та – белее сажи.
Дрожа за ломаный медяк,
Знаток тотальной распродажи,
Легко снесёшь её в кабак.
А после, прошлое поганя,
Сумеешь побольнее пнуть.
Владелец певческой гортани,
Не суйся в русскую войну.
Во дни, что горьки и ледащи,
Не трогай нашу круговерть.
Выискивай кусок послаще.
А мы – послаще – ищем смерть.
***
Жди меня. И я вернусь.
Только очень жди.
Константин Симонов
1.
Мы с тобой седые оба.
Оба понимаем:
Пресловутое «до гроба»
Разное бывает. –
В доме, порослью увитом,
Среди внуков грустных.
Или в поле, под ракитой
На равнине русской.
Мы с тобой седые, милый.
Мы – одно сердечко.
Дарит мне исправно силы
Тонкое колечко.
Перекрестит эшелоны
Мой крестильный крестик.
И в любой ночи бессонной
Я с тобою вместе.
Жду.
В объятьях полумрака
Усмирив потребу:
За тобой пойти в атаку
Под Бахмута небо…
Тем, кто крепкие породой,
Не страшна разлука.
Ты уходишь, тем уходом
Заслоняя внуков.
2.
Домашний кончился для нас уют.
Раскрыть глаза никак не могут шторы.
В колонне по двое дожди идут,
Команду выполнив: «Два дня на сборы!»
Опять в ружьё вставать моей орде.
Встаёт, родимая, ни с кем не споря.
И в той колонне – ты, и твой эрдэ* –
Пушинка малая на фоне горя.
Войной закинутый за облака, –
На сколь, неведомо, – от счастья ключик.
От ливня мокрая её щека
Припала намертво к щеке колючей.
_______
* эрдэ (РД) – рюкзак десантника
3.
Тò пожнёшь, что нынче сеешь,
Растакая-то война!
Ты не смеешь, ты не смеешь,
Офицерская жена,
Горевать в ночи до дрожи,
Хлеб не трогать суток пять.
Ты сумеешь, ты поможешь.
Ты ведь знаешь слово – «ждать».
Ты сумеешь, в самом деле,
Хоть сто жизней проживи, –
Удержаться на прицеле
Постоянства и любви.
Отдохни, земля, от боли. –
Уж намаялась, поди.
В чистом поле, в чистом поле –
Заслони и отведи!
***
Памяти Ирины
– Ну, до свиданья! Ну, будь здорова!
– Чего ревёшь-то! Не плачем сроду!
… Не расхлебаю никак улова
В тенётах двадцать второго года.
А нам казалось – мы будем вечны.
Шли по колено в житейском море.
На перекрёстках дороги Млечной
Сам Ковш Медвежий нам семафорил.
Какой там леший к нам путь отыщет!
А нам, бедовым, кремень по зубкам!
Ты красовалась – сини глазищи! –
В овчином батином полушубке.
Кàк разбивали твои семнадцать –
В труху – сердечки ребят общажных.
Ну, что ж, деритесь, коль стали драться.
А победит кто, ещё неважно.
Ковром дороги – под ноги кралям.
Цвели царевны, хоть голы-босы.
А мы в бараке меды пивали.
И звёзд осколки вплетали в косы.
Отца отрада в семье – «Ириша».
Серчал родитель, кричал – «Ирина!»
…Зачем, сестрёнка, не надо, слышишь! –
Слагаться в рифму с лихим «помином» …
Хранит молитва, молчит распятье.
Летят по ветру зимы одёжки.
Твои, родная, приму объятья
У Млечной речки, где, знаю, ждёшь ты.
С тобой не виделись и подоле.
Да нас держала та нитка тонка.
И как смириться-то –
поневоле
Я стану старше тебя, сестрёнка.
***
Хоть в оборот берут метаморфозы,
Ан, глядь, дела не так уж и плохи:
Чем оголтелей заедает проза,
Тем неизбежней пишутся стихи.
***
В беготне по разлукам и дням
Ничего не успело случиться.
Здесь перо не роняла жар-птица,
И несладко жилось воробьям.
Приходила без спросу зима,
Добросовестно боли жирели,
И учили прилежно метели,
Как сходить понаучней с ума.
Здесь, в моей тридевятой дали,
Ничего не успело случиться.
Только реже – любимые лица.
Только дети уже подросли.
Да ещё поезда кажут хвост.
Да тревоги родятся в рубашках.
Ничего…
И целую мордашки
Расшалившихся с вечера звёзд.
***
Звучит весны неповторимый хит.
Весне никак нельзя – не быть поэтом.
Хочу читать хорошие стихи,
И пить вино хорошее при этом.
И вызывать ушедшее на «бис».
И на досуге обнимать полмира.
Ни, боже мой, – башкой с карниза вниз,
А только – вверх, советуют задиры-
Воробышки, piaf, лети, piaf! –
На тот большак лети, на перекрёсток.
У воробьёв вполне приличный нрав,
Хоть мне вороны ближе, и по росту.
Несу пальто небрежно на крыле.
Мне рукоплещут вещие вороны.
Весны опившись, чуть навеселе
Я к осени шагаю по перрону.
О, не горчи, пленительный букет!
Играй огнём на донышке бокала.
И снова спрячь на жизнь мою ответ. –
Что б не нашла, сколь долго б ни искала.
***
Без шального «ура!»,
Подчинясь безупречному такту,
На мои севера
Снег пришёл по сентябрьскому тракту.
Мне о том с утреца
Письмецо накропало ненастье.
И коснулось лица,
Сеть морщин подарило с участьем.
Норовит неуют
Показать благолепья изнанку:
Хлеб столичный жую,
С северов сановитых беглянка.
Непогода в окне. –
Возле МКАДа, и дальше, за МКАДом.
Непорочный мой снег,
Мне с тобою свиданья так надо! –
На душе чернота.
За душой – из потерь терриконы.
И не сложен алтарь
Из снежинок у рамы оконной.
Опечалюсь вдвойне:
Средь столичного шума и гула,
Мой доверчивый снег,
Я тебя и себя обманула:
Не смогла не остыть…
И теперь с этим нету мне сладу, –
Без твоей чистоты,
Без отеческой зябкой прохлады.
В отдаленьи топчусь, –
Та, что вверилась шутке вокзала.
Не подходит мой ключ
К двери той, что меня узнавала.
Не узнает вовек…
Отвернулась судьба и округа.
Мой доверчивый снег!
Умоляю, останься мне другом!
Знаю – скоро в расход.
Перед тем, как уйти из реестра,
Под седой небосвод
Я вернусь! И жена, и невеста.
А пока до утра
Сочиняю морозные сны я.
Я вернусь, севера!
Лет пяток подождите, родные.
***
Свистом парму будит «скорый».
Направление – норд-ост.
Проезжаю я в который, –
Чинья-Ворык, Княжпогост.
Он трудяга, добрый «скорый»,
Однозначно, молодец!
Мимо – Микунь с Мескашором.
Здравствуй, станция Песец!
Еду я, чего-то стою
В Заполярной красоте.
Мы уже под Воркутою.
Вот, уже и в Воркуте!
Всё, о чём не досказала,
Доскажу, не утаю.
Я смотрю в глаза вокзала,
Он – на физию мою.
Не бранит за бегство, вроде.
Разлучить непросто нас.
Он смеётся, не отводит
От меня влюблённых глаз.
Несказанная истома.
Вьюга кружится, пляша.
Как же славно – снова дома.
Вновь на родине душа.
***
У Млечной дороги в её молоке
Всё бродит истома.
Шестой год, нечаянно и налегке
Живу на два дома.
Такая не давит, не гнёт маета. –
Укрыта любовью.
Родимою мамкою мне – Воркута.
Столица – свекровью.
На сердце порядок, на сердце уют.
И держим в секрете:
За что меня любят и в гости зовут
Две женщины эти.
Тревожно и трепетно мне не велят –
Дотопать до точки.
Врачуют печали на свой светлый лад,
И кликают дочкой.
Отчаянным, ветреным жить поделом
С такою любовью, –
Как с мамкой родимой за щедрым столом,
Как с доброй свекровью.
***
Тот снежный вечер одарил сполна.
Его прижать к груди я всё пыталась.
За снегопадом пряталась весна. –
Большого счастья крохотная малость.
То счастье я пыталась оправдать.
Я снегопаду подставляла губы.
И понимала, что дышу опять,
И что беда моя пошла на убыль.
За снегопадом пряталась весна.
Мне говорила: жестом, вздохом, взглядом,
Что по земле опять идёт война.
И что весна потерями больна.
Что приходить ей больно, и не надо.
***
Положусь на волю Божью. –
Он на то и Бог.
И опять по бездорожью
Лет ещё чуток.
Край, где белые медведи,
Дорог мне и мил.
Вволю листопадной меди,
Песен и чернил.
Только в этом стылом мире,
Чувства не тая,
Мне родные – все четыре!
Всем ветрам – своя.
И под носом у Эреба
Жгу, смеясь, огонь.
А стихи слетают с Неба
Прямо на ладонь.
***
Крамолы в том нет,
Если счастлив поэт.
Но как они редки, в тучах просветы,
И как они счастливы редко, поэты.
Кому же так выгодно бедствие это?! –
Наложено вето на счастье поэта.
* * *
Пролога не будет, малыш, –
Навеки не рядом.
Легко о звенящую тишь
Ударишься взглядом.
Зато настоящей беды
Припадок не ранит:
Меж нами такие ряды
Стоят препинаний…
Косить научу трын-траву, –
Порода сорочья!
И в эту не нужно главу
Впускать многоточье.
Чернил не жалею (то бишь, –
Надежды убоги).
Ты видишь, как просто, малыш,
Писать эпилоги.
Флаг непокорённых на мачте.
Ветры не кричат ошалело.
Плачьте, мои недруги, плачьте! –
Лодка-то моя уцелела.
Чем
иных обязана розне,
Сон которых груб и безлунен?
Правьте безрассудные козни. –
Канут вглубь души моей втуне.
Я-то – не матрос и не воин. –
Стихолюб затейливый, только.
Сколько же злословья пробоин
В решете души моей стойкой…
В ожиданье верного слова
Лопать барбарис и ириски.
Вы уж там стерпите, что снова
Лодка добралась в порт приписки.
Разношёрстный глупый мой табор!
Нет о непрощении речи:
Всех свистать неистовых нà борт
Лодки, не боящейся течи.
***
Кто ты? Чью ты фамилию носишь?
Кровь замешивал, что за народ?
Вот отца бы спросить, да не спросишь, –
В невозвратной сторонке живёт...
Пустотой родословье пробито.
О корнях, где добудешь вестей?
Мы ленивы и нелюбопытны,
Или сироты с малых ногтей.
Чёрным не норови чистоганом, –
Я из помнящих, слышишь, судьба! –
Из колена я русских Иванов,
Не безродная, не голытьба!
Ласки отчичей не изведав,
Опыт счастья познав небольшой,
В имена мной не виденных дедов
Всей вцепилась озябшей душой.
Кровь славянская не полова.
И на зов мой, что в тысячу ртов,
Шелестят ковыли Куликова:
– Ты из росичей. Ведаем то.
Много сказов былинных могли бы
Мы поведать. И сказы не лгут.
Знай – светло твои прадеды гибли,
Осиянный святой чёрный люд.
Расступаются тихо столетья.
Устремляюсь к родному огню.
– Вы из росичей, слышите, дети!
Посрамить не посмейте родню.
Ольга Хмара
___________
143606
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 09.04.2023, 11:45 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 15.04.2023, 21:32 | Сообщение # 2734 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| МЕГАПОЛИС
Вот и встал он извечной громадой
Но моём запоздалом пути…
И куда не ступи – всем всё «надо»,
И за всех и про всё – заплати!
Как голодная лошадь есть сено,
Так съедает он деньги твои,
На губах от усердия – пена,
Взгляд с оттенком дремучей хвои…
«Ложь – вся жизнь суетливая наша!» -
Мне водитель признанье даёт.
«Из какого Вы века, папаша?
Мы давно разделённый народ…».
Про себя и вождя тянет слово,
И являет лояльность свою,
Повторяет всё: «Вова да Вова…».
Я же город не узнаю!
Где туман беспросветный и сладкий?
В нём и мы целовались взасос…
Град вобрал деревень всех остатки,
Как могучий всеобщий насос!
Засосал и уже не отпустит,
Нацепил он мундир короля…
А вдали от него, в захолустье
Стонут нивы и плачут поля.
Стонет память моя, но я знаю,
Он меня не раздавит ничуть.
Мне отрада – глубинка родная,
Её крестный, спасительный путь.
***
В разгуле войн,
и митингов, и улиц,
Где всякий бранью
брата сыт и пьян, -
Начало Века и конец сомкнулись
Под знаком истребления славян!
Вожди-рабы
народы разделили.
И торг открыт!
Не проданы пока
Напевы птиц
и блеск озёрных лилий,
Бездонный воздух,
я
и облака!
***
Брильянты, роскошь
Женщинам нужны,
И прочие подарки сатаны…
А наши мамы
Этого не знали:
В чаду и революций, и войны,
К наживе лёгкой
Страсти лишены,
Порою жили,
Будто на вокзале.
Ломали их
И голод, и беда,
Но в доме
Чисто было завсегда.
А пуще хлеба
Совесть сберегали!
Струит над ними
Вечная вода…
Я это не забуду
Никогда -
Они России
Выжить помогали!
А эти, в жире глазки утопив,
В ушах качая
«Самый эксклюзив»,
Страну родную
Жадно пожирают…
Брильянты, роскошь
Женщинам нужны,
И прочие подарки сатаны -
Другого бога
Эти и не знают!
***
Две столицы
Я в сердце моём
Повенчал -
Навсегда,
До предсмертного вздоха.
Роскошь Зимних дворцов,
Хмурый Невский причал,
И Москвы круговерть,
Где стенала эпоха!
Где любил я -
Как вы позабыли любить!
Это было вон там -
На Фонтанке,
И Тверская - во мне,
Где могли бы убить,
Когда вождь
Красовался на танке.
Две столицы
Я в сердце моём
Повенчал.
Зорь московских красу
Вставил в белые ночи.
Утопая я в них -
Без концов, без начал!
И не дам никому
Опорочить.
Их величье храню!
Их плохое - во мне
Исторгает и боль,
И отчанье.
Кто замыслил,
В какой чужеземной
Стране
Разорвать
Моё с ними
Венчанье!?
Плачет нищий в метро.
А богач одичал.
Всё - моё,
И грехи, и прозренья.
Это в сердце моём
Я навек повенчал
За любовь,
За разгул,
За терпенье!
***
АРХИВ
Перебирая старые газеты,
Я вспоминал былые времена:
Без олигархов и бомжей отпетых,
Тогда была великая страна.
Где люди жили, а не банковали.
И со страниц светло ещё горит
Улыбка милая Гагановой Вали -
Она с Гагариным о чём-то говорит.
Какие лица и родство какое -
С ткачихою на равных космонавт!
Теперь уже немыслимо такое,
Теперь в почёте лишь олигархат.
Перебирая старые газеты,
Я думал с болью, грустью и тоской:
Партийный звон, звон доллара, монеты -
Меж ними разницы нет никакой!
Не жаль мне съездов и речей в угоду,
Они ушли в заслуженную тень,
Но жаль мне, что разрушены заводы
И стёрты в прах становья деревень.
Мы думали вернуться в Русь Святую,
Но Вашингтон вождям наметил путь:
Крушить себя, Россию - подчистую,
Дорогу в Русь Святую зачеркнуть.
Но всё, что мне и дорого и свято,
Дом отчий, Родину, любовь мою,
Не сдам в архив я никогда, ребята,
На том стоял, на том ещё стою!
***
ПРОПАЛА МУЗЫКА
Куда пропала музыка любви?
Где потреялось ласковое слово?
Вот стих чужой: прочти и разорви -
В нём звук разъят, а ритм небрежно сломан.
Куда исчезла музыка души?
Над ней уже смеются, как над шлюхой,
В почёте тленье: «Мир добра круши,
Ори, ломай, или накроту нюхай!».
Куда ушла гармония сама -
Желанье быть с природою в обнимку?
«Печаль сия не твоего ума -
Услышу я, - она истлеет в дымку».
«Истлей быстрей!» - скажу я невпопад.
И только солнце выкатит весну,
И только птицы с юга полетят -
Я музыку любви в страну верну.
***
В сини сумерек, в блеске зарниц
Вижу мало радостных лиц…
Зеркалам они вечным сродни –
Отражают событья и дни.
Но в отличье от мёртвых зеркал
Я подвижности в лицах искал.
Чтоб понять в тишине на восходе –
Что же с лицами происходит?
В них утраты живой красоты
И сильней жесткосердья черты…
Так вулканы гудят над горой –
Лица смяты Стихии игрой…
На безличье, увы, не возник
Доброты всеспасающий лик.
Лишь в глазах светанёт иногда
Одинокой надежды звезда.
И течёт, и течёт, и течёт
Обездоленный вечный народ…
***
КРАЖА
Вор взломал
наш родительский дом.
И, как бес, ликовал –
не найдём!
Обокрал, опоганил –
утёк…
У крыльца след звериный
впечатал в песок…
Вор – в законе:
в деревне, в вагоне,
За прилавком, в эфире, на троне…
Вездесущ и нахрапист,
как гнусь –
Знаю я его наизусть!
Его сила –
в оскале и зле,
И в презренье к родимой земле.
Будет день, будет день –
Он исчезнет,
как слабая тень…
***
ДОРОГА НА СЕВЕР
Скрипит, как старая телега,
Купейный лаковый вагон.
За окнами - пейзаж из снега,
Да крик испуганных ворон.
Пристанционные домишки,
Склады, где лесу истлевать.
На всём, куда ни гляну - слишком
Сильна безпамятства печать!
О, Русь! Какая порча, скверна
В тебя запущены извне?
До срока спишь, моя царевна,
В отравленном и жутком сне.
И дрожь неведомая била
Пред тундрой, таящей в дыму,
Как будто впереди - могила,
Конец мечтам, конеч всему!
Но всё ж звала земля большая,
Манил к ней сумрачный покой.
Колеса пели, вопрошая:
«Ты кто такой? Ты кто такой?».
***
РОДНЫЕ МЕСТА
1
«Всё сон меня мучит навязчивый! -
Петрович сказал неспроста.
- Давай, Николай, поворачивай,
Заглянем в родные места…
Заедем, хоть времечка мало,
Развею дурацкий мой сон:
Как будто деревня пропала –
Пожёг её Наполеон!
Приснится ж такое, Иваныч,
На стену хоть полезай…»
«Принял бы чекушечку на ночь!» -
Совет ему дал Николай.
«Куда там! Уж слабости в теле –
Чтоб водку стаканом глушить…
А раньше могли и хотели!
Теперь ещё надо пожить…»
2
Петрович – надежнее стали,
За дело берётся всерьёз,
И люди в округе всё знали –
Тащил на себе он совхоз.
С утра и до ночи он в поле,
На ферме и в мастерской –
И съел с мужиками пуд соли
Вприкуску со слёзной тоской!
Не скрою, бывало и тошно,
Он рвал бюрократии плен –
На льне, молоке и картошке
Поднялось хозяйство с колен.
Теперь разве вспомнят об этом?
Клянут все Советский Союз!
Его разрушитель отпетый
Кумиром стал денежных муз.
Никто им не крикнет: «Доколе!?».
3
«Постой-ка, Никола! Вот тут,
Я помню, лён сеяли в поле,
А щас-то – берёзы растут…»
Петрович застыл изумлённый.
Сурово молчал Николай.
В берёзовом царстве зелёном
Поди-ка, ты поле узнай !
Поехали дальше. Где фермы
Стояли, бурёнки паслись –
Разруха – не выдержат нервы –
Бурьян или плесени слизь…
А в Доме культуры на окнах
Из досок тесовых кресты…
Петрович ругнулся, заохал:
«Да что ж это за скоты!?»
Шумел борщевик у обочин.
К конторе подъехали. Что ж?
Вход наглухо заколочен,
Никак уж туда не войдёшь!
4
«Да, янки нас сделали круто! –
Петрович вздохнул неспроста. –
Обули! Россия обута,
Зачахли родные места…»
Никола с ним даже не спорил,
Чекушку достал впопыхах.
Петрович хватил её с горя –
За память об отчих местах…
Назад они ехали молча,
Не до словесных щедрот.
Как будто заклеили скотчем
Им светлые очи и рот…
***
Изба убогая, берёзы,
Край поля, утра синева -
Засели в сердце, как занозы.
Но этим всем - душа жива!
Её мертвят дворцов величье,
Стяжанье славы, шум, успех.
Изба и звонкий щебет птичий -
Достойнее иных утех!
***
ЭЛЕГИЯ
Здесь всё иное - соловей поёт,
Цветёт сирень, и зелень входит в силу.
И тихо так! Весёлый мой народ
Поочередно отошёл в могилу.
Не спляшет на Ильинку Николай,
Не поднесёт большую кружку Павел.
Не слышен во дворах собачий лай,
Весёлый мой народ сей мир оставил.
А что же я? А я пока живу!
Господь дарует мне, ещё невежде,
Чтоб я за деревенскую братву
Очистил пятна на моей одежде.***
Изба убогая, берёзы,
Край поля, утра синева -
Засели в сердце, как занозы.
Но этим всем - душа жива!
Её мертвят дворцов величье,
Стяжанье славы, шум, успех.
Изба и звонкий щебет птичий -
Достойнее иных утех!
***
ЖАР-ЦВЕТОК
«Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть».
Сергей Есенин
С утра в окне - подковой счастья -
Рисунок озера висит.
И даже раннее ненастье
Не омрачило чудный вид.
На старой лодке отправляясь,
За синей заводью сорви -
Себе на радость, всем на зависть -
Цветок на острове Любви.
Он дивным жаром весь пылает,
Как уголь в печке, - над водой.
И в сердце вдруг любовь былая
Воскресла песней золотой.
Мир проще стал, а я - моложе,
И сладок воздуха глоток.
Вот что с душою сделать может
Хотя б один любви цветок!
***
Какая музыка в названьях –
Свирь, Подпорожье, Анин Мост…
В них, будто в древних изваяньях,
Встаёт Россия в полный рост.
Торжок, Осташков, Бологое –
Звучат, как колокольный звон…
Иль, может, слышится другое –
Врагов разгром, их смертный стон…
И в мыслях не спеши игриво,
А слушай сердцем и молчи –
Звучит она без перерыва
На зорьке, в полдень и в ночи…
***
Вам Родину мою не одолеть
Всех злачных мест безумные сидельцы!
Напрасно вы готовите ей смерть,
Как это делал ваш иуда-Ельцин.
И пряник чёрствый, эпидемий плеть
Народу вы готовите упрямо…
Вам Родину мою не одолеть!
И ждёт вас вами вырытая яма…
***
Сколько лекарства не пей –
Сердцу не легче, о, други!
Воздух родимых полей
Лечит его от натуги.
Свежий весенний глоток
У перелеска за пашней,
Словно живительный ток -
Бьёт он по боли вчерашней…
***
Я голос Родины приемлю
Как высший и святой наказ –
За землю Русскую, за землю
Веди свой бой - твой пробил час!
Летят в неё, как грязи комья,
Проклятья недругов, - смотри!
Ликуют, будто дух твой сломлен,
И вынут стержень изнутри…
Да и свои же лицемеры
Грозят, лишь рядом оглянись –
Торговцы родиной и верой,
А на поверку – тлен и слизь…
Нет, вспять не потекут столетья,
Хоть предрекают нам конец
Лихие богоборцы эти…
Позор и смерть – вот им венец!
Геннадий Алексеевич Сазонов
_________________________
143836
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 15.04.2023, 21:34 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 22:04 | Сообщение # 2735 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Я знала очень мало об отце,
Вернее, ничего о нём не знала…
И в каждом добром «дядином» лице:
— Не вы мой папа? – папу я искала…
Могла я всех развлечь и рассмешить,
Когда вопрос «где папа?» задавали.
Ответ пришлось с прабабушкой учить:
— Собаки съели, мухи залегали!
Я в чёрной шубке плюшевой стою
На пожелтевшем снимке с бабой Маней…
Я помню руку тёплую твою,
Вот как сейчас, моя родная няня…
И я, твоё любимое дитя,
Теперь хожу лишь на пустырь кладбища –
Туда, где ты, и нету где тебя,
Лишь шелестят венки, и ветер свищет…
Мне снится наша клумба во дворе,
И серый Васька – кот такой учёный,
И бежевый в полосочку берет,
И ботики на кнопочках на чёрных…
И мамины красивые глаза
Из-под высокой крашеной причёски,
И первая весенняя гроза,
И хлеб ржаной подсахаренный чёрствый…
Друг детства, Алик, где – не знаю ты…
Мой верный друг, мой самый первый пленник…
Ты помнишь, как у нас росли бинты
Из содранных паденьями коленок?
От жёлтых трав Куриной слепоты
В глазах рябит…и никуда не деться…
Но годы стёрли лёгкие следы,
Ведущие в песочницу из детства…
***
Моя бабушка, милая, добрая, славная бабушка!
Снова я уезжаю – подъехало к дому такси.
И ты выйдешь во двор помахать своей вязаной варежкой,
И слезу не уронишь… откуда в тебе столько сил?
Но внезапно тебя от меня отсечёт угол дома,
До занозы знакомый – там мама меня родила…
И запнётся дыханье моё от беззвучного стона,
И ещё оттого, что я знаю: ты плакать пошла.
Я лицо твоё с карточки помню ещё довоенной,
Где короткие волны причёски по моде тех лет,
Где в загадочной полуулыбке застыло мгновенье,
Где в спокойных и добрых глазах удивительный свет…
А какой ты была неприступной, серьёзной и строгой,
Как, не видя других, лишь для деда себя берегла…
Только вот Александр… тридцать лет с ним единой дорогой…
Но предательства ты не простила — такою была.
Твой пучок на затылке теперь словно выцвел с годами,
А улыбка – дантисту пора позабавиться с ней…
Но глаза, что с семнадцатого слишком много видали –
Всё такие же чистые, зимнего утра светлей…
Снова я уезжаю, и взгляд твой туманится еле…
Но ты сдержишься, знаю, ты с детства такою была.
Баба Валя, какая же сильная ты, в самом деле!
Жаль, что я не такая… вот видишь, слеза поползла…
***
Прощай, прощай! Конец или начало —
Мираж судьбы, не сбывшейся как сон…
Ах, сколько я денёчков нанизала
На ручеек, скользящий в тихий Дон!
Проходит все. Лишь память синеоко
Еще глядит в расплывчатую даль.
Но нет, я не скажу, что жизнь жестока:
Она сняла с наивных глаз вуаль.
Один Господь лишь ведает, легко ли
Не мчаться в храм под колокольный звон
И не рыдать над варварской рукою,
Что поднялась на мой столетний клен…
Где облака раскидистой сирени,
В которых утопал веселый май?..
Все вырублено. И теперь мишенью
Для злой расправы стала я сама.
Я прикажу себе о том не помнить,
Что люди и завистливы, и злы.
Приходит пусть доверчивый паломник
Под эти своды… Как они милы!
Как дорого все то, что оставляю,
Больное сердце на кусочки рву…
Я здесь — куда ни глянешь — пребываю,
Я здесь! Я в каждом гвоздике живу!
***
Я настрою струны души
В унисон гитаре моей:
Нота «ми» пусть поет в тиши,
Пробуждая сердца людей.
А вторую на ноту «си»
Натяну я колком любви,
И вложу в нее столько сил,
Чтобы петь, как пророк Давид.
Третью я настрою на «соль»,
Состраданьем ее я сдобрю.
Растворилась чтоб в людях боль,
И забылись беды и скорби.
А четвертая — «ре» — пускай
Приумножит в людях добро,
Льется пусть оно через край,
Словно миро, из рода в род…
Ну, а пятая нота «ля»
Чью-то совесть встревожит пусть,
И впитает в себя земля
Покаянья соленый вкус.
Нота «ми» завершит аккорд:
Будут струны звучать в ладу…
И тогда, быть может, легко
Я на небо — в землю уйду.
И останутся сотни слов,
Что я пела душой своей,
И с гитарою в унисон
Согревала сердца людей…
И останется от меня
Лишь любовь, что в песнях живет,
В этих песнях останусь я,
Их подхватит русский народ.
***
Новая Пасхальная песня! ПАСХА КРАСНАЯ.
Автор-исполнитель - Светлана Копылова.
> https://www.youtube.com/watch?v=EaResfdaqQo&t=1s
Вешние ветра уж зимушку отпели
Но еще оплакивают небеса
Мы с тобой хотели, мы с тобой хотели
Мы с тобой хотели верить в чудеса
Зорька ясная
Пасха красная
Звенит окрест
Христос воскрес!
Только с верой можно одолеть невзгоды
Чтоб на жизнь свою нисколько не роптать
Только наши годы, только наши годы
Только наши годы не воротишь вспять
Зорька ясная
Пасха красная
Звенит окрест
Христос воскрес!
Эту радость нашу ни отнять, ни скомкать
И надежда в сердце бьется мотыльком
Потому что помним, потому что помним
Потому что помним, что нас ждет потом
Зорька ясная
Пасха красная
Звенит окрест
Христос воскрес!
Светлана Копылова http://www.svetlana-kopylova.ru/biografiya/stihi-i-proza/
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 21.04.2023, 11:16 | Сообщение # 2736 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю — https://www.youtube.com/watch?v=s7k0vyjIBBQ
молиться молюсь, а верить — не верю.
Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?
От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла, —
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.
Нет меры жестокости и бескорыстью,
и зря о твоем ли добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.
Скучая трудом, лютовала во блуде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди
бахвалы, опричники и палачи.
А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит — и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.
Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.
Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.
***
Однако радоваться рано —
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, — а я-то знаю:
не умер Сталин.
Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север —
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, —
не умер Сталин.
Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, —
не умер Сталин.
И не по старой ли привычке
невежды стали наготове —
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков, —
не умер Сталин.
А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?
Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!
***
А! Ты не можешь быть таким, как все, –
вертеться с веком белкой в колесе,
пахать надел, мять молотом металл,
забыв о том, что смолоду летал,
валить леса, где плачет соловей,
да морды бить тому, кто послабей,
да дело знать, да девок обнимать,
да страшным байкам весело внимать?
Не можешь так? Чего ж бы ты хотел?
Низвергнуть плоть? Перелететь предел?
Нет на земле меж городов и сёл
того клочка, откуда ты пришёл.
Он на звезде, что ты назвал Душой,
а ты везде последний и чужой.
Не хватит в мире горя и тоски,
чтоб ты узнал, как жить не по-людски,
и как роптать, что дал тебе Господь
со дней Адама проклятую плоть.
Мир состоит из женщин и мужчин,
а ты забыл свой мужественный чин.
Им внемлет Бог, как травам среди трав,
а ты меж ними жалок и не прав.
Сокрой свой рай в таилищах лесных
и жизнь отдай за худшего из них.
Пусть светлый дождь зальёт твой тёмный след.
Всё остальное – суета сует.
***
Что-то мне с недавних пор
на земле тоскуется.
Выйду утречком во двор,
поброжу по улицам,
погляжу со всех дорог,
не видать ли празднества.
Я - веселый скоморох,
мать моя посадница.
Ты не спи, земляк, не спи,
разберись, чем пичкают.
И стихи твои, и спирт -
пополам с водичкою.
Хватит пальцем колупать
в ухе или в заднице!
Подымайся, голытьба,
мать моя посадница!
Не впервой нам выручать
нашу землю отчую.
Паразитов сгоряча
досыта попотчуем:
бюрократ и офицер,
спекулянтка-жадница -
всех их купно на прицел,
мать моя посадница!
Пропечи страну дотла,
песня-поножовщина,
чтоб на землю не пришла
новая ежовщина!
Гой ты, мачеха-Москва,
всех обид рассадница:
головою об асфальт,
мать моя посадница!
А расправимся с жульем,
как нам сердцем велено,
то-то ладно заживем
по заветам Ленина!
Я б и жизнь свою отдал
в честь такого празднества,
только будет ли когда,
мать моя посадница?!
***
Плач по утраченной родине
Судьбе не крикнешь: «Чур-чура,
Не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.
Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла,
но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь.
С мороза душу в адский жар
Впихнули голышом:
Я с родины не уезжал-
За что ж ее лишен?
Какой нас дьявол ввел в соблазн
И мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
И нет ее времен.
Исчезла вдруг с лица земли
Тайком в один из дней,
А мы, как надо, не смогли
И попрощаться с ней
Что больше нет ее, понять
Живому не дано:
Ведь родина-она как мать,
Она и мы-одно…
В ее снегах смеялась смерть
С косою за плечом
И, отобрав руду и нефть
Поила первачем.
Ее судили стар и мал,
И барды, и князья,
Но, проклиная, каждый знал,
Что без нее нельзя.
И тот, кто клял, душею креп
И прозревал вину,
И рад был украинский хлеб
Молдавскому вину.
Она глумилась надо мной
Но, как вела любовь,
Я приезжал к себе домой
В ее конец любой.
В ней были думами близки
Баку и Ереван,
где я вверял свои виски
Пахучим деревам.
Ее просторов широта
Была спиртов пьяней…
Теперь я круглый сирота-
По маме и по ней.
Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
бог собирал в один народ,
но божий враг силен.
И чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.
При нас космический костер
Беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор
Проматерили дух.
К нам обернулась бездной высь,
И меркнет божий свет…
Мы в той отчизне родились,
Которой больше нет.
***
Кто — в панике, кто — в ярости,
а главная беда,
что были мы товарищи,
а стали господа.
Ох, господа и дамы!
Рассыпался наш дом —
Бог весть теперь куда мы
несемся и бредем.
Боюсь при свете свечек
смотреть на образа:
на лицах человечьих
звериные глаза.
В сердцах не сохранится
братающая высь,
коль русский с украинцем
спасаться разошлись.
Но злом налиты чаши
и смерть уже в крови,
а все спасенье наше
в согласье и любви.
Не стану бить поклоны
ни трону, ни рублю —
в любимую влюбленный
все сущее люблю.
Спешу сказать всем людям,
кто в смуте не оглох,
что если мы полюбим,
то в нас воскреснет Бог.
Сойдет тогда легко с нас
проклятие времен,
и исцеленный космос
мы в жизнь свою вернем.
Попробуйте — влюбитесь, —
иного не дано, —
и станете как витязь,
кем зло побеждено.
С души спадет дремота,
остепенится прыть.
Нельзя, любя кого-то,
весь мир не полюбить.
***
По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга — шпыни да шиши.
А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травою черной
беспризорные поля.
На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка-Сибирь.
На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.
Льнет к полячке русый рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..
Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря…
Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.
То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать…
И никто нам не поможет.
И не надо помогать.
***
До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах –
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.
И всё-таки я был поэтом.
Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части миномётной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолётно.
И всё-таки я был поэтом.
Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был не шёлков,
когда давился пшённой кашей
или махал пустой кошёлкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.
И всё-таки я был поэтом,
и всё-таки я есмь поэт.
Влюблённый в чёрные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.
И всё-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.
***
Я жил когда-то и дышал,
но до рассвета не дошел.
Темно в душе от божьих жал,
хоть горсть легка, да крест тяжел.
Во сне вину мою несу
и — сам отступник и злодей —
безлистым деревом в лесу
жалею и боюсь людей.
Меня сечет господня плеть,
и под ярмом горбится плоть, —
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.
И были дивные слова,
да мне сказать их не дано,
и помертвела голова,
и сердце умерло давно.
Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к нему не мог.
***
1
Ни с врагом, ни с другом не лукавлю.
Давний путь мой темен и грозов.
Я прошел по дереву и камню
повидавших виды городов.
Я дышал историей России.
Все листы в крови — куда ни глянь!
Грозный царь на кровли городские
простирает бешеную длань.
Клича смерть, опричники несутся.
Ветер крутит пыль и мечет прах.
Робкий свет пророков и безумцев
тихо каплет с виселиц и плах…
Но когда закручивался узел
и когда запенивался шквал,
Александр Сергеевич не трусил,
Николай Васильевич не лгал.
Меря жизнь гармонией небесной,
отрешась от лживой правоты,
не тужили бражники над бездной,
что не в срок их годы прожиты.
Не для славы жили, не для риска,
вольной правдой души утоля.
Тяжело Словесности Российской.
Хороши ее Учителя.
2
Пушкин, Лермонтов, Гоголь — благое начало,
соловьиная проза, пророческий стих.
Смотрит бедная Русь в золотые зерцала.
О, как ширится гул колокольный от них!
И основой святынь, и пределом заклятью
как возвышенно светит, как вольно звенит
торжествующий над Бонапартовой ратью
Возрождения русского мирный зенит.
Здесь любое словцо небывало значимо
и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты
осененные светом тройного зачина
наши веси и грады, кусты и кресты.
Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога,
ветер, мука и даль со враждой и тоской,
Русской Музы полет от Кольцова до Блока,
и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.
Как вода по весне, разливается Повесть
и уносит пожитки, и славу, и хлам.
Безоглядная речь. Неподкупная совесть.
Мой таинственный Кремль. Наш единственный храм.
О, какая пора б для души ни настала
и какая б судьба ни взошла на порог,
в мирозданье, где было такое начало —
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, — там выживет Бог.
Борис Алексеевич Чичибабин
________________________
144043
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 21.04.2023, 11:24 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 22.04.2023, 15:25 | Сообщение # 2737 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Вечно манили меня задворки
И позабытые богом свалки…
Не каравай, а сухие корки.
Не журавли, а дрянные галки.
Улицы те,
которые кривы,
Рощицы те,
которые редки,
Лица,
которые некрасивы,
И – колченогие табуретки.
Я красотой наделю пристрастно
Всякие несовершенства эти.
То, что наверняка прекрасно,
И без меня проживёт на свете!
Татьяна Бек
___________________________
КАК ПОХОЖЕ!
В Вешенскую приехал художник, академик живописи Борис Щербаков. Он давно хотел написать цикл полотен « На родине Шолохова». До этого он успешно живописал в Ясной поляне и Спасском-Лутовинове. Репродукции широко печатались в открытках, буклетах и каталогах.
На встрече с Шолоховым художник хотел заручиться поддержкой писателя.
— Что ж, дело стоящее,— сказал Шолохов.— Есть у нас подходящие места. Поживи, приглядись.
Поселили Щербакова в вешенской гостинице, дали в распоряжение «газик», приставили в качестве консультанта и провожатого инструктора райкома. Щербаков приступил к работе. Провожатый — бывший учитель литературы, местный поэт и краевед, был бесценным помощником. Он не только показал живописные меловые бугры правобережья Дона от хутора Громки до хутора Плешакова, в том числе и хутор Калининский, где Сергей Бондарчук снимал свой последний фильм «Тихий Дон», -но и ковыльную степь (дело было в мае), степные тюльпаны (лазорики), косяки лошадей, знаменитых дончаков, курганы, левады, пойменные леса, Лебяжий Яр и четырехсотлетний дуб, Отрог и ендовы, рыбаков, майские грозы и рассветы. Щербаков был переполнен впечатлениями, работал вдохновенно и много, каждый день, с раннего утра и до вечерних зорь.
К сентябрю художник закончил работу, его ждали в Москве. Щербаков отобрал десятка два уже готовых картин и пошел показать Шолохову, а заодно и попрощаться.
Писатель внимательно и молча смотрел на великолепие знакомых мест, одухотворенных кистью мастера. Курил и молчал. Молчал и курил. По легкой полуулыбке в усах и повлажневшим глазам можно было судить: понравилось.
Жена писателя Мария Петровна также смотрела из-за плеча Шолохова. Она не могла сдерживать эмоции.
— Как хорошо! — она крепко сжимала руки. — Все наше, все родное!
Последний картон она любовно погладила ладошкой и сказала, глядя в глаза Щербакову:
— Чудно! Прямо, как на фотографии!
Лучше бы она зарезала несчастного художника. Вместо похвалы взяла бы нож и прикончила. Не только лютые недруги, но и дружески расположенные к нему критики писали и говорили о нем именно этими словами, то есть обвиняли его в чистом натурализме, кисть сравнивали с фотообъективом.
С тяжелым сердцем уезжал Борис Щербаков в Москву. Кажется, после Вешенской он уже не мог продолжать и не продолжил свой замысел. А жаль, его вешенские пейзажи замечательны именно схожестью, живописной подробностью натуры. Найдите каталог, посмотрите сами. Или в интернете.
***
Родина
Над хутором высокий холм в меловых промоинах, в мелких зарослях шиповника и лоха.На самом верху лысый курган, вылизанный ветрами. Отсюда, с самой макушки, с высоты птичьего полета, как на ладони открывается хутор в окружении тополей и верб, аквамариновой зелени вишен, сирени, яблоневых и грушевых садов. Прямо по огородам, опушенная камышом , голубеет извилистая прожилка реки. Беленые хаты, плетневые околицы, сеновалы, колодцы с журавлями, голубятни, вытоптанная плешина выгона. В сиреневой дымке плавится воздух, зыбко дрожит золотистое марево.
На кургане девушка из хутора. Поднялась в самую рань, на восходе солнца. На ней соломенная шляпка, белая рубашка, схваченная узлом, шорты. Она стоит у раскрытого мольберта с кисточкой в руках, напряженно вглядывается в горизонт. На ватмане панорама хутора, высокое небо с облаками, подсвеченными восходящим солнцем.
К девушке подходит старик пастух. Опирается подбородком на палку, смотрит на девушку, на ватман. Здоровается.
– Ты чья же будешь?
Девушка улыбнулась неожиданной встрече.
– Я нездешняя, из города.
– Городские спать любят. Рисуешь, значит?
– Рисую, дедушка.
– Брат у меня в городе, в депутатах. А я из большой жизни выпал. С мальству тут, на бугру, с коровами. Да оно и лучше. На душе, как в затишке. Что мне надо? Кусок хлебушка, соли и водицы. Тут родник хороший, вода сладкая. Живности видимо-невидимо. Зайцы, еноты, лисовины, бабаки, суслики. Вот тут прямо я лося из руки кормил. Прибился к стаду, с коровами ходил. В последнее время много беспокойства от охотников. Бьют что ни попадя. Недавно еще дудаки были, стрепеты, орланы. Теперь нету. А ты, значит, из художников?
-Учусь.
- Большое дело. Я сам рисовал бы, только краски подбирать не могу. Мысленно этот бугор тыщу раз рисовал, а краски не даются. Вот тебе могу мысленно картину подарить….
Девушка внимательно смотрела на старичка. Он отбросил в сторону палку, выпрямил спину и строго, как учитель посмотрел на девушку.
– Бери бугор, где стоим, поближе к себе,– голос его обрел силу, рука дирижировала у ватмана.—Прямо с цветами бери. С шалфеем, с ковылем, с полынком, бессмертник не забудь. Шиповник отодвинь подальше. Теперь бери кладбище, уголок с крестами. Чуть ниже луговину с моими коровами. Вербы старые, горбатые. За ними речка виляет в камышах цвета лисий хвост. Дальше трасса в ниточку, тополя строчечкой, озимка глаз веселит. На горизонте, на самом конце хмарь, дымок. Теперь облака бери, пониже, покучней. Чисто кремль над головой. С золотым подбоем. И тень от них прозрачная. Коров и вербы клади потемнее. Пониже облаков, над кладбищем, орёлик завис. Теперь самое главное хутор наш. Хаты нарисуй так, чтобы печаль за душу брала. Чтобы покоем от красок сквозило.
– У Левитана картина есть «Над вечным покоем».
– Вечный упокой я знаю, там природа другая, не наша. Нарисуй так, чтобы наш хутор был лучше Левитана. Теперь назови эту картину «Моя родина». Хорошо будет?
Девушка засмеялась и погладила старичка по руке.
– Да вы настоящий художник!
Дедок уважительно посмотрел на нее, тяжело вздохнул.
– Жизнь быстро прошла. На этом бугру вырос, с коровами. При Сталине начинал. Всех вождей помню. При Сталине лучше всего было. В армию не взяли по инвалидности. На лошади колхозный гурт пас. Потом провинился – на овец послали. Бестолковые, а вот коровы по мне, понятливые. И от людей подальше, мне с коровами интереснее. И курган люблю. Красоту у нас никто не понимает, не восчувствует. Приедут молодые, веселые, грамотные. И шашлык жарят. Радио на всю громкость. Бабаки прячутся, суслики разбегаются, жаворонка не услышишь. Тут воронки от блиндажей остались. Наша батарея стояла. Били с кургана по немецким колоннам, которые на Сталинград шли. Теперь в воронках шашлыки жарят. Песок тут розовый, белый, сиреневый, охристый – какой хочешь. Такого места нигде больше на свете нету. Лет десять назад скульптуры, бабы скифские стояли, штук двадцать. Учителя ребят приводили, рассказывали про скифов. Потом каменных баб стали вывозить. В школьном дворе две стоят, зеленой краской покрасили. Одна при детском садике. Три штуки военкомат на фундамент взял, под общественный туалет. И мода пошла, богатые люди в палисадниках этих баб ставят… Ну, прощай, милая, коровы мои на стойло потянулись.
Дедок по-старинному поклонился девушке, весело подмигнул и поковылял вниз по склону вслед за коровами.
Василий Афанасьевич Воронов
__________________________
144072
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 22.04.2023, 15:26 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 02.05.2023, 18:24 | Сообщение # 2738 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| АДРЕСАТЫ
Не забыты квадратные метры.
Где на окнах в стаканах окурки,
Где с фасада осенние ветры
Обдирали слои штукатурки.
В каплях краски скрипучие ножки
Табуретки на лестничной клетке,
Где таскали подвальные кошки
Из фарфоровых блюдец объедки.
Там внутри, за обшарпанной дверью,
В малой комнате время застыло.
Может быть, я вернусь и поверю,
Счастье... кажется, здесь оно было.
***
На кафеле снежное тесто,
И в лифте сожжённые кнопки.
Недавно был выкуп невесты -
Остались разбитые стопки.
Повсюду железные двери.
В глазок кто-то смотрит прицельно.
Сегодня мы чаще не верим,
И рядом живем, да отдельно.
Где масса сомнений критична,
Закончились мирные темы...
И грустно, что это привычно.
Мы - часть неисправной системы.
***
На дне колодца серого двора
У мусорки два пьяницы кричали,
Хабар делили, спорили с утра.
Толпой уже промчались заводчане.
Закинули бутылки и картон,
Жестянки и заношенные кеды.
А в банке недоеденный бульон
Заботливо оставили соседи.
Всё понимают, выродилась злость.
Хрущевки, как панельные бараки.
Как бы самим под старость не пришлось
Осваивать те мусорные баки.
***
Любителя начать сначала
Ждет судьбоносный понедельник.
Останется в конце квартала
Многоквартирный муравейник.
Он в оглушительной удаче,
Забудет всех поднявшись выше...
Но если посмотреть иначе -
Остался шаг до края крыши.
И что бы то ни означало,
За чередой забот недельных
Любителя начать сначала
Вновь ожидает понедельник.
***
ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА
На поле боя два пути.
Ты выбирай, что по душе,
Готов – стреляй, а нет – беги.
Враги путь выбрали уже.
Вопросы эти не просты,
Что ни надумаешь решить,
Уже не будешь прежним ты,
Придётся дальше с этим жить...
***
СТАРОМУ ЗНАКОМОМУ
Вдохни, как дым, прохладу улиц,
Вдохни как можешь глубоко.
От нежности продажных спутниц
Не остаётся ничего.
Пусть кепку дерзкую ты носишь,
Не скрыть, предательских седин.
- А дальше что? - себя ты спросишь
Когда останешься один.
Перевнув опять страницу
Своих банальных стратагем!
Перебираешься в Столицу,
Чтоб возвратиться вновь ни с чем.
Ведь мы с тобой одной породы,
Но разве можно продолжать
Тонуть в иллюзии свободы,
И всё бежать, бежать, бежать...
***
Мой пригород - парочка станций,
Забытая службами глушь
Под грифом казённых инстанций,
В архивах сварливых чинуш.
Здесь шрамом железной дороги
Разрезан район пополам.
Прохожие смотрят под ноги,
Пиная пластмассовый хлам.
А небо глядит им на лица
Из грязных коричневых луж.
В ногах облаков вереница -
Что клин неприкаянных душ.
***
Вновь за домом
дворник жжёт
ворох листьев жёлтых.
С дымом в воздухе витает
пасмурная грусть.
В прошлогодних башмаках,
до смерти затертых,
тротуарами иду,
силясь не уснуть.
В подворотнях мужики,
что худые голуби.
В ноги им рассыпалась
опавшая листва.
Башмаками подниму
золотые всполохи.
Видно, дворник не дошёл
до этого двора.
И в такое утро мне
многое понятно.
Ощущаю я себя
опавшею листвой.
Жухнуть под ногами же,
право - неприятно.
Лучше ты сожги меня,
дворник дорогой.
***
Работа - дом, работа - дом...
Привычная для многих схема.
Неутомимая система
Доход определит трудом.
Работа - дом, работа - дом…
Не жди особых предложений.
Лежит на полке достижений
Не пригодившийся диплом.
Порядок пряника с кнутом
Местами можно переставить,
Вот только сути не исправить -
Работа - дом, работа - дом.
Толкают бесы под ребром
Во власть, в тюрьму или в богему.
Но там тоска... Вернуть бы схему
Работа-дом, работа-дом...
***
Я ел лапшу в пластмассовом стакане,
Но руки о штаны не вытирал.
Мог разглядеть породу в хулигане,
А если драку видел, разнимал.
Бывал не прав. Судьба меня таскала.
Гуляли мы, пугая ресторан,
Где липкий пол прокуренного зала.
И был тогда я тоже хулиган.
Но с возрастом становится сильнее,
Всё крепнет мысль весомая о том,
Что редко получается вернее
Брать силой то, чего не взять умом.
Насмешка ли, в итоге стал поэтом.
О жизни той так часто я пишу.
Но стоит ли мне тосковать об этом,
И для того заваривать лапшу...
***
Натерты мозоли на совести,
Скопилась на разуме пыль.
Но благо, из толщи духовности,
Сколочен добротный костыль.
Получены были по глупости
Досадные раны причин.
Лечились ошибками трудности,
Грубели кавычки морщин.
Симптомами обстоятельства.
Рекламный раскатистый шум,
Заразный как вирус стяжательства,
Им болен уже каждый ум.
Дыхание, сердцебиение...
Душе быть бы с телом вдвоём.
А то что внушает сомнения
Лечить, расколов костылём.
***
На площади утки, я им раскидал
Остатки черствеющей булки.
Маршрутку из старого центра я ждал,
Мой дом здесь, мои переулки.
Касается куполом неба Собор,
Гудит колокольное эхо.
Старинных фасадов белеет фарфор.
Маршрутка пришла... Я уехал.
Всё дальше от центра. Смотрю сквозь окно
Железной брюзжащей коробки.
И чувство такое, что еду на дно,
Водой прибывают высотки.
И в пасмурной серости тонет квартал.
Пора выходить из маршрутки.
В бетонную глубь мой путь протекал.
Сюда не слетаются утки...
***
Я принял к сведенью уроки,
Сбив ноги о нелёгкий путь.
Мне зачеркнуть бы эти строки,
Да то, что пропито, вернуть.
Границы чётко обозначить
Понятий тонких, словно нить.
Но как себя переиначить
И жизнь по-новому прожить?
***
ГАРАЖИ
Окраина прячет от взглядов
Бескрайний гаражный массив.
Рабочие высших разрядов
Шабашат здесь, воли вкусив.
Беседуют на перекурах
О суетной жизни страны
На лицах без возраста, хмурых
Черты недовольства видны.
Здесь надпись на сером заборе,
Под стаей галдящих сорок -
Строку в современном фольклоре
Оставил гаражный пророк.
Прописано грубо, но точно,
С тяжелой рабочей руки,
В сознанье вбивается прочно:
"Всем русским простите долги!"
***
Две стороны
Стал многим привычен экран на часах,
Но мне по душе старомодные стрелки.
Застрял по дороге в двойных полосах
Мой бизнес, живущий от сделки до сделки.
Третируют разумы две стороны,
Так часто случается в важных вопросах.
Что есть одуванчик в масштабах страны?
И нужен ли фильтр в пустых папиросах?
Бывает и так, что одна сторона
Преследует чуждые разуму цели.
Дружище, не стоит катиться с ума
И в уши засовывать сверла от дрели.
Но мыслят, в итоге, вот, как не крути,
По-разному два полушария мозга.
Орёл на плече, что змея на груди...
Дерутся два брата в грязи у киоска...
***
В морщинах пыльная дорога,
Ведёт к окраине страны.
От многолюдного истока
До устья тихой глубины.
По сторонам такой дороги
Дома стоят, как сундуки.
Над ними кружатся сороки,
В них клада нет, лишь старики.
Зудит нечесанное поле.
Скелеты тракторов на нём.
Дворняге воля, что не воля.
Зарос пожарный водоём.
В морщинах пыльная дорога,
Ведёт к окраине страны.
И два оставленных порога
Дорогой той разделены.
Александр Михайлович Рыжков https://stihi.ru/avtor/boing88
_________________________________________________
144453
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 02.05.2023, 18:26 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 04.05.2023, 18:48 | Сообщение # 2739 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| * * *
Шла я по свету мало по малу, искала бога.
Свет выжимала, словно рубаху, в ночные волны.
С миру по нитке – насобираешь много:
Зевсы, Ярилы, Мухаммады, Арагорны.
Боги, пророки, идолы. Изучила,
Кто как ласкает, кто как сжимает жадно.
Был и такой: сошел по лучу светила
И растворился бликами. Ладно-ладно.
Я их теперь вспоминаю, надев хлабуду,
Шествуя по полям душистым, по краю неба.
Несколько раз в году вспоминаю Будду,
Несколько раз на дню Бориса и Глеба.
Несколько раз за час Александра да Алексея,
Несколько раз за миг Сергия, Константина.
Ну, и тебя вспоминаю, голубь, пшеницу сея
Да утопая в тяжелых светлых объятьях сына.
Он меня перерос, иногда и стремно:
Так не растут другие дети, помилуй Боже.
В дом возвращаюсь: и счастье мое огромно
Да и несчастье мое преогромно тоже.
***
Двадцать первый замороченный век.
Населенный пункт. Этажный отсек.
Схлынул с улицы, впитался в дома
Человеческий поток, я сама.
Человеческий поток поутих,
В телевизорах разлился святых.
Вот крадется сам к себе на постой
Квартирант-узбек из тридцать шестой.
Монотонные толчки за стеной:
В тридцать пятой муж сошелся с женой,
В тридцать третьей мать с дежурства пришла,
В тридцать… в общем, сына я прижила.
Нажила его в начале веков,
Принесла его в зубах с облаков:
– Вот, соседи, посмотри, похвали,
Есть теперь и этот сын у Земли.
То ли стук за стенкой, то ли салют:
В тридцать пятой-то, однако, дают!
В тридцать третьей жарят рыбу, поют.
А узбека только завтра убьют.
Разбуди меня, будильник, в раю.
Разбуди идти в путину мою,
В добровольную мою колыму…
В тридцать… в общем, сына я подниму.
* * *
Интернет облазила на предмет:
Как мне сыну галстучек повязать.
Снова ела сладкое на обед –
Нарушала заповедь, так сказать.
Размышляла, батюшка, о любви.
Приходила к выводу, что стара.
Покупала гвозди себе в ОBI,
Для ковра, да бог с тобой, для ковра.
Проверяла, есть ли в районе связь,
Батарейки ставила в телефон.
Что куплю себе тренажер, клялась
И такой красивой стану, что он…
Представляла, скоро пойдет на лад.
Удивлялась – что же я хуже всех?
А в обед позволила шоколад…
Это грех ли, батюшка, это грех?
Как-то тихо в жизни, как будто в ней,
На носочках время крадется прочь,
Вдруг прозрела: будущее страшней,
Потому что смерти не превозмочь.
Но теперь, когда остается треть,
Веришь как-то легче, быстрей, навзрыд,
Что вопрос о том, есть ли, Отче, смерть
Или нет ее – до сих пор открыт.
***
Я первая очнулась ото сна. Плыла в окне огромная луна. А впрочем, отмотаем, извините, всё к точке пробужденья. Вдоль окна шли спящие: спина, спина, спина. И было солнце белое в зените. Я проезжала мимо череды, заглядывала в лица. Цвет беды – одежды их, но выгорев на солнце, беда их запылилась, как сады в конце июля. Слепы и худы, текли – не то орда, не то тевтонцы.
Лоснилась в небе лысина Творца, и капал пот, как воск, с его лица. Все оплывало, плавилось. «Усни я, – подумалось, – вот так бы шла, овца, с повинной головою на ловца, твердя: – …разруха, деспот, тирания».
Я чувствовала вес небесных тонн и понимала, что вина – есть сон невинных, что не мягкий Бог серчает на мой народ, а чип в него внедрен с константою вины, и верит он, что за Адама с Евой отвечает, за Вавилон, Гоморру и Содом, за войны и стихии за окном, царей-убийц, царей убитых – тоже, за Третий рейх, ГУЛАГ, застой, Газпром, за Украину эту, за роддом, где родились. О, боже, боже, боже!
И мне хотелось крикнуть: стоп-игра! Сменился день, который был вчера, забудьте вам введенные подкожно грехи отцов! Очиститесь! Ура!!!
Но шли они, у каждого дыра в груди: персты вложить, пожалуй, можно.
***
Отойди на шаг. На два.
В красный угол.
Видишь, это не дрова.
Это уголь.
Это – недра. Это с шахт
Тянет дымом.
Боже, выходи на шлях,
Помоги нам.
Всё теплей, еще теплей,
Жарко, меркло.
Не подбрасывай углей
В это пекло.
По углам их разведи,
По майданам:
И с напалмом из груди,
И с метаном.
Кто заломится в бреду
Над сыночком?
Кто поделится в аду
Уголечком?
Ищет третьей мировой
Семя жлобье.
Этот уголь – образ твой
И подобье.
* * *
Я твердила себе: не могу, не могу, ну, нет
больше сил моих, Господи, взращивать белый свет,
оберегом быть ему, клеточкой, скорлупой.
Я от света стала выцветшей и слепой.
Так сначала в майской дымке пресветлых утр
в лепестках сирени копится перламутр,
а потом соцветья все набухают мглой,
потому что тяжек свет, словно водный слой.
Из меня струился свет в миллионы душ,
из меня испили свет миллионы глаз.
У меня внутри прокатный стан обнаружь,
и закрой его, Господи, хоть на день, на час.
Я устала, Господи, в этой плавке самой себя,
я давно миллионы раз проходила горн:
от котла со сталью, булькая и сипя,
прорывалась в космос, мордой вонзалась в дерн.
Но светила – пятой точкой, пальчиком из носка,
потным лбом своим и краснотой стыда.
Если есть на свете свет, он и мой слегка,
ты ведь сам просил светить на свои стада.
Посмотри, как свет струят, испуская дух,
на деревьях кроны, на мне больничный халат.
Я совсем погасну скоро, свергая слух
о бессмертии, но образуя облако тысячью киловатт.
Ах, какую ты святошу создал во мне!
Ибо там, где свет разлился, споткнется зло.
Ты доволен мной? Ты такую видел во сне?
Не ссылайся на шквальный мрак, здесь ведь так светло!
Да, светло ль тебе, красно солнышко, от моих щедрот
в снеговой пыли, в ледяном дожде, в торфяном аду?
Я умру, а свет мой будет еще не год
и не два разливаться в этом земном саду.
И откуда он берется всегда во мне,
словно в том колодце, где блещет звезд отраженный свет,
на такой недосягаемой глубине,
что порою кажется: дна в человеке нет.
***
Мария Ватутина: ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ. ВОТ И МИЛЛИАРДЕРЫ СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПРЕМИИ ЗА СТИХИ…
Эту статью еще можно было бы назвать «Всюду жизнь», но уж больно силен контраст между двумя «интересными» событиями в литературном мире.
<...>
У нас поэзия существовала до некоторых пор либо тихонько, чтоб не дай бог массовый читатель не спросил «это о чем вообще?», «это по-русски написано?»; либо дорого-богато, лучше, конечно, в большом зале, куда людей заманивали «поэзией сальностей», лихими откровениями о плотском или шок-стихами поэток в пубертате, а еще лучше в хорошем ресторане, или вот в домашнем театре Юсуповского дворца на Мойке, где когда-то презентовала книгу еще одна чудесная дама, а для восхваления ее стихов были приглашены Алла Демидова, Александр Голобородько, опера и балет (!), а потом ее вечер прошел и в Музее Пушкина в Москве с восхищенной Ириной Мирошниченко, Пресняковым-старшим. Представляли книгу Александры Очировой Андрей Явный и Дана Курская как издатель.
Что-то тут не так.
Деньги нужны всем, себя можно уговорить выполнить за гонорар то, что не очень соответствует твоим представлениям о чистом искусстве – ну до определенной степени прогиба и провисания собственных принципов, но нельзя же пилить сук, на котором сидишь; нельзя губить поэзию, отменяя границы и эталоны.
Но тут пришел февраль двадцать второго. Этими словами будет начинаться глава в учебнике русской литературы. И не финансовые возможности, не административный ресурс, а читатели выбрали себе поэтов. Это легко установить по востребованности известных патриотических антологий, по народным призывам к поэтам приезжать в города, запросам на книги вновь обретенных авторов, по массовому отклику и заполненным залам поэтических вечеров. Это не феномен, несенсация – это атака, прорыв и победа на культурном фронте, где все «по чесноку», где люди нас давно ждали. Информационное поле засеяно поэтическими событиями.
Жаль только, что те, кто всовывает людям под видом поэзии тихие междусобойчики или помпезные увенчания лаврами самозванцев, еще не поняли, что их организаторские способности можно было бы пустить на доброе дело. Ну ничего. Мы сами, сами. https://vnnews.ru/mariya-vatutina-iz-ognya-da-v-polymya-vot/
________________________________________
***
я не молчу не молчу вот она я кричу
немо кроваво зло то́лку-то сгусток крови
звуки кричу рычу носом мычу учу
сына молчать кричать об оскверненном крове
кто же теперь молчу кто же теперь любви
нас удостоит сын нет никакой надежды
но ведь и раньше кто кто по локоть в крови
кто они хоть когда нас любили прежде?
ангелы соберись в наших-то полеса́х
только лютей вокруг шепоты и шипенье
а у кого какой размах такой и окрестный страх
и вот оно подтвержденье
на голубом глазу мщенье кричит ползу
убивать ребенка за слезу другого ребенка
жизнь моя горе и нищета да и ту мездру
перемолола моя сторонка
нет у меня меня голос труслив и смят
ФИО мое ушло отрекаться от мира худого
писем не шлет в родной палисад
знать убито раз так херово
раньше мы были то что заплывало в сеть
нынче мы сами сеть с фильтрами для печати
заражены войной и надо переболеть
перекричать перемолчать печали
скоро отключат ад все вернутся назад
внутренности соберут с асфальта
выведут из потребления слово брат
вот тебе и финал навязанного гештальта
а пока ты коробка дома с провалом внутри
шепчущая не молчите братцы изверги на причале
живые мертвые вы мои черт вас дери
вы-то что же молчали?
те мы и эти мы правы как бы теперь понять
где она правда сука первая... Содома…
я кричу кричу я молчу хорошо что мать
умерла а сын хорошо что дома
***
Новостийной ленты петля с утра наползает на вгорлеком.
Сколько видов местности операторы выхватят маршброском.
Возле шляха лес, а в лесу гора с переходами и мостком.
Досифея Киевская, сестра, в чреве горном лежит ничком.
В катакомбах, вырытых ею самой три века тому назад
Не для этого случая, для земной молитвы за грешных чад,
В дальней келье затеплился сам собой град дымящийся из лампад.
Досифея, сестра, не ходи домой, подожди, пока отбомбят.
Содрогаются, видишь, вовсю холмы, и трепещут коренья трав.
Это там сражаемся мы и мы по веленью своих держав.
Досифея, Дарьюшка, дай взаймы хоть щепотку своих приправ,
Научи подвальных твоих горемык немотою орать в рукав.
Защити живых, упокой солдат во солдатском честно́м раю,
Где они – младенцы, над каждым мать со своими баю́-баю́.
Вот Матрона к тебе пришла горевать, принимай Матрону мою –
Москву с Киевом отпевать, да варить кутью.
Проползает радужный репортаж, снежным саваном чернозем.
Досифея, ты ли, как страшный страж, встала на рубеже своем?
И гора пришла, заслонив пейзаж, и заполнила окоем.
Но сменил обзор оператор наш, стиснут намертво вгорлеком.
***
ТЮТЮН
1.
На нейтральной полосе
Клевера да рожь.
Живы все. Да нет, не все.
Этого не трожь.
Посидим на берегах,
Комарню дразня.
У тебя Чумацький шлях,
Млечный – у меня.
Что ж, курнем, на звездный пляс
Голову задрав.
Кури́ння вбиває вас, –
Говорит минздрав.
Что нам будет с тютюна,
С нычного бычка.
Говорят, что здесь война
Косит с кондачка.
Привыканием грозит,
Гибелью мальцам.
От нее гнильцой разит
Вот таким курцам.
Ты, служивый, не вихляй,
Гнівом не страдай.
Хочешь выстрелить, валяй,
Не предупреждай.
Ну, а вдруг тебе палить
Вовсе надоест,
Я ей-божечки смолить
Брошу, вот те крест.
Если дело в тютюне,
Можешь брать билет!
На гражданской на войне
Победивших нет.
2.
Баба Вера – лоб к окну –
Под окном – коза,
Спрашивает про войну
Неба образа.
Что там слышно, фуить да фуить,
Надо ж как-то знать:
Ей козу с утра доить
Или уж не надь?
Как узнать-то ей, хромой,
Перспективу дня.
Разговор у них прямой:
– Сбережешь меня?
Бог вздыхает с высоты:
– Длятся дни твои.
А козу сегодня ты,
Вера, не дои.
Обнимала божью тварь,
На рога – цветок.
Ну, теперь отсюда шпарь,
Попасись чуток.
* * *
Предрассветное тлеет кострище,
Холодеет картоха в золе.
Где-то справа стоит Трёхселище –
Деревенька в московской земле.
Первый опыт ночного дозора,
Непроглядный туман вдоль полей.
Дотлевающий чад разговора
С пионерской вожатой моей.
Первый опыт людского участья
И заботливый плед на спине.
Нет, не счастье – сулит мне всевластье,
И расклад еще нравится мне.
Спит отряд утомленный вповалку,
Завернувшийся в куртки плотней.
Мы с вожатой какую-то балку
Присмотрели и, сидя на ней,
Смотрим с самой возвышенной точки
На беременный солнцем простор.
И она стихотворные строчки
Подбавляет в ночной разговор.
Расстается картошка с мундиром,
Жжет поэзия жарче огня,
И является солнце над миром
Прямо точно напротив меня.
***
Подойди ко мне, покажи, что у тебя в руке?
Покажи, не прячь. Доставай. Отдай это мне сюда.
Говорят тебе, выброси, брось, закопай в песке,
Где ты это взял? Какая-то прям беда.
Мы же с тобой договаривались, мы говорили об этом.
Никаких пистолетов. Ты что у меня – с приветом?
Ты в кого собираешься тут целиться, в кого стрелять?
Ну, давай стреляй тогда уж в родную мать.
Ах, не в мать? А в кого – в котенка вот этого? В воробья?
Ничего, что мы все живые – и они, и я?
Как ты будешь жить-то потом, тебе фиолетово?
Ты об этом подумал? Я тебя рожала - для этого?
Посмотри на себя: вырос, лоб пятилетний! голова два уха!
Но послушай, даже в обмен на то, во что наигрался,
Не бери эти пушки. Даже пластмассовая тэтуха
Обернется против тебя! Лучше б ты так старался
Свинку отмыть от краски, лучше бы – Карлсон, Рыбак и рыбка.
А война – это всегда ошибка.
Это что же, как же – котелок, шинель, вещмешочек?..
У меня никто не отнимет тебя, сыночек.
***
Визитная карточка
Все было попусту. Пафос. Разоблаченье властей.
Ненавидели люто. Любили дергано.
Пытались делать детей
в отсутствие детородного органа.
Уходили в ванную, кафельную, как морг,
и ложились в воду, с бритвой, водкою
и телефоном. Спасал звонок.
Брали глоткою.
А теперь ори не ори — все оральный бред.
Заиметь прислугу. Пожить барыней.
Поиметь весь высший свет,
разоблаченных баловней...
Мама, Господи, ну а кто ж меня,
хоть какой плюгавенький?!
Чтобы сам пришел, среди бела дня,
цветик аленький.
Паду в ножки, расстелюсь травой, брошу чушь пороть.
Буду щи варить да поругивать Путина.
Не дает Господь. Говорит Господь:
— Не пора, Ватутина.
4 мая день рождения замечательной русской поэтессы — Марии Ватутиной.
______________________________________________________________
144512
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 04.05.2023, 18:49 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 06.05.2023, 09:26 | Сообщение # 2740 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Из первоцветенья глаз,
из детского щебетанья,
из песен, что пела мать,
струящихся как вода,
ты сам состоишь сейчас,
ты в жизнь посвящён как в тайну
которую не познать
наверное никогда.
Извивы твоих путей
судьба будет бритвой править
и будет терзать беда
без жалости и конца...
В неласковой маете
одна лишь святая память
удержит тебя всегда
как крепость руки отца.
***
Когда б ни выпало проститься
я с этой стороны на ту
в трамвае красном, единице,
прогромыхаю по мосту.
Не растворюсь в лучах заката,
не в вечный вознесусь покой -
уеду просто, как когда-то
я в детстве ехал над рекой.
Пусть понемногу забывают -
всех забывают, жить спеша -
но в старых липецких трамваях
останется моя душа.
***
Так тихо здесь - куда ни погляди:
лесок вдали, заброшенное поле,
неясные надежды впереди
и пониманье - это всё пустое.
Не отмолить рождённым во грехе
грехов своих в травой заросшем храме.
Что было - солнцем катится к реке,
чтоб сгинуть в ней мгновенно, словно камень.
И никого ни скликать, ни сыскать -
здесь небо избам продавило крыши.
Листает ветер травы, как тетрадь
в которой слов вовек не разобрать
и голоса родного не услышать.
***
С нечёсаной немытой головой,
в запёкшейся крови, под старой ивой
он улыбался: главное живой
и отводил глаза свои стыдливо.
Футболила щебёнку пацанва
в него, как злобный рой вокруг кружила...
Он голову руками закрывал
в смирении, уму непостижимом.
Когда народ со смены шёл домой
его сгоняли матом с остановки.
Он улыбался: главное живой
и уходил смущённо и неловко.
Я не припомню был ли он алкаш,
а имени его не знаю вовсе.
Он просто был. Обычный, как пейзаж.
Как солнца свет, как, предположим, осень.
Он в Лету канул сколько лет тому
назад, а всё осталось тем же самым:
автобус, небо в заводском дыму,
девчонка, в сад идущая за мамой...
Но если вдруг я не в ладах с собой,
кривится путь и ничего не мило,
подскажет память: главное - живой.
И я живу. И всё преодолимо.
***
Дядь Вася угол снял
в подъезде по соседству.
Потрёпан, лысоват -
обычный мужичок.
Судачили скамьи,
что он ущербный с детства,
что страшный бандюган
и разное ещё...
Он ящики таскал
на продуктовом складе
и после смены шёл,
пересекая двор,
как помнится теперь,
в измученном бушлате.
- Остался от отца. -
и кончен разговор.
Немногие рубли
он в спирте мыл, конечно,
но точно никогда
не напивался в хлам.
Руками разводил,
мол, кто из нас безгрешен,
но спуску не давал
дворовым алкашам.
Тянулась, в общем, жизнь
не глупо и не мудро
и точно бы дошла
до старости седой,
когда вдруг по весне
спокойным тихим утром
его нашли ничком
с пробитой головой.
Был очень бедный гроб
и скромное прощанье,
он кажется не смог
соседям стать своим.
Жалели, что алкаш,
вздыхали без печали...
А женщина одна
всё плакала над ним.
Решили, что жена -
для дочки старовата -
ну значит был развод
и всё как у людей.
Потом вкопали крест
проворные лопаты,
а правду принесла
сорока на хвосте.
Та женщина одна
шла, припозднясь, с работы,
как водится порой
решила повернуть,
чтоб сократить слегка -
обычно никого там,
но вдруг два паренька
ей перекрыли путь.
И дальше просто всё:
у ужаса во власти
им сумку отдала,
готова ко всему.
А мимо шёл мужик -
обычный дядя Вася -
закрыл её собой
и подтолкнул во тьму...
***
Ржавое с чёрным - осень.
Меркнущий тихий свет.
Трактор, клюющий носом -
трассы в помине нет.
Жмутся избушек десять,
дальше овраг и лес.
Кто не уехал к детям,
тот выживает здесь.
Щурится баба Паша,
хлопоты всё в дому,
жизнь непростую нашу
клясть - это ни к чему.
Сев, опершись на руку,
ловит короткий сон,
вздрагивая от стука -
хода стенных часов.
Волнами раскачало
прежних времён уклад -
дочь городская стала,
вот бы старик был рад.
В людях теперь, при муже,
стало быть жизнь права.
...Стынет нехитрый ужин,
клонится голова.
Ветер шумит по саду,
словно обретший плоть.
Всё будет так, как надо,
будет как даст Господь.
***
Прохладой повеяло к вечеру,
лес шепчет о самом простом:
твоё неразрывное, вечное
отвалится жёлтым листом.
Жестоко природное таинство,
неписаный древний закон.
И сердце невольно смиряется,
так длится веков испокон.
Чего бы судьба ни подбросила -
уйдёт, как вода из горстей.
Похоже я двигаюсь к осени:
всё меньше держусь за людей.
***
В память краткосрочные визиты,
как с самим собою прежним связь.
...Улица была незнаменитой,
ведь она Заречной не звалась.
Хоть весны бумажный самолётик
лёгонький метался тут и там,
лучше помню осень на излёте
и ватагу нашу по дворам,
по скамейкам в многолюдных скверах
в чёрном адидасе на ветру,
не к словам привыкшие, а к делу,
большинство - студенты ПТУ.
Обретая голос, слух и зренье,
я себе всё чаще повторял:
только труд достоин уваженья,
пусть он даже для кого-то мал.
Потому к успехам не ревную -
по заслугам каждому дано.
В люди шёл не через проходную,
только суть не в этом, всё равно.
***
Был октябрь и день начинал остывать,
воздух был как пружина упругий.
- Поднажми!
- Ну ловчей!
- Ну вот так, твою мать! -
разносилось вовсю по округе.
Деловито сновали вокруг мужики,
трактор полз, пацаны не дышали...
Из объятий заиленной мутной реки
грузовик бортовой доставали.
Старомодно-квадратный, нелепый на вид,
он на берег залез, на пригорок -
и казалось, что небо сейчас засвистит,
дым завьётся из свежих воронок,
мессершмитты, как стая ворон налетят,
мост разрушится, вспыхнув как свечка...
... И стоял грузовик, ждал - вернётся солдат,
чтобы брод отыскать в этой речке.
***
Травы метятся в небо, как стрелы,
только помнит земля об ином:
танки, избы, дорога - горели,
всё вокруг выжигало огнём.
Не деля на врага и на друга
смерть солдатам стелила кровать...
Только жаль, что коттеджам в округе
на их сон глубоко наплевать.
До зубовного скрипа корёжит
запах терпкий, медовый, густой -
зарастает быльём безнадёжно
обелиск с проржавевшей звездой.
***
На меня, не видевшего боя,
через непролазный русский мрак
смотрят те, кто лёг в бескрайнем поле,
не смогли их вытащить никак.
Солнце, что всегда проходит мимо,
им как пламя Вечного огня.
Сколько шрамов на лице без грима
у страны, что смотрит на меня.
Раз не всем кто пал нашлось местечко
под надгробьем звёздно-фронтовым,
значит звёзды в небе каждый вечер
до единой - все во славу им.
Им ветра весной играют марши
или вальсы довоенных лет -
мальчикам и девочкам, пропавшим
без вести в своей родной земле.
***
Я прихожу всё чаще и молчу
к тем памятникам - часто возле церкви -
где алфавитный строй плечом к плечу
ребят, не возвратившихся к родным.
И суета житейской чепухи
мельчает сразу, затихает, меркнет.
Чтоб я сейчас мог клясть свои грехи,
они остались на полях войны.
Они нашли последний свой приют
под Вязьмой, под Ельцом, под Ленинградом,
не ведая, что Гитлеру капут,
что внуки носят их над головой.
До мутно-влажной пелены в глазах,
до боли в сердце прошибает правда -
уж если без иронии сказать,
то только им: спасибо, что живой.
Александр Анатольевич Лошкарев
____________________________
144547
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 06.05.2023, 09:30 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 08.05.2023, 18:36 | Сообщение # 2741 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Его душа пока еще чиста, а всё вокруг него светло и просто. Глубинный, самый жуткий в мире страх - о том, что ночью под кроватью монстры скребут когтями пол, воруют сны, урчат утробно и хвостами вертят. Глазами цвета утренней росы на мир смотреть умеют только дети.
А этот мир в ответ на них глядит. Рассаживает монстров под кровати. Мир точно знает: страхов впереди на каждого ребенка точно хватит, поэтому пора уже сейчас учить детишек правильному страху.
Вот монстр под кроватью щурит глаз. На спинке стула папина рубаха, на мумию похожая точь-в-точь. Вот за окном руками машет тополь. Шагами город измеряет ночь, из-под подушки тоже слышно топот, и очень страшно высунуть хоть нос. Но сон в конце концов сильнее страха.
Рассвет пришел и страх с собой унес, а монстров солнца луч рассеял прахом.
Вот, как обычно, выпала роса. Мальчишка встал, зевнул, пошел умылся. Ни мама не заметила, ни сам, что взгляд его немного изменился. Не помутнел, но будто стал острей, взрослее стал, увереннее, жестче.
Вот монстры под кроватью, а над ней трепещут крылья черной птицы-ночи. Он крепко спит, ни капли не боясь, а мумия теперь - его рубаха. И снов его невидимая вязь - сплетение совсем недетских страхов. Там первый долг, там пьяная толпа, там девушка с другим идет под ручку, там и во сне так хочется поспать, там ни за что начальник всыпал взбучку, там телевизор полон новостей, где ни одной про плюс и все про минус. Там пропотела страхом вся постель, и монстры в страхе в дальний угол сбились.
Он повзрослел. Он спросит, как понять? А я ему отвечу: очень просто.
Взгляни однажды ночью под кровать. Смотри, как от тебя сбегают монстры.
#мальвинаматрасова
_________________
Кровинка
Рассказ
— Когда появятся уши, дело сделано, — говорит врачиха.
На ней голубой халат и прозрачно-зеленая шапочка. То же самое на мне.
— Ху. Ху. Ху… — жена часто-часто дышит открытым ртом, живот ее ритмично опускается вниз.
Еще в начале беременности она заговорила о моем присутствии, и я, легко согласившись, вместо любопытства чувствую сейчас темную, дикую тревогу, хотя, судя по врачихам, для них все обычно. Боюсь помешать им, отвлечь, лишний раз встретиться с женой взглядом, сдерживаю порыв выйти в коридор и мысленно тороплю, не ее, конечно, а эти роды, как некое капризное божество.
Ноги широко разведены и высоко подняты, а между ними — яркое пятно света.
— Дышим, тужимся!
Я тоже тужусь и сжимаю запрокинутую ногу, поглаживая, стараясь придать сил. На другой ноге — рука врачихи. Мне кажется, мы толкаем заглохшую машину в гору.
— Дышим! Молодец!
Из сырого красноватого лоскута мяса показывается лоскут волос, темных, мокрых, вьющихся. Картина сюрреалиста.
Голова выступает мягкими толчками, склизкая, похожая на большой набухающий гриб.
Совершенно неожиданная волосатость той, чье лицо никогда не видел.
— Расческу уже купили? — смеется врачиха.
Вторая врачиха, обхватив, тянет голову руками в резиновых перчатках.
Кажется, она действует грубо и опасно, но молчу, не возражаю, уверяю себя: не мешай, это только кажется.
Рывок, рывок, новый плавный рывок, голова извлечена наружу — безжизненное квелое красное личико с закрытыми глазами — на приставленный белый плат брызжут мутные фонтанчики. Мне мнится ужасное: ребенок мертворожденный.
— Передохни…
Врачиха поворачивает младенцу голову, как бы отвинчивая. Хочется крикнуть, но немею.
…Перемещает младенца личиком вверх, выпрастывает плечико, затем ручку…
— Потужься еще! Ноги, ноги…
Слова перекрывает вопль.
— У-а-а…
Первый, но уверенный, как будто девочка репетировала там, где была.
Она висит на медицинских руках, вопя и жмурясь, в кашице, белесо облепившей все тельце и особенно попку. Длинный сизоватый червь пуповины тянется ввысь из кровоточащего лона.
Дочку кладут на мать, кожа к коже, щекой к опустевшему животу, накрывают пеленкой, и она таинственно затихает.
Мне доверено особое действо. Трепещущей левой рукой держу пластиковый зажим, правой перерезаю ножницами тугую пуповину: стальной щелчок.
Девочку подтягивают выше, к ждущей груди.
Она снова пробует голос, сердито мявкает, находит сосок, причмокивает.
Вглядываюсь в личико, минуту назад сморщенное и гневное, а теперь подобревшее и разгладившееся, с крепкими щечками, и уже не пунцовое, а розовеющее.
Целую крохотные пальчики с острыми, отрощенными во тьме ноготками.
Дитя опускают на весы, на которых почему-то написано «Саша». Тотемная больничная Саша — покровительница всех Маш, Тань, Катюш. Еще безымянная девочка зевает, щурится, первый раз чихает.
Из матери, сияющей и слабой, сочится кровь, все прибывая. Как остановить?
Соединяюсь долгим поцелуем с ее подрагивающими губами.
И тут же через стену долетает отчаянный ночной стон, переходящий в пещерный вой. Это в соседней палате страдает роженица, которая, как доверительно шепчет врачиха, отказалась от обезболивающего.
Девочке уже неделя. Затаив дыхание, купаю ее в розовой кукольной ванночке, придерживая голову. Она блаженствует, крутясь под теплой водой, непрерывно бултыхая ножками и не закрывая рта. Глазки ее поблескивают темно и хитро.
Скоро они у нее посветлеют, как и волосы. И выпадут шерстинки звереныша, покрывавшие уши и попку.
Прошло время,мы вдвоем на даче, она возится на полу с восковыми карандашами, оставляя на листах цветной хаос, я же, как могу, рисую Буратино и бородатого Карабаса, подгоняемый требовательным: «Нось! Бась-Бась! Исё!»
Отхожу в другую комнату за книжкой, и до меня доносится приветливое, но столь же требовательное:
— Рисовай, рисовай!
Возвращаюсь: она разговаривает с мышью, тихо грызущей карандаш посреди кухни.
Мышь похрустывает, зачарованная, словно вылезшая из сказки, и не замечает нас. Похоже, одурманенная ядом, пришла к нам от соседей.
— Рисовай! — моя девочка придвигает к ней лист.
Что она ждет от мыши? Космический вихрь? Профиль Буратино? Или, может, автопортрет?
Срываю кухонное полотенце, набрасываю на темно-серый холмик, бегом несу на крыльцо, почти не ощущая, и выкидываю в снег и темноту.
Стою, зачем-то вглядываясь в равнодушный сугроб, к чему-то прислушиваясь. Стоять холодно, а дочка уже хнычет и стучит в дверь веранды.
Иду в дом, где наполняю ванну теплой водой. Пробую рукой: не горяча ли, погружаю малышку, выдавливаю пенку, и начинается наше ежевечернее представление. Сижу на корточках и выставляю пластиковых зверят на блестящий край ванны. Они общаются парочками — корова и лиса, черепаха и волк, одного держу я, другого она — привет, привет, как дела, ты кто, я лиса, а я черепашка, давай дружить, давай, а давай прыгать, давай, прыг! — и падают в мыльную гущу, пробивая полыньи.
Под конец купания девочка окружена зверинцем. Она вертится и поливает каждого из лейки, рассеивая там и тут нежно шипящую пену.
Последним кидается серый слон, чтобы вынырнуть хвостиком наружу.
— Мам, у нас мысь, — заявляет дочка.
— Правда? — жена вернулась из магазина и стоит со мной рядом. Она сразу догадалась, что речь не об игрушке.
— Правда.
— И что ты с ней сделал?
— Отпустил.
— Надо было убить.
— Она и так замерзнет.
— Ты не знаешь мышей. Они могут за километр вернуться.
— Эта не придет. Она была полудохлая.
Отрывистые слова над тающей пеной, в просветах которой радостно двигается худенькое детское тело. Курлыкая, пища и лепеча, девочка сталкивает зверей. На светлых кудрях висит мыльный клок.
Зачерпываю пену и мажу себе подбородок: седая окладистая борода.
— Бась-Бась! — мгновенное опознание.
— Дед Мороз, — хочу казаться добрее.
— Бась-Бась!
Ну ладно, пусть буду седой Карабас.
Прошло еще какое-то время, мы на море. Она резвится у воды, возле двух мальчиков постарше, которые пинают мяч. С женой читаем книги, то и дело поднимая глаза. Мяч улетает в воду, следом смело шагает Катюша. Она стремится ему навстречу, воздевает ручки, делает новый шаг и с головой пропадает в глубине: видна только макушка с торчащими волосами. Все происходит за секунду — стальной щелчок ужаса — я бросаюсь со всех ног, спотыкаюсь и падаю, вспоров шлепанцем серый песок с острыми ракушками. Вскакиваю и бегу, пока мальчики тянут утопленницу за подмышки.
Подоспевает жена, благодарим ребят, обнимаем и оглядываем спасенную, а та ничуть не испугана. Она скалится, хохочет, таращится, мокрая насквозь и ослепленная солнцем.
Вместе с облегчением приходит боль. Простые рифмы боли: темная борозда на песке, алая рана на колене. Рана наполнилась солнечно-яркой кровью, бегущей струйками по голени. Как остановить?
Не надо бы показывать такое дочке, но, заметив рану, она любопытствует, хочет дотронуться.
Я вытянул ногу в теньке, где темнолицый доктор льет жгучую перекись, от которой кровь бледнеет и пузырится. Катюшу не отвлечь, она большими глазами наблюдает волшебство. Доктор ваткой тычет в рану. Беру мокрую ручку, целую мизинчик и, морщась, прикусываю, солоноватый. Катя пристально смотрит мне в глаза взглядом, полным сострадания, и вдруг находит слова утешения:
— Папа, я тоже болю.
— Давай ты лялечка, а я мамочка…
Она уложила меня на диван и притащила в изголовье толстую книгу сказок.
— Одна девочка понюхала цветочек, он болел, и она заболела, и ее отвезли в больницу, и цветочек тоже…
За окном — шептание мороси и осыпающегося сада. Катюша листает книгу и рассказывает бойкой скороговоркой, обгоняя свои фантазии.
Это двойная и даже тройная игра: она изображает мать, баюкающую дитя, и притворяется, что умеет читать, на самом деле, придумывая истории, а я подыгрываю будто сплю.
— У девочки и цветочка была бобошка, и девочке, и цветочку дали лекарство…
Ее истории могут тянуться бесконечно, быть может, инстинктивно она делает их хорошими для всех, здесь не бывает гибели, которая есть в книгах.
Но когда я ей читаю, вижу, что она еще не понимает непоправимости — отвалившийся хвост, вспоротое охотником брюхо, проглоченный кошкой мышонок… О чем жалеть, если все игра?
— Голову срубает! — с восторгом повторяет она и шлепает ладошкой себя по шее.
Она хочет быть всеми, и злым обезглавленным тараканищем тоже: страшное — в радость, страшное — всего слаще. Она назначает меня медведем, и убегает, визжа и вереща, а потом сама становится им и гонится с ревом, и послепридумывает новое развлечение: подскакивает, чмокает меня в руку, и отпрыгнув, вскрикивает: «Ой, кто это?»
— Скажи: «Ой, кто это?», — требует, и целует снова.
— Ой, кто это?
Вся эта девочка — со смуглой папиной кожей и мамиными ясными глазами, с розовеющим комариным укусом на плечике — ой, кто это? Откуда она?..
Иногда она внезапно притихает, поджимает губы, о чем-то задумавшись, и на ее глаза падает стальной отсвет какой-то недоступной мне строгой печали.
Как же хочется уберечь ее от всего, даже от вида жуков и мошек, погибших в люстре и так красиво, узорчато темнеющих сквозь яркое стекло, пускай не понимает, чего они там забыли, а если и скажут, пусть не поймет — и дальше, как можно дольше верит, что все воскресимо.
Господи, как остановить кровь?
Безумные бесконечные дни и ночи, когда рушится мир и остается только воспаленное оконце телефона. Ближе к рассвету, изнуренный ежесекундным обновлением ленты, прихожу в спальню, забываюсь и сразу пробуждаюсь от крика:
— Снэйк!
Девочка сидит на кровати, ее глаза возбужденно блестят в сером подмосковном сумраке.
— Что? Что? Что такое? — родительский испуг. — Не бойся, все хорошо…
— Снэйк!
Это слово (первые уроки английского) звучит зловеще и демонически.
— Ложись, тебе приснилось…
— Нет! — она категорична, она не играет, и убежденно показывает куда-то. — Черный снэйк идет к нам!
Страшно: может быть, сошла с ума? Сходят ли с ума так рано? Или она выражает кошмарную тревогу, которая разливается вокруг? Или и правда видит то, чего мы не видим?
— Тише, заинька, — мать прижимает ее к себе и заботливо шепчет: — Откуда здесь снэйк? Сейчас зима, все змеи спят. Это складка одеяла, это каемочка подушки.
— А это?
— Папина зарядка… Закрывай глазки…
Через короткое затишье — новый крик ужаса, ребенок вырывается из материнских объятий:
— У-а-а! Вон, вон она!
Мы просыпаемся поздним воскресным утром.
В расщелине штор — солнечный снежный мир, чешуйчатое тело сосны, и такое чувство, что все плохое позади.
— Как ты, заинька? — спрашивает мать.
— Хорошо.
Заспанное круглое личико, песочные бровки, перепутанные волосы, спадающие на лоб.
— Может еще поспишь?
Девочка заглядывает внутрь себя, шаловливо-капризно, и возвращается с длинной фразой:
— Я не хочу закрывать глазки, потому что мой носик хочет, чтобы его высморкали.
Приношу из туалета бумагу, в которую она с удовольствием выдувает обе ноздри.
— Выдуванчик, — говорю, и она заливисто смеется.
На тумбочке заряжается телефон, его усилием воли не трогаю.
— Сделай горку.
Вечная забава: сгибаю колени под одеялом, она вскарабкивается и скатывается.
— Не упади с кровати, — беспокоится мать.
— Я держусь… Я держусь тремя моими ручками.
— Почему тремя? — спрашиваю, но ей не до ответа, снова лезет на белую горку и съезжает боком, издавая тонко звенящее щебетание.
Откидываю одеяло, спускаю ноги на пол:
— Прости, горка растаяла.
Катюшу это не расстраивает, она переключается на другую игру.
— Искайте меня! — голосок из-под одеяла, откуда выглядывает светлый завиток волос.
Я беру телефон с тумбочки и читаю новости про убитых за ночь детей.
Сергей Шаргунов
_______________
***
А после сказки будет быль: вернутся в гавань корабли, и будут ворохом в пыли лежать доспехи. Уйдут драконы на покой, и будет где-то далеко смеяться свергнутый король зловещим смехом.
Палач повесит свой топор на стенку в тёмный коридор, про боль, саднящую от шпор забудут кони. Поля, где шёл кровавый бой, всех павших спрячут под травой. Меч будет спрятан за трубой в углу балкона.
Она повяжет дочке бант и спрячет древний фолиант в старинный дедушкин сервант. Затянет песню.
И нити музыкальных фраз сплетутся в полотно-рассказ о том, что каждая из нас была принцессой.
***
А всё вокруг становится странней: вот майский снег, а вот жара в апреле. Признаешься в любви к своей стране - тебя клеймят то дьяволом, то зверем.
Но всё намного проще: дом и сад, и голоса друзей, и песня сойки. Так понимаешь: нет пути назад. Так понимаешь: мир из нитей соткан. Твой выбор прост: запутаться в сетях, скрутить в клубочек путеводный нити, молиться или прыгать на костях. Сидеть в тени, на солнце смело выйти.
Вот девушка, колени преклоня, читает чистым голосом молитву, а рядом пляшет свора дьяволят.
Твой выбор: с кем ты рядом в этой битве.
Вот жалобно скулят издалека стареющие жирные собаки. Вот с кровью безоружных на руках хохочет стая, как шакал табаки. Настало время, чтобы говорить. Молчание теперь подобно смерти.
Сжимай в ладони выбранную нить. Ты за нее теперь навек в ответе.
***
Сегодня у меня случилось горе. Я в детский сад взяла большую куклу, в неё играла с мальчиком Егором и он той куклой так об стену стукнул, что сразу отвалились ножки-ручки. Егора я за это била танком. Ужасный и несправедливый случай: меня за это злая воспиталка в углу стоять заставила неделю! Конечно, меньше, но мне так казалось.
Давай твою беду со мной разделим? Как будто меня тоже наказали. Положим в угол мягкие подушки, возьмём печенье, пряники и книжки. Я тихо прошепчу тебе на ушко, что эти хулиганские мальчишки хотят тебе не зла. А их поступки не стоят слез твоих и чайной ложки. Я обещаю: новый день наступит, и к кукле возвратятся ручки-ножки.
Случилось настоящее несчастье. Сегодня на уроке физкультуры моя подружка Иванова Настя при всех девчонках выставила дурой меня за то, что я не знаю танец, который вылез в реки на тиктоке. Я в школу не пойду, я здесь останусь!
Ну что ты, дочка, слезы льешь потоком? Подумаешь, девчонки обозвали. Бывают и похуже в жизни беды. Давай во вторник в физкультурном зале ты так станцуешь, что взорвешь все тренды? Ты выберешь, какие хочешь, треки, и целый вечер мы под них пропляшем. Какие там тиктоковские реки - моря и океаны станут наши!
Сегодня я познала горе, мама. Мне никогда теперь не станет лучше. Как в глупой и слезливой мелодраме: я видела его с другой под ручку. Он так смотрел, он так ей улыбался. Я будто приросла к земле ногами. Он говорил с ней этим нежным басом, он душу растоптал мне сапогами.
Твоя душа летит красивой птицей. Не плачь по тем, кто может только топать. Ты их забудешь голоса и лица, но заберёшь с собой бесценный опыт. Прижмись ко мне, как в беззаботном детстве? Я заберу как можно больше боли. Мы всё с тобой всегда сумеем вместе, как получалось в садике и школе.
Сегодня день дождливый и ненастный. И вот теперь я, к сожалению, точно узнала настоящее несчастье. Ведь мама больше никому не дочка. Сегодня я достану те подушки, я положу их в наш уютный угол. Я маме буду лучшая подружка, как мне она всегда была подругой.
Теперь ты знаешь.
Да, теперь я знаю. Не знаю, что сказать, слова-пустышки.
Со мной ты можешь говорить глазами. Я так тебя люблю, моя малышка.
А ты с бабулей - так же, в уголочке, сидела на подушках в дни печали?
В любой своей беде была я дочкой. И крылья расправлялись за плечами.
А что теперь? Как дальше, мама, будет? Как остаются люди друг без друга?
Хранятся в сердце дорогие люди. Мы тоже звенья этого, дочь, круга.
***
Они твердят: "в ней ничего святого!", а в ней уже бутылка "санстэфано". Ее уже давно не ранить словом. Ей абсолютно всё давно по фану.
Куда угодно, как и с кем угодно. Но только не домой. Нельзя. Не надо. И где она уснет уже сегодня, и с кем она проснется утром рядом - ей неизвестно. Знать она не хочет. Забыться бы, рехаб, релоад, респаун.
А ей ведь хорошенечко за тридцать. Не видела ни Африк, ни Испаний, да даже Суздаль - тоже не видала. К чему ей это всё, какой в том смысл?
Не манят огоньки далёких далей, язык стал ватным, путаются мысли, в ней ничего святого - да и Бог с ней.
Заснула где-то на скамейке в парке, слегка замерзнув, потому что осень. Слегка вспотев (от санстэфано жарко).
А снилось ей, что дома ждут и любят. Что для нее там есть хотя бы угол. Что есть на этом свете где-то люди, кого она могла назвать бы другом.
Ее давным давно не ждали дома. А значит, что и дома нет, ведь правда? Покрылись лужи ночью тонким льдом, и она покрыться льдом бы тоже рада.
А сердце всё никак не замерзает. И всё стучит зачем-то, для чего-то, а для чего - она сама не знает.
Уныло поплетётся на работу толпа людей, брезгливо морща рожи. Она проснется, криво ухмыльнувшись.
В ней ничего святого - ну, похоже.
Но ей саднит растерзанную душу.
***
Вот идет человек, ему где-то под пятьдесят. Он шагает вперед, мертвецов за собой везя. И у всех мертвецов человека того лицо, будто он брат близнец для любого из мертвецов.
Вот мертвец-космонавт. Он погиб где-то в восемь лет. Тоже под пятьдесят (понимаю, звучит, как бред), гладко выбрит, силён, на скафандре его звезда. Это мог бы быть он, но не стал он им никогда.
Вот пузатый мертвец в мягких тапочках и трико. Семьянин, муж, отец - это, вроде бы ведь, легко - и он мог бы им быть, но так вышло, что не сумел. Задушил его быт, и сегодня он мертв и бел.
Вот мертвец-олигарх. Вот мертвец покоритель дам. Вся толпа полегла за прожитые им года. Вот ученый (мертвец). Вот актер (и он тоже труп). Вот успешный делец, вот моряк, а вот лесоруб.
Он везет мертвецов, помирая тихонько сам. Он давно потерял счет и времени, и слезам. А всего-то делов: отпустить свой тяжелый воз.
Не считай мертвецов, и тащить за собой их брось, оживи и иди, и пойми уже, наконец:
Жизнь - всегда впереди. Ты - свой собственный брат близнец.
#мальвинаматрасова https://vk.com/clubmatrasov
_________________________________________
144602
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 08.05.2023, 18:37 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 13.05.2023, 23:10 | Сообщение # 2742 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| БАБУШКА
Костисты, помню, её запястья
И вены – синие провода…
Господь был скуп на земное счастье,
Зато был щедрым на соль труда…
Косарь старушка была отменный,
В деревне мало кто так же мог.
Надев на платье жилет толстенный,
Она обкашивала ложок.
Рядками на бок ложились травы,-
Тянулся ровный медвяный след;
Работа с видимостью забавы
Далась надсадой прожитых лет.
Поодаль я на траве сидела,
В живой, стрекочущей тишине
Коса на взмахе чуть-чуть звенела –
Так почему-то казалось мне.
***
НА РОДИНЕ
Средь холмов, где притихли озёра
В просмолённой сосновой тайге,
Хорошо бы в вечернюю пору
Прогуляться вдвоём налегке,
Любоваться, как в солнце закатном
Раскалилась сосновая медь;
На шершавом стволе красноватом
Так и хочется руки согреть.
Вон, курится туман по озёрам,
Поклоняясь вечерней звезде;
Мы с тобой побежим косогором
Искупаться в туманной воде.
До чего же пугливые ночи:
Только смерклось – и тут же рассвет!
Видно, солнце отсюда не хочет
Уходить на другой континент…
Мы вернёмся на зорьке, вдыхая
Быстротечный, прохладный покой.
Безмятежные радости рая
Здесь повсюду у нас под рукой.
***
НОСТАЛЬГИЯ
Я растерялась, словно ветер
Меня на атомы раздул,
Разнёс на сто дорожных петель,
Оставил от меня лишь гул.
Теперь в морях былья степного
Я - дальний бесприютный вой.
А где мне взять тепла родного,
А где мне снова стать собой?
Когда закончатся порывы
По всей земле, во все края,
На берег опущусь счастливый –
То будет родина моя,
Где мне сложиться воедино,
Где поднимать своих детей;
Там жить – судьба, а не судьбина,
Там ветер – лишь слуга вестей.
* * *
Услышу Господа не в храме
Среди жужжанья голосов.
Я, может быть, поеду к маме
Послушать древний шум лесов.
Там на стволах – опорах небу -
Закатный присмолился луч,
Как мёд, растёкшийся по хлебу,
Горяч и терпок, и пахуч.
Шум сосен – выдох облегченья,
Нашёптывание молитв,
Издревле данных в утешенье
Держащим неба монолит.
***
В ЗАБРОШЕННОЙ ДЕРЕВНЕ
Забытый край, осиротевший дом.
Здесь было всё, что мне вдохнуло душу:
Букеты льна, который рвёшь с трудом,
И лес, в котором сызмальства не трушу,
Валок недавно скошенной травы,
Окутанный прощальным ароматом,
Осенний сад, уставший от листвы
И жёлтый плёс за ближним перекатом.
Здесь ржали кони, грузовик пыхтел,
Был слышен зычный покрик бригадирши, -
Крапива лишь теперь да чистотел
Глядят из срубов, уронивших крыши.
И тихо всё. И сгорбились дома,
Из тына накрест вывалились жерди.
Один лишь сад замшелый вдоль холма
Весь в поросли, не нужный даже смерти.
Скрипят тоскливо ветви ли, душа ль,
Вдоль улиц ветер смерчиком пылится.
Вернуть бы всё. На то себя не жаль.
Вернуть бы всё – и в этом раствориться.
***
9 МАЯ
Какая тишь! И так необорима
В рассветной неге дремлющая жизнь,
Как будто все снаряды были мимо,
Все мины до одной не взорвались,
И генералы живы и солдаты,
Все дети родились у матерей,
А если здесь и слышались раскаты,
То разве гроз, примчавшихся с морей.
Зарёй румянясь, в лепестках лежала,
Дыша малейшей гранулкой земной,
Такая жизнь, как будто не пропало
Из завершённых судеб ни одной.
* * *
Дождь словно тысяча заноз:
Не видно звёзд, не видно слёз,
Неспешны мысли и просты –
Без суеты.
Ни вышины, ни облаков,
Ни редких красочных мазков
В рисунке городского дня,
И нет меня:
Туманной серостью за мной
Тёк по аллеям свет дневной,
Широкой лентою обвил
И растворил.
И я – бесплотная душа-
Скитаюсь в парке не спеша,
Как жуть иль грусть;
Что мне за дело до зонтов,
До мокрых ног и сквозняков –
Не простужусь.
* * *
Война…
Все и каждый теперь на войне.
Нас прочили в жертву, мы сделались ратью,
Ах, если бы знать, что враги, а не братья
Сражаются с нами на той стороне.
Врагов наши деды в могучем рывке
Со здешних полей в сорок третьем погнали,
А мы нынче братьев свинцом поливали,
Друг друга кляня на одном языке.
Мы их победим, но им лучше не знать,
Наивным, несчастным, как вся Украина.
Оплачь их, беспутных, отчизна-чужбина,
Оплачь их, обманутых, бедная мать.
* * *
Я у́тра любила встречать у окна.
Был каждый рассвет не похож на вчерашний,
И тот, роковой, был, конечно, нестрашный,
А после мой мир сокрушила война.
Не дай вам Господь окаянной беды –
Увидеть сынишки обмякшее тело
И дом, обгоревший во время обстрела,
В чёрных воронках поля и сады.
Я у́тра любила встречать у окна
В прошедшей ли жизни, в мечтах ли, во сне ли…
Из нашей семьи я осталась одна
И вижу рассвет в автоматном прицеле.
***
ЧЁРНЫЙ
Никто здесь не свят и никто не свободен,
Но ангелы реют над сотнею родин,
И только над бедной отчизной моей
Завис тот, кто ночи январской темней.
Смертельный наводчик, он лазером глаз
Всяк день выбирает кого-то из нас
И ради жестокой, кровавой услады
Он целится в сильных, он целится в слабых,
Он сеет безумство, он сеет уродство,
Чтоб верили люди в его превосходство
И ради преступных, бредовых идей
Стреляли в своих стариков и детей,
Бомбили собратьев, не зная о том,
Что Чёрный их выцелит тоже потом.
Направьте же, люди, орудия в небо,
Чтоб Чёрный осыпался хлопьями в небыль.
* * *
Мужчина степенно молился
Один в колоннаде вокзала,
Народ проходил, не дивился,
И я ничего не сказала,
Но вряд ли он видел кого-то
Среди окруженья земного,
Влекомый одной лишь заботой
Молиться степенно и строго.
Просил ли мужчина у Бога,
Чтоб лёгкою вышла дорога?
А может, опасность минуя,
Он мысленно пел «Алиллуйя»?
Как знать... Только мнится иное:
Не благ он просил, не покоя
Безмолвным молитвенным слогом, -
Он ждал единения с Богом
И спрашивал ангела кротче:
«Ты ныне со мною ли, Отче?»
И в самозабвенье блаженном,
Забыв о насущном и бренном,
Над смирной своей головою
Он слышал: «С тобою, с тобою...»
***
ИДЁТ ВОЙНА
Она всегда идёт и шла всегда,
И вековечно матери о сыне
Грустить над полем клетчатым листа,
Ведя рукой по строкам вязи синей.
Война не прекращалась ни на час,
И затухая, тут же разгоралась,
Как огненный цветок, что здесь угас,
Чтоб где-то вновь его набухла завязь.
Летит свинец – предвестник немоты
И семя смерти - ныне, как и прежде,
И расцветают алые цветы
У витязей на форменной одежде.
Жизнь прервана, но не завершена:
Уходят в небеса святые рати –
Им предстоит надмирная война
За души их товарищей и братьев.
* * *
Никнут, осыпаются хлеба,
От стального вздрагивая грохота;
Не за этот хлеб идёт борьба, -
За грядущий, без свинца и пороха.
Надвое земля разделена
Кровью, клеветою и бесправием, -
Не за этот мир идёт война, -
За грядущий, вековечный, праведный.
Как чужие рубятся свои
На степном окраинном просторе и
Не за то, что есть, ведут бои,
Но за каждый новый день в истории.
Светлана Сергеевна Голубева
________________________
144684
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 13.05.2023, 23:12 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 18.05.2023, 16:57 | Сообщение # 2743 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| "... в каком-то смысле Шукшин – бунтарь против мироустройства. В мире его герою нет места. В его героях – русский утопический крестьянский замах. Великая надежда, великая сила, но ничто не дает ему реализоваться именно потому, что мир так устроен... Шукшин замахивается... на саму человеческую участь в мире. В мире побеждают приспособленцы или тупые и жестокие люди. Но шукшинские чудики, шукшинские мечтатели обречены именно потому, что само мироздание не дает им ничего сделать. Вот это та страшная тоска, от которой хочется пить и рвать рубаху на груди или кидаться в пляс..."
(Д. Л. Быков).
БРАТКА
Андрею нравилось в армии. И служить ему было нетрудно. Подъем в шесть часов? А в колхозе-то он во сколько поднимался? На сенокос в четыре утра выезжали, чтобы до росы успеть.
Рожденный в сибирской деревне перед самой войной, он впервые до отвала наелся хлеба, когда ему было лет восемь. А тут в обед и суп тебе, и второе, и компот, большой стакан сладковатого отвара со вкусом сухофруктов, а на дне – разбухшие полумесяцы яблок, ниточки и охлопья урюка, и даже изюм.
Воинская часть, в которую Андрей попал, была маленькой. Дорога долго поднималась по крутому холму, верх которого был начисто срыт. На плоском забетонированном темени его и располагалась часть. Андрей прибыл на место службы в начале мае. Первое, что он увидел, глянув с холма вдаль, была бескрайняя гладь Волги, большая, ярко-синяя, вся в блестках. Широкой полосой вдоль нее располагалась окраина районного городка. Буйная пена цветущих деревьев накрывала дома, в просветах виднелись жестяные крыши. Андрей изумлялся их густому бордовому цвету.
Взвод стройбатников, если не было учений, работал на стройке – копали котлованы, таскали кирпичи, бревна, стальные балки. Не тяжелей мешков с пшеницей, какие носил он в колхозе после обмолота зерна в амбар, или мешков с выкопанной картошкой – сколько он их перетаскал на горбу в погреб! В мешок входило около пяти ведер. Твердые картофелины, битком набитые в мешковину, упирались, больно врезались в спину, будто хотели продавить ее насквозь. Андрейка шел, пошатываясь от тяжести, чувствуя, как начинает жечь шею, сводить плечи, тянуть кишки. Снимет мешок, а высыпать в погреб не сразу получается: руки горят и дрожат.
Андрею нравилось в армии. В казарме у него стояла кровать, а дома он спал на печке или на полу. Армейскую кровать требовалось заправлять темно-синим одеялом с тремя полосками и строго по линеечке. Он так подгибал и выравнивал по струночке края одеяла, что о них порезаться было можно. А около кровати – его личная тумбочка. С наслаждением, тщательно наводил он в ней порядок. И сослуживцы — ребята хорошие. Вначале старики, конечно, подшутили над салагой. Присягу придумали.
Сержант Аннушкин усадил Андрея на стул задом наперед и приказал проскакать круг. Повторяй, говорит, за мной клятву:
Я — салага, серый гусь,
Я торжественно клянусь
Дедов крепко уважать,
С почестями провожать.
И во славу их трудиться,
Это скоро пригодится,
В чем торжественно клянусь
Я, салага, серый гусь.
Андрей уселся, как на гнедую лошадь, на высокий коричневый, покрытый олифой стул с гнутыми стройными ножками (его взяли для этого случая из дежурки) и поскакал вперед, потряхивая головой и кося глазами. Торс в наклоне, крупные колени подогнутых ног торчат по обеим сторонам стула. Он скорее был похож на лошадь, которая присела, подняв круп и широко расставив ноги, чем на седока. Заглушая грохот движущегося стула, Андрей громко гундосил:
Я — салага, серый гусь,
Я торжественно клянусь…
При словах «дедов крепко уважать» Андрей вдруг представил себе трех самых старых дедков из своей деревни. Младшему, Мамону Иванычу, местному знахарю и лекарю, который унимал зубную боль и правил грыжу, было восемьдесят восемь лет. Кержаку Кондрату Ивановичу, здоровому, с круглым красным лицом и длинной бородой, уложенной волнистыми косицами, исполнилось девяносто. Андрей помнил себя лет с четырех. И с этого же времени помнил Кондрата Ивановича, летом целый день сидевшего на завалинке с лестовкой.1 Третьему деду, Николе, еще выходившему за ворота в старой казачьей фуражке, было и того больше. На праздник дед Никола не отказывался от рюмочки, а выпив, долго-долго пел казацкие песни, и слезы текли у него по лицу.
Андрей, упираясь в пол носками и держась за спинку стула, шел по кругу. Армейские деды, сгрудившись позади, беззлобно хохотали, и он смеялся. Нет, сержант не причинил ему боли, заставив нелепо и по-дурацки выглядеть перед другими бойцами.Он так же не чувствовал ничего унизительного в придирках или приказах какого-нибудь вальяжно разлегшегося на кровати дембеля: вымыть шваброй взлетку, почистить картошку, подшить подворотничок. Перед самым дембелем деды начинают чудачить. Один, например, Влад по фамилии Хвостенко из Ростова-на-Дону, захотел, чтобы салага вышил ему на подворотничке цифру 61. Черными нитками. Столько ему до приказа об увольнении из армии осталось. Андрей взял нитку потолще и вышил на «подшиве» заветные цифры. На следующий день Андрея отправили дежурить на кухню. Хвостенко менять подшиву поленился, так и остался с вышивкой «61». Командир роты увидел и говорит: «Пойдем тебе навстречу, рядовой Хвостенко. Будет у тебя всегда шестьдесят один день до дембеля». Пошутил, а Хвостенко от этой шутки чуть руки на себя не наложил.
Вообще, все на службе у Андрея было хорошо. Но только скучал он по старшему брату Митрию, которого с детства называл «братка». Сильно скучал. Иногда до такой степени, что хоть перемахивай через забор части и беги. Ему много-то и не надо, хоть бы пять минут посидеть с браткой рядом, лицо увидеть, поговорить маленько. «А что, если не дождется он меня и умрет?» Андрей пугался этих, хоть и про себя сказанных, слов.
Братка уже несколько лет болел легкими. Он сильно похудел и ослаб и в последний год почти не выходил из избы. Сидел на топчане, прислонясь к печи. Андрей замечал, как изменилось лицо Мити – исхудало, заострилось. На бледной, тронутой желтизной коже пятнами вдруг проступала краснота. И все его тело, раньше такое торопливое, стремительное, стало впалым, почти исчезнувшим, словно вычерпала его болезнь до дна. Только глаза блестели тем же острым, ласково-насмешливым огоньком, как раньше. Только глаза и остались. Братка приступообразно кашлял, отчаянно стараясь высвободить залепленные мокротой бронхи и, когда это удавалось, вытирал пот со лба, откидывался на подушку и закрывал глаза. Отдыхал.
Зимним днем, стоя в карауле, Андрей с трудом вдыхал непривычный для него, сырой, смешанный с изморозью воздух, которым невозможно было легко и вольно дышать. То и дело покашливая, думал про братку. Мать в каждом письме пишет одно и то же. «Митя тает… боюсь, что…» И Тонечка, их соседка-школьница, в последнем письме прямо написала, что плох совсем братка. Когда Митя заболел и был вынужден отлеживаться дома, шестилетняя Тося, смышленая и очень потешная девчушка, каждый день прибегала навестить его. Она развлекала братку. Митя звал ее Тосячок. Он научил ее играть на гармошке частушку. Сидя на топчане рядом с браткой, Тосячок держала гармошку на коленях, уверенно нажимала на кнопки пальчиками, играла и что есть сил выпевала частушку, которая ей сильно нравилась:
Я сидела на рябине,
Меня кошки теребили.
Маленьки котяточки
Царапали за пяточки!
Митя рассказывал ей всякие истории-небылицы, от которых крапинки Тоськиных глаз начинали сверкать и словно бы сыпаться, как искры на круглом точиле, а рот надолго оставался открытым. Она верила каждому слову и, забывая, что это Митя рассказал ей небылицу, тут же начинала ему пересказывать эту фантастическую историю как свою. В тот год у Тоси выпали молочные зубы. Рот ее обмяк и провалился, делая круглую щекастую мордочку уморительной – младенческой и старушечьей одновременно. Митя строго спрашивал Тонечку:
– Опять ты, Тосячок, к Зубаревым хлеб таскала?
Тонька отрицала.
– Таскала. Зубы-то где?
– Не таскала, – отпиралась девочка.
– Таскала, таскала.
– Нет! – кричала Тонька, не выносившая лживого навета. Гневные слезы капали из ее глаз, и она убегала от братки домой. Но минут через двадцать возвращалась.
Теперь Тонечка училась в старших классах и писала Андрею в армию нежные девичьи письма.
«Господи Боже, если ты есть, сделай, чтобы я увидел еще хоть раз своего брата. Ничего больше не прошу у тебя и просить не буду!» – молил Андрей, думая, что у Бога, так же, как и у людей, часто просить нехорошо. Он обратился к Богу в виде исключения. Андрей был комсомольцем и значок носил, но, когда тоска и страх раздирает душу, куда тут деваться – не комсомол же просить, чтобы не умер брат. В этом деле комсомол не помощник.
Братка, сколько помнил Андрей, всегда был рядом. Отец ушел на войну осенью сорок первого и через полгода погиб. А мать, измученная работой и ранним вдовством, стала крикливой, слезливой и скорой на расправу – лупила за каждую мелочь. Митя был старше его на двенадцать лет, считал себя взрослым и сильно жалел маленького Андрейку. Он прозвал его Мизинчик. Отпрашиваясь у матери сходить с ребятами на Дальнее озеро в двух километрах от села, братка брал с собой Андрейку и большую часть дороги нес на горбушке. Они шли позади всей мальчишеской компании, и Андрейка виновато спрашивал:
– Братка, тебе, поди, тяжело?
– Тяжело, семь кило. Своя ноша не тянет! – смеялся Митя и бежал догонять ребят. Андрейка подпрыгивал, визжал, благодарно утыкаясь головой в братку.
Начиная с сорок третьего года Митя работал в колхозе. Зимой и за дровами, и за соломой посылал его председатель, и скотный двор чистить, и навоз, впрягшись в сани, вывозить. Даже и на третьем году войны в колхозе еще оставалась небольшая свиноферма, располагавшаяся за деревней неподалеку от большака. Летом председатель Андрей Каспарыч дал Мите старого коня по кличке Гром и телегу к нему, чтобы возить на ферму бочки с водой для пойла. А совсем в другой стороне, за рекой, паслись коровы, сильно изголодавшиеся за зиму. Все лето держали их на пастбище, на ночь загоняя в огороженные жердями денники. Митя возил на телеге утром и вечером через брод за реку доярок, подвозил воду и лизунец.2 Андрейка каждое утро начинал плакать и не отлипал от Мити, пока тот не соглашался взять его с собой на телегу. Андрейка ехал с ним до края села, а потом братка снимал его с брички и говорил заботливо, по-отцовски:
– Ну, Мизинчик, беги теперя. Вечером привезу тебе гостинца.
Вечером после захода солнца четырехлетний Андрейка, босой, в одних трусах, мчался на край деревни, садился посреди дороги в песок, который забивался в цыпки на ногах. Комары укрывали плотным черным слоем его голяшки, но он сидел и ждал, когда же появится Гром, тяжело ступающий, умученный, нетерпеливо погоняемый Митей. Завидев братку, Андрейка вскакивал и несся к нему. Тот степенно останавливался и, наклонившись, подхватывал с дороги мальчонку. Андрейка усаживался к брату на колени.
– Пошел! – приказывал Митя коняге, слабенько хлестнув его вожжой, доставал из кармана кусочек хлеба.
– На вот тебе лисичкиного хлеба.
Андрейка брал пропахший бором и полем хлеб, нисколько не сомневаясь, что он от лисички, и моментально проглатывал его.
– Будешь править? – спрашивал Митя.
Андрейка брал вожжи, правил, время от времени грозно покрикивая на Грома:
– Но! Но, Глом!
Мать всегда давала утром братке «собоечку»: узелок, в который клала вареную картофелину и бутылку молока. А хлеб только изредка.
«А он и этот редкий кусок оставлял мне», – думал Андрей, стоя на посту.
Тосковал Андрей, сильно тосковал по братке.
На втором году службы ему, как дисциплинированному бойцу, положен был отпуск. Он и рапорт уже написал. Но когда прямо с поста, где он дежурил, ему было приказано явиться к дежурному по части, Андрей сильно встревожился.
Войдя в дежурку, он увидел старшего лейтенанта Чекмарева. Как только Андрей, вытянувшись и отдав честь, доложил о своем прибытии, Чекмарев торопливо, не по-уставному сказал:
– Устьянцев, ты идешь в отпуск!
И, сочувственно посмотрев на Андрея, мягко добавил:
– Телеграмма тебе.
Чекмарев держал в руке зеленоватый, сложенный вдвое бланк. Андрей взял телеграмму и не прочел, а вдохнул с бланка жесткие, схватывающие горло слова: «Умер братка. Выезжай».
– Зайди в штаб. Твой отпускной билет готов. Деньги получишь. Время не тяни.
Чекмарев говорил медленно и четко, что подходило к его обстоятельной фигуре и лицу, на котором все было крупным, но аккуратным и внушительным.
– До Петрова Вала на автобусе доедешь. Билет на поезд получишь. Неважно, есть у них места или нет, а тебе дадут. По телеграмме. До Новосибирска на поезде ехать трое суток.
– Слушаюсь, товарищ старший лейтенант, – наконец выговорил Андрей.
– Да еще пока до своей деревни доберешься. Сколько там езды?
– День, считай, уйдет, товарищ старший лейтенант!
– Тьма тараканная!
Чекмарев вздохнул.
– Попрощаться не успеешь. Закопают уже.
– Попрощаюсь, – сказал Андрей. – Откопаем. Я на братку обязательно посмотреть должен.
Старший лейтенант был родом из Москвы и не слыхивал о таком, чтобы покойников откапывали и на них глядели. Но в сибирских деревнях зимой, в метели и морозы, бывало, захороненных откапывали, открывали гроб, чтобы трудно добиравшийся и опоздавший на похороны мог поглядеть в последний раз на своего усопшего родственника.
***
В поезде Андрей лежал на верхней полке, думал о братке. То верил, то не верил в случившееся. Фигуры пассажиров, по трое и четверо сидевшие на нижних плацкартных полках, виделись ему словно издалека: черно-белыми нечеткими контурами.
Только старичка, подсевшего к нему в Саратове на нижнюю полку, сразу воспринял как настоящего. Старичок тут же доложил, что едет он от дочери, выходит под Омском, и выпытал, куда и зачем едет солдатик. Старичка тоже звали Андреем. В обед дед Андрей достал завернутые в газетку крутые яйца, белый хлеб и порезанное на тонкие пластики соленое сальце.
– Посолонкуй со мной, сынок, – позвал он Андрея, тронув его за плечо. – Давай, спускайся с небес своих.
– Не хочу, дед, – отказался Андрей.
– А ты через не хочу.
Глаза старичка глядели на Андрея бодро и спокойно. От лица, наморщенного лба, серебристой бородки и от легкой, сухой фигуры веяло покоем.
– Раньше времени маешься, сынок. Умер, говоришь? А кто тебе сказал? Почем тебе знать, кто жив, кто мертв?
Андрей непонимающими глазами глядел на стоявшего у полки деда Андрея.
– Тебе сейчас главное добраться туда, солдат.
Голос старичка, ласково-насмешливый, спокойный, был похож на Митин, и Андрей потянулся на него. Он поднялся со своего лежбища, слез вниз и присел напротив старичка.
– Силы береги, чтобы доехать, – сказал старичок, укладывая на широкий хлеб две пластинки сала, а сверху серпик разрезанного яичка.
– Съешь, Андрейка.
Андрей послушно взял хлеб и все, что прилагалось к нему, и быстро съел.
– А если метель? Еще и пешком идти придется, – бормотал старичок, налаживая второй бутерброд с салом и яйцом. – Съешь еще.
Андрей, удивляясь сам себе, съел и второй кусок. Ему казалось, что вместе с хлебом он принял от старика крупицы снадобья, родившего в душе надежду: вдруг телеграмма – это шутка или в ней что-то напутано? Вдруг братка просто крепко спал, а мать решила, что он умер?
– Спасибо, дедко, хороший ты человек, – поблагодарил Андрей старичка, когда съел угощение и выпил чай.
– Все мы хорошие! – Глаза старичка на миг затуманились. – Бородка Минина, а совесть глиняна. Ну, теперь отдыхай, солдат.
Андрей забрался на верхнюю полку и заснул долгим бесчувственным сном. Он проспал сутки, и, когда проснулся, нижнее место, где сидел старичок, было пустым. Дед Андрей вышел на своей станции под Омском.
На четвертые сутки морозным полднем шел Андрей от большака к деревне, куда подвез его попутный бензовоз. От стремительной ходьбы ему стало жарко до пота, и он расстегнул шинель. Проселочная дорога ершилась снегом, но внизу был натоптанный наст. Войдя в деревню, он пошел через улицу, начинавшуюся от дороги, пройдя ее, повернул вправо и увидел свою. Она была крайней, за огородами начиналось большое займище и большой кочкарник.
Их изба стояла напротив длинного ряда домов, одна, сама по себе на пригорке. Узкая тропка посреди снежных наметов вела к ней. Андрей жадно ступил на дорожку, нещадно давя пищащий под сапогами снег, и быстро прошел к калитке. Не убранный на дворе снег лежал толстым плотным слоем. В школьном детстве, в зимние каникулы Андрей вырубал лопаткой или мастерком большие ровные кирпичики и строил снежную крепость, а Митя делал украшательства: устанавливал поверх зубчатые башенки. На ночь они с браткой обливали их водой, и утром башни становились ледяными, почти прозрачными.
Андрей искал взглядом на снегу двора остатки сосновых веток или хотя бы рассыпанные по снегу темно-зеленые иглы – по обычаю их бросали в знак прощания, когда выносили из дома гроб. Но снег был чист. Он вбежал на веранду, устроенную перед сенями. Мгновенно подумал, что крышка от гроба должна стоять здесь, но ее не было. Значит, похоронили.
Перешагнул в сени, открыл дверь в прихожую.
– Андрейка! – Мать, склонившаяся над большой кастрюлей, в которой она обычно заваривала корм поросенку, выпрямилась, подхватилась и пошла навстречу. Упала в распахнутую на груди шинель, прижалась, заплакала. Маленькая, в ветхой шерстяной кофте с прозрачными пуговичками, которые маленький Андрейка любил трогать и разглядывать, а мать шлепала ему по рукам:
– Оторвешь!
И не сосчитать, сколько лет она носит эту кофту, всю в починках. Мать подняла лицо, запавшее, морщинистое, с большими коричневыми пятнами на щеках. Лицо старушки. Или он не замечал раньше, или так состарилась она за последние годы?
– Мам. Я его откопаю. Я его увидеть хочу, – решительно сказал Андрей.
Мать отпрянула от него.
– Кого откопаешь?
– Братку.
– Что ты, сынок!
Это слово – «сынок» – чуть не разорвало сердце Андрея. За все детство он помнил только один случай, когда мать назвала его вот так: «Сынок». Тогда он тяжело болел воспалением легких, на ладан дышал. Мать, жалкая и виноватая, давала ему топленое барсучье сало с ложки, а он не хотел и не мог его проглотить.
– Прошу тебя, сынок!
А он отвернулся к стенке и не стал пить. Он слышал, что мать заплакала, но ему не было ее жалко.
И вот теперь точно так же – нежно и виновато – прозвучало это: «Сынок!»
Андрей смятенно глядел на мать.
– Мама, я телеграмму получил…
– Жив братка твой, – тихонько сказала мать. – Но плохой. Совсем плохой, – повторила она. – На той неделе ему стало лучше, он даже вон стул мне подправил, подколотил, а то разваливался весь.
Мать с одобрением указала на самодельный стул, вернее, большой некрашеный табурет с отполированным сиденьем.
– А потом, – она кивнула на вешалку у двери прихожей, – надел полушубок, шапку да и пошел на улку. «Прогуляюсь», – сказал. Я вышла следом, встала с той стороны, где у нас баня, сердце трепещет, гляжу, а он идет вверх по дороге, берегом, как раньше, да легко так, будто и не болел никогда.
Мать заплакала.
Андрей не понимал, что происходит. Не то он все еще спит в поезде на своей полке и видит сон: дом, чистый снег, тропа, мать и это чуть не разорвавшее ему сердце «сынок». И Митя жив. Или он все же приехал домой, но мать его сошла с ума от горя?
Топчан у печи был пуст. Так и не сняв шинель, Андрей перешагнул через маленькое пространство прихожей, открыл дверь в горницу и вошел.
– Мы Митю сюда перевели, – с виноватой суетливостью следуя за ним, говорила мать. – Здесь я голландку два раза топлю, Митя у меня всегда в тепле. И спокойнее в горнице.
Братка полулежал на железной панцирной кровати-полуторке, раньше на ней спала мать. Под спину были подложены две большие подушки. Он часто, прерывисто дышал, сейчас, когда Андрей подошел к нему, дыхание прервал кашель.
– Мизинчик! Приехал… – проговорил Митя, как только смог.
– Братка!
В горячечной радости Андрей напрочь забыл обо всем – о телеграмме, и о мучительной дороге, и о матери, стоящей на пороге горницы. Он обнял братку, прилег с края койки, прижался лицом к одеялу, которое лежало плоско и ровно, словно под ним никого не было, смотрел на любимое лицо, заострившееся, но все-таки узнаваемое, родное.
– Дождался я тебя…
– Митя, ты сто лет жить будешь!
– А то ли нет. И сто лет, и двести, и во веки веков.
Синие глаза братки из глубины глазниц смотрели остро, живо и одновременно спокойно.
– Рассказывай, Мизинчик.
Андрей, то и дело пожимая прохладную влажную ладонь брата, стал рассказывать, как он ехал, какой чудной попался ему попутчик, дед Андрей, угощавший хлебом и сальцем, и как он сказал: «Откуда мы знаем, кто жив, а кто мертв».
Митя приподнял голову и с удовольствием повторил слова старичка:
– «Умер? Кто тебе сказал?» А ведь и правда. Мы ведь не знаем, как оно есть на самом деле. Почем нам знать?
Андрей не совсем понимал, в чем правда этих слов и почему они так понравились Мите, но главное, что они понравились брату. Что братка доволен.
Митя снова сильно закашлялся.
Он вытащил из-под подушки чистую, прокипяченную тряпочку и, прикрыв ею рот, долго сидел в вынужденной позе, сжав плечи и наклонившись вперед. Наконец, кашель стих, и братка словно задремал, только дыхание оставалось тяжелым, шумным. Оно было похоже на осенний ветер, натужный, надсадно свистящий, а то хрипящий, всхлипывающий. Было около трех часов дня. Лучи зимнего солнца по косой проникали в правое окно горницы через мелкий узор оконных задергушек, тонкой солнечной паутинкой ложились на братнино лицо. Утомленный дорогой, убитый горем, потрясенный нечаянной радостью, Андрей сделался весь каким-то соловым и обмякшим. Он сел теперь поперек койки, спиной к стене. Приоткрыв рот, жадно и неподвижно, словно про запас, глядел на братку.
– И как это получилось, а, Митя? – сказал он. – С телеграммой-то?
Братка приподнялся, шутливо хлопнул его по плечу:
– Хитрый Митрий помер и глядит.
Андрей рассмеялся.
– На все у тебя есть пословица, братка.
Ему вдруг показалось, что они сидят за столом. Раннее утро, на столе стоит чугунок с картошкой в мундире и большая деревянная солонка. Митя, быстро снимая шкурку с картофелины, режет ее на дольки, смазывает подсолнечным маслом и солит крупной солью. Тепло и уютно.
Андрейка отодвигает от себя картофельные дольки. Он не хочет картошку, а просит хлеба.
– На-ка вот тебе, – протягивает ему что-то братка.
Андрей с удивлением видит хлебную горбушку – запыленную и пахнущую полем и сосновым бором и, прошептав «лисичкин хлеб!», с жадностью ест.
– Пошел я, Андрейка, – говорит братка.
В руке у него хозяйственная сумка, какую всегда брал он с собой на бригаду. Братка накидывает полушубок.
– Хоть бутылочку молока с собой возьми, – слышит Андрей голос матери из прихожей.
Братка куда-то уходит!
Босой, в длинной домашней рубашке, Андрейка бежит за ним к дверям и кричит что есть силы:
– Братка, я с тобой!
Вздрогнув и проснувшись от собственного крика, Андрей открыл глаза. В горнице было темно и тихо.
Шумное, надсадное, как осенний ветер, дыхание брата остановилось.
Андрей вынул одну подушку из-под спины братки, удобно положил его и остаток ночи просидел с ним.
***
Назавтра у него было много хлопот, которые отвлекали, заставляли не думать о том, что братка умер. Утром он ушел из дома, предоставив омыть и одеть покойника матери и двум соседкам-старухам. Вместе с плотником Николаем, другом Мити, обтесывал он доски, сколачивал гроб. Забывался и спрашивал себя: «Для кого мы его колотим?» Потом спохватывался. Принес готовую домовину и опять ушел.
Взяв большую лопату, отправился на могилки – так в деревне называли кладбище. Дорогу недавно прочистил трактор, но на самом кладбище снег лежал вольно и глубоко. Пробираясь через него, проваливаясь и выбираясь в поисках твердого наста, вытаптывая тропу и подчищая лопаткой, дошел он до их, Устьянцевых, места. Растресканное дерево старых крестов, занесенных почти до верха – здесь лежат прадед и прабабка. Металлический сваренный из труб крест с наплывами швов в местах соединения крестовин – это могила бабушки Оли. Деревянный памятник, похожий на домик, братка сам делал, с резной рамкой посредине, годы жизни: 1872–1940 – это деда Петра. Хорошо, что дед перед войной умер и не узнал, что сын его, Александр Устьянцев, через два года погиб на войне. Меж бабушкой и дедом – маленькая, почти плоская могилка, – там покоится старшая сестричка Андрея Нюточка, которая умерла раньше, чем он родился.
Полдень был тихий, с сухим морозом, но здесь, в открытой степи, все же сквозил через узкие переулочки и меж могилами торопливый ветер, и Андрею вдруг послышался тоненький голос Пелагеи, деревенской плакальщицы, которую слышал он в детстве, как причитала она, когда умерла бабушка Оля. И сейчас, услышав ее тоненький голос, Андрей вспомнил себя пятилетним мальчиком, сидящим у братки на руках, и ощутил, как ему стало спокойно и тепло. Он вычистил от сугробов участок, где будут завтра копать яму, и вернулся, чтобы посидеть у гроба брата.
Вернувшись, Андрей сел у гроба, спокойный, с умягченным сердцем и тихонько заговорил с браткой:
– Сходил на кладбище, снег на участке почистил, земля сильно промерзла, железная прямо. Но ничего. Ночью костер запалю, подтает. Мужиков уже набрал, кто копать будет. Лёня Леготин, Вовка Керн, дядя Петя Плотников и соседушка наш, Ефим Петрович, у него пила хорошая, пригодится.
***
После похорон Андрей двое суток до отъезда выяснял, кто же послал ему в армию телеграмму. Сначала он думал, что это Тоня. На похоронах она плакала сильнее и громче всех. Деревенские удивлялись и, перешептываясь, говорили: «Ты смотри, как Тонька убивается. Ровно по родному!»
Тоня старательно помогала его матери приготовить кутью и молочную лапшу на поминки, милое лицо ее выглядело грустным и растерянным. Андрей подошел к ней, обнял за плечики и сказал: «Спасибо тебе, Тонечка, за телеграмму. Вовремя вызвала». Но Тонька, всхлипывая, продрогшим голоском проговорила: «Я не посылала, Андрюша». Не посылал телеграммы и Митин друг Николай. «Какая теперь разница, кто послал – сказал он, – брось ты это дознание, Андрейка!»
Андрей шел вдоль замерзшей Кулунды, укрытой у берегов пухлыми белыми наметами, посредине – снежными гребнями, и россыпью льда у рыбацких лунок. Вся его жизнь была связана с этой рекой. Он будто родился в ней. Андрей не помнил, чтобы когда-нибудь не умел плавать. Митя говорил, что он уже в три года плавал. У них была на берегу своя мостушка в три широких доски. Еще отец сколотил ее. С мостушки набирали воду, мать полоскала белье, драила песком и промывала посуду.
Маленьким Андрейка купался у мостушки, подныривал под доски, выплывая с другого бока. Река казалась ему живой и понимающей, как человек. Она любила Андрейку, теплая мягкая вода обмывала ему шею и спину, щекотала струйками, стекая с волос по лбу и щекам, играла с ним. А когда он, пятилетний, вечно голодный, ловил пескарей банкой, накрытой воронкой из толя, она посылала, подсовывала ему целые косяки рыб и радовалась вместе с ним, искрясь на свету июльского солнца. Так думал он, маленький.
Андрей шагнул с дороги к самому краю высокого речного берега. Он смотрел вниз, будто надеясь, что вдруг сбросит река с себя ледяную крышку и оживет, выйдет из домовины, потечет, позовет к себе в свою теплую мягкую воду. «Ну и упряталась ты. Не видать, не слыхать. Знала бы, как я по тебе соскучился», – про себя произнес он и словно ощутил, как теплые мягкие струи прикоснулись к его голой шее, потекли по спине, обняли его всего.
– И почему братка не может вот так, как река? Выйти из ледяной домовины? Или… может? Как это старичок сказал: «Умер, говоришь? А кто тебе сказал? Почем тебе знать, кто жив, кто мертв?» И Митя на это сказал: «А ведь и правда». А ведь и правда! Братка, такой веселый, насмешливый, ласковый, мастеровой, такой нужный, не мог исчезнуть навсегда. Не мог, и всё.Андрей шел и ощущал рядом с собой его родное и нетленное тепло.
***
Он пошел прибрежной улицей, которая поднималась вверх, потом пересек ее и вышел к почте, большому бревенчатому дому, принадлежавшему когда-то сибирскому купцу. Высокое крыльцо выводило на крытую галерею, огороженную фигурными столбцами. Андрей поднялся на нее и вошел в почтовое отделение.
За высокой загородкой сидела единственная почтовая работница – тетя Маша. Она работала здесь с того дня, как почта открылась, а произошло это в сорок седьмом году. Тетя Маша сидела за столом и считала на больших бухгалтерских счетах. Тут же на столе с одного бока стояла банка с сургучом, лежали моток шпагата и большие ножницы. На широком поставце с обратной стороны загородки стояла чернильница и две деревянные ярко-желтого цвета ручки, которые опирались перышками на круглые края чернильницы.
Тете Маше было уже лет сорок, но выглядела она как совсем молодая женщина. Она не повязывала, как другие деревенские, голову платком. Темные, без седины, волосы всегда были по-городскому уложены сзади аккуратным валиком, впереди у лба и висков волосы кучерявились, обрамляя лицо тети Маши, белое, нежное. Мать рассказывала им с Митей, что тетя Маша была приемной дочкой зажиточной семьи и, когда семью раскулачивали, главный коммунист Павел Костров решил, что раз Маша не родная дочь этих кулаков, то можно не отправлять ее вместе с ними в ссылку. Он поселил ее у своих родственников, а потом, когда Маша подросла, женился на ней.
Андрей знал, что братка выделял тетю Машу из всех деревенских женщин, очень уважал ее за особую красоту и умный нрав и всегда говорил Андрею: «Вот какой должна быть женщина!» Тетя Маша носила на шее не стареющий ярко-зеленый, всегда отглаженный платочек, кончики которого свисали ей на грудь острыми свежими листочками.
– Андрейка!
Пальцы тети Маши ласково замерли на косточках счетов.
– А у меня бухучет: бух да бух по голове.
Андрей поздоровался, облокотился на поставец и не церемонясь спросил:
– Теть Маш, это ты мне телеграмму отправила? Что братка умер?
– Наш Демид прямо глядит, – ответила тетя Маша пословицей, которую и Митя часто говорил. – Сильно сердишься?
– Нет, я благодарен тебе, спасибо, теть Маш! Иначе не увидел бы братку живого.
– Не посылала я.
– Так некому больше.
– Ей-богу. Вот хоть честное ленинское, как ты комсомолец, – спохватилась тетя Маша и прижала руку к сердцу.
– Еще можно сказать: «Мамой клянусь», – посоветовал Андрей. – У нас сержант Хвостенко всегда так говорил, когда врал.
Тетя Маша глянула на него, села на свое место и пододвинула к себе счеты.
– Андрейка. Такие телеграммы в больнице круглой печатью заверяют…
– Эта незаверенная была, – сказал Андрей и хлопнул ладонью по поставцу. – Никто из родни телеграммы не отправлял, Тонька не отправляла, и ты отказываешься. Теть Маш, ты тут одна работаешь. Кто ж послал?
– Никто отсюда не посылал, – медленно, с нажимом на каждое слово произнесла тетя Маша. Будто поставила большую и жирную точку в разговоре.
– С неба, что ли, она мне в армию упала?
– А так и думай, что с неба, – обрадовалась тетя Маша. – Небесный телеграф послал.
– А такой бывает?
– Сам видишь.
– До свиданья, теть Маш, – сказал Андрей.
– Вернешься в деревню после армии?
– Вернусь.
– А братка тебя ждать будет, – тетя Маша пыталась не дать ходу неудержимым слезам, но они все же излились. Она промокала щеки концами платка, и зеленый цвет их становился ярким, влажным, как трава после дождя. – Царствие Небесное Мите.
***
Сидя в поезде, видел Андрей заснеженную землю, схваченную звериной хваткой мороза, и ему казалось, что вся она прячет, держит и хранит его братку. Он вспоминал, как всю ночь жег костер, нагревал мерзлоту, как утром, сняв верхние оттаявшие слои земли, отбойным молотком отбивал мерзлые куски, пробивал и ломал ее железным ломом, вырубал на глубине куски топором, рвал и резал лопатой, чтобы выкопать получше яму. Чтобы мягче и теплее лежалось Мите. Подошли односельчане с лопатами, он договорился с ними еще накануне: друзья детства Мити Леня Леготин и Вовка Керн, дядя Петя Плотников и сосед Ефим Петрович со своей знаменитой пилой, что и железо резала, как бумагу. Молча взялись за дело.
И вот вынесли они гроб с Митей за ворота, поставили на табуретки. Обступили его сельчане, а мать, захлебываясь, истерично кричала: «В одном костюме! Ему же холодно! Митенька, тебе же холодно!» И пыталась снять с себя Митин полушубок, в котором ездил он, бывало, в морозы на заготовки дров. И старые сестры матери, приехавшие из дальних сел, с обеих сторон держали ее за руки. Андрей кивком здоровался с деревенскими, некоторые подходили, молча обнимались с ним. Соскучились.
И вот уже подняли гроб и понесли братку по улице, за дальний поворот, где начиналась дорога на кладбище.
…Весь обратный путь в поезде Андрей почти не спал и не ел, но был бодрым. Когда проводница в четыре утра прибежала будить его, он одетый, с вещмешком за спиной уже стоял в тамбуре.
В военной части все казалось Андрею новым. Словно годы прошли с того утра, как вышел он через КПП и побежал с холма вниз, в город, к автобусной остановке, чтобы доехать до станции. Силикатный кирпич одноэтажной казармы был на четверть стены укрыт новым красным плакатом, перед казармой два голых осокоря, так назывались здесь тополя, блестели ледяными гроздьями, свисающими с ветвей. Расчищенный плац, разделенный белыми линиями на строевые площадки, был красив и торжественен. Всё за оградой части казалось строгим, важным, серьезным, и это восхищало Андрея. Четкие дорожки расходились от пропускного пункта в разные стороны: к казарме, дежурке, столовой. Он шел к дежурному по части, доложить о прибытии. Дверь в нее была открыта, и Андрей, еще не заходя, увидел стоящего посреди дежурки старшего лейтенанта Чекмарева. Он, как видно, опять был дежурным. Андрей строевым шагом подошел к Чекмареву. Вытянулся:
– Товарищ старший лейтенант! Разрешите обратиться!
– Вольно. Прибыл, значит.
– Так точно, товарищ старший… Чекмарев!
Фамилию Андрей сказал нечаянно и смутился.
– Зарапортовался маленько, – усмехнулся дежурный. И, понизив голос, спросил:
– Ну что, откапывали?
– Нет. Успел.
– Успел? Как же?
Андрей машинально тронул карман шинели, где лежал сложенный вчетверо бланк телеграммы:
– Чудо, старший лейтенант. Небесный телеграф.
Чекмарев сочувственно взглянул на отпускника, который явно находился еще в состоянии аффекта.
– Чудо, если в столовой еда осталась и ты перед марш-броском позавтракать успеешь, – сказал он. – В столовую бегом марш!
Андрей, отдав честь и повернувшись, вышел из дежурки, широко пошагал, а потом побежал, стуча сапогами по кирпичу расчищенной дорожки, снова ощущая рядом с собой Митю, его родное и нетленное тепло.
Шел девятый день со дня кончины братки.
___________________________________
1 Лестовка – разновидность четок, часто используемая у старообрядцев.
2 Лизунец – каменная соль, идеальный источник минеральных веществ и хорошая добавка к ежедневному рациону животных.
Нина Густавовна Орлова-Маркграф
_____________________________
144859
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 18.05.2023, 16:59 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 19.05.2023, 22:44 | Сообщение # 2744 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| РОДОВА
В моём роду – насельники степные,
Разбавленные жителями гор.
Они Руси служили и России
С её былинных древнерусских пор.
Не с Киева. – Со стана на Синае
На Дон и Днепр «Трояновой тропой»
Прапращуры стекаться начинали,
Чтоб стать могучей силою степной.
Они дошли до Балтики и Рима,
И основали Русский каганат.
По всей Европе наши топонимы
О славе древних руссов говорят.
А то, что предков нарекли «латыня»,
То вовсе не обидно было им.
Подумаешь, связали с Римом имя, -
Этруски основали древний Рим!
***
Я рождён в казачьем лазарете*
На скрещенье судеб и дорог.
Прокричал пискляво на рассвете
Первый возмущённый монолог.
Шёл с рукой, на голове лежащей, -
Думал о тревогах бытия…
Видимо, казалась подходящей
Мне обитель прежняя моя?
Был извергнут из неё с мученьем
На холодный и слепящий свет,
Чтоб познать своё предназначенье
На земном отрезке бренных лет.
Каждый день мои дороги множит.
Много судеб сквозь меня прошло.
Но не встретил ничего дороже,
Чем внутриутробное тепло.
___
*Роддом в станице Константиновской
размещался в бывшем казачьем лазарете.
***
СКИФСКАЯ РЕКА
Дон – по-скифски – вода.
Я взращён этой скифской рекой.
Возвращаюсь сюда
Каждый год на свой берег родной.
Уж не тот сельский быт.
Всё и всех изменяют года.
Я почти здесь забыт.
Только тянет и тянет сюда,
Чтоб увидеть свой дом,
Чтоб родных и друзей навестить,
Чтоб о чём-то своём
У могилы отца погрустить…
Вольный ветер в степи
Гладит волосы отчей рукой.
Здесь мой род древний спит,
Став землёю и славой донской!
***
НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
Слёг солдат Победы, обездвижил,
А врачей на помощь не зовёт.
Он фашистов одолел и выжил,
И теперь окоп свой не сдаёт.
Не боялся жечь «коктейлем»* танки,
В штыковую роту поднимать.
Но пришли в овечьих шкурах янки,
Чтоб Победу у него отнять.
Разрубили Родину на части,
Растоптали всё, чем дорожил.
Нет уже давно Советской власти
И страны, которой он служил.
Фронтовые, кровные награды
Сделались валютой для хапуг.
Правят бал дельцы и казнокрады,
Словом не возьмёшь их на испуг.
Никому седой солдат не верит,
Слишком много предано уже,
Никому не открывает двери
На своём последнем рубеже.
_______
* Бутылки с зажигательной смесью,
которую называли «коктейлем Молотова».
***
ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА
Забытых писем жёлтые страницы
Обдали духом юности опять.
Прилежный почерк лучшей ученицы
Волнительно душе припоминать.
Любовью продиктованные строки
В застенчивый наряд облечены.
Но даже затаённые намёки
Потряхивают токами весны.
«Всё может быть… но хочется дождаться…
На танцы не хожу… посёлок пуст…»
Когда тебе шестнадцать иль семнадцать,
Не утаить расцвета пылких чувств.
Они рождают сладостные грёзы,
А письма милых без вина пьянят.
Листы скупой эпистолярной прозы
Высокую поэзию хранят.
***
НЕПОСЛУШНЫЙ
«Непослушный был…»
Последние слова мамы
Что ей мстилось* перед расставаньем?
Явно, что не райские врата,
Если только это замечанье
Изрекли бескровные уста?
Я давно не прежний непоседа, -
Ветеран, полковник отставной.
Почему же так вот напоследок
Попрощалась матушка со мной?
Было детство далеко не гладким,
Хоть и рос в семье учителей.
Я казался ей «утёнком гадким»
В общей массе хуторских детей.
В материнской памяти заноза
Оставалась до последних дней.
«Непослушный был…»
И нынче поздно
Говорить про исправленье ей.
_______
*Грезилось, виделось (ст.рус.)
***
ГРАНИЛЬЩИК СЛОВ
Гранить слова, друг к другу подгонять,
Уподобляя дивным самоцветам…
Такое счастье в жизни испытать
Не всем дано, а только лишь поэтам.
Весь мир иным богатством увлечён –
Он думает о прибыли, о вкладе.
Поэт в корыстном обществе смешон,
Но с промыслом Господним не в разладе.
***
ВОПРОСЫ
Кого ты кормишь, русская земля,
Кого своими соками питаешь?
Где твой оплот – крестьянская семья?
Кого ты ей на смену воспитаешь?
Каких кровей радетели в Кремле,
Кому отдали все твои богатства?
Что остаётся русским на земле,
Чтоб ей, как встарь, Россией называться?
***
РОССИЯ, ХХI ВЕК
Уходит в прошлое деревня.
Крестьян сменяют трактора.
И над землёю нашей древней
Нависла тяжкая пора.
Тысячелетние устои
Разрушил технократный век.
И стал земли дешевле стоить,
На ней живущий человек.
Он в городах спасенья ищет
От выпавших деревне бед.
А в стылых избах ветры свищут,
Да в пыльных окнах меркнет свет.
Куда ты катишься, Россия?
В чём видишь будущий престиж?
Крестьян под корень подкосила,
Кого на смену им растишь?
Кругом – бомжи и проститутки,
Мздоимцы, коим несть числа.
Зачем над одичаньем жутким
Возводишь в небо купола?
Зачем кресты свои вздымаешь
За подаяния господ
И к покаянью призываешь,
Раздавленный нуждой народ?
Неужто новый вид обмана
Сусальным золотом блестит
И загнивающие раны
Никто уже не исцелит?
Душа не может верить в это
И разум верить не даёт.
Уже оплакана, отпета,
Страна страдает, но живёт!
***
МЕЛЬНИЧНЫЕ ЛОШАДИ
Царят Рокфеллеры и Ротшильды.
Всемирный делят капитал.
А мы, как мельничные лошади,
Кругами ходим по пятам.
Вращаем жернова на мельнице.
Не для себя ведём помол.
И ждём, что как-то перемелется
В душе запёкшаяся боль.
Вожди все стали коноводами,
Купили их «бухгалтера».
Со всеми сущими народами
Идёт жестокая игра.
А если кто взбрыкнёт на мельнице,
Кровавые начнутся дни.
И этот мир не переменится,
Пока мы будем лошадьми.
***
На выбор русскому солдату
Капитализм смог мало дать,
Лишь только:
Охранять богатых
Или богатство отнимать.
***
Когда несправедлива власть,
Наивно призывать к порядку…
Чиновники вкушают всласть,
А нам советуют – вприглядку.
***
Время – глухих заборов.
Время – глухих людей.
Время – чиновных воров.
Время – гнилых идей.
Время – фальшивой веры.
Время – никчемных фраз.
Эрлики* новой эры
Заполонили нас.
_______
*Мифические оборотни, ворующие души.
***
ВСЕНАРОДНАЯ УДАВКА
Нас прессом давит, не вздохнуть,
Диктат банкиров и прилавка.
Власть денег – тупиковый путь
И всенародная удавка!
***
ТАК КТО ЖЕ МЫ?
Кровавые сюжеты давят душу.
Свихнулись сценаристы на крови.
Так просто мир, доставшийся нам, рушить
И не под силу – строить на любви.
Так кто же мы: разумные созданья,
Чтоб связь со всей Вселенной осознать,
Иль штрафники, заложники изгнанья,
И не отмыть нам Каина печать?!
***
НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Война везде нас караулит:
В домах, на улицах, в метро –
Шахидским поясом и пулей,
Фугасом, сделанным хитро.
Война крадётся днём и ночью,
То с той, то с этой стороны.
Когда «в сортирах банды мочат»,
Осколки к нам летят с войны.
Война не признаёт законов.
Закон шахидов: «Смерть за смерть!»
Растут страданий терриконы
И множится число потерь.
Война врывается в квартиры,
С экранов сходит без конца.
Мы – жертвы передела мира,
Звериной поступи «тельца».
***
КОРЕНЬ ЗЛА
Вокзал… Троллейбус… Где ещё рванёт
В российской разобщённой коммуналке?
Властям кровавый предъявляют счёт
Гайдаровские выкормыши свалки.
Но не ответят Ельцин и Гайдар,
В гробах от взрывов не перевернутся.
Простой народ поставлен под удар
Адептов криминальных революций.
Запалом служит Северный Кавказ –
Удобный инкубатор ваххабитов.
Там вновь готовят смертников сейчас
К заброске «в рай» посредством динамита.
Спецслужбы станут след в горах искать
И на Кавказе чья-то кровь прольётся.
Но корень зла не извлекут опять,
Он в сундуке Кащея остаётся!
***
ИГРОКИ
«Не будите лиха, пока тихо»
Русская пословица
Несколько магнатов и банкиров
Собрались за карточным столом.
В их руках не карты – судьбы мира,
Только мир не ведает о том.
Для богатых, словно тля – людишки,
За столом не слышен голос масс.
Господа разбросили картишки,
Ставки там – жизнь каждого из нас.
И пока в умах неразбериха,
Господа мир под себя кроят,
Позабыв, что «Не будите лиха…»
Русские со смыслом говорят!
***
РУССКОМУ НАРОДУ
В каких немыслимых грехах
Тебя ещё не упрекали,
Забыв о собственных долгах,
Что русским людям не отдали?!
Неужто, ты богаче жил,
Чем все соседние народы?
Не рвался из последних сил
Союзникам своим в угоду?
Не рисковал, спасая их
От истребления и мора?
Но в результате дел святых
Пожал наветы и укоры.
Пускай горька хула слепых,
Ты – не палач, а созидатель.
Всю правду о делах твоих
И ведает, и чтит Создатель!
***
ОЧИЩЕНИЕ
Очищают Москву от «шанхаев».
Завершается ельцинский НЭП.
Барахолки Лужкова не хает
Только тот, кто сознательно слеп.
Хорошеют бульвары и скверы,
Вновь видна красота площадей…
И когда-то возьмутся, наверно,
Очищать одичавших людей?!.
***
ВАУ!
Вот и всё, что выдавить смогла
Штатная волчица Вашингтона
В миг, когда растоптана была
Видимость свободы и закона.
Вау! Лидер Ливии убит!
Он дерзнул за родину сражаться,
Значит – отморозок и бандит!
Стоит ли с подобными считаться?
Пусть повсюду знают наперёд
Не освобождённые народы –
НАТО обязательно найдёт
Средства для внедрения свободы.
В лаврах демократии – Белград.
Мир и благодать в Афганистане.
Процветает сказочно Багдад.
В Ливии всё так же скоро станет…
***
БЕЗРОДНЫЕ
Безродным родолюбов не понять,
Как не увидеть божий свет незрячим.
Есть у безродных и отец, и мать,
Но Родина для них – лишь «сытость» значит.
В их душах песни дедов не звучат.
Не орошают память их истоки.
Они не могут посмотреть назад
И осознать истории уроки.
Им не дано дух предков ощутить,
Гармонию с природой и народом.
Они себя же обрекают жить
В довольстве, но с духовным недородом.
Нет для таких ни меры, ни стыда,
Ни искренней любви, ни состраданья.
Чудовищные замыслы всегда
В безродном появляются сознанье.
***
ИСПОВЕДЬ ПОБОЧНОГО СЫНА
Опять гляжу на Украину.
Она давно душе близка
Хоть и побочного ей сына,
Но всё-таки не чужака.
Из Запорожья и Полтавы
Ветвится мой казачий род
И пантеон единой славы
Разъять на части не даёт.
Я древним Киевом гордился,
К святым могилам припадал,
Создателям страны молился,
Истоком всей Руси считал.
Служить в её просторах начал
И был тому безмерно рад,
Как удивительной удаче,
Весомее иных наград.
В её ухоженные хаты,
В её пшеничные поля,
В народ, душевностью богатый,
Влюбился безоглядно я.
…И вот через кордоны еду
На свадьбу – крестника женить,
В вагоне несказанно бедном,
Где хочется по-волчьи выть.
Смотрю, как зданья обветшали,
Как заросли поля травой,
И накипь на глазах мешает
Увидеть штаб мой полковой.
И только памятник Бандеры,
Да кладбище «Галичины»
Деяньем самостийной эры
Средь обнищания видны.
И свет евангельский пролился,
Давая в скорби осознать,
Что дом, который разделился,
Уже не сможет устоять.
***
У ПАМЯТНИКА Н.И. МАХНО
Здравствуй, батька Махно! Отдыхаешь
На родной гуляйпольской земле
Иль на новую смуту взираешь,
Как живём мы во лжи и во зле?
Не вдохнув полной грудью свободы,
О которой ты страстно мечтал,
Погрузились в раздоры народы
За кусок и презренный металл.
Снова люди – в господской неволе
И крестьянство бездольнее всех.
Сценаристы отводят нам роли
На фиаско, тщету, неуспех…
Мы для них и копейки не стоим,
А заступников истинных нет.
Ты предстал всенародным героем
С истеченьем оболганных лет!
***
ПОХОД НА РУСЬ
Опять на Русь – коричневый поход!
Мутантов духа в Киев Запад шлёт,
Используя приёмы сатаны –
Обман и подкуп душ внутри страны.
Старо, как мир, то, что толпе твердят:
«Виновен в бедах нерадивый брат…
И дом не так построил ваш отец…»
А цель одна – смущение сердец!
Семье единой возведён наш дом
И только вместе уцелеем в нём!
А то, что в доме крыша протекла –
Насущные семейные дела!
***
РАЗДЕЛЕНИЕ
Я разделён меж Доном и Днепром
Безумной государственной границей.
Она крушит наш первозданный дом,
Где государству выпало родиться.
Нас разделяли шляхтичи, орда,
И, въевшиеся ржавчиною, галлы.
Но мы срастались заново всегда
И всех врагов спесивых побеждали.
Да будет так в безбрежии веков!
В нас кровь отцов течёт, а не чернила!
И нет той силы, чтобы казаков
В угоду королям разъединила!
***
ОКАЯНСТВО
Неистребимо в людях окаянство,
Не видно новым каинам конца.
Братоубийство длится постоянно,
Века не умягчили нам сердца.
Меняются дома, предметы быта,
Технический свершён переворот,
А ненависть осталась первобытной
И зависть многих исподволь гнетёт.
Пророки все любви народы учат,
Но внемлют ли в обители земной?
Печальна человеческая участь –
Убийцей стать иль жертвой роковой.
Кровавые и слёзные потоки
Грех окаянства не сумели смыть…
Наступят ли спасительные сроки –
В согласии начнём когда-то жить?
***
АДСКАЯ ПОТЕХА
Гражданская война – чертям потеха,
Они весь ад уделают от смеха,
Увидев, как бандеровцы дубиной
Объединяют неньку-Украину.
И ястребам смешно за океаном,
Что всё «окей», идёт согласно планам –
Пока народ враждою ошарашен,
Он Ротшильдам и Морганам не страшен.
Пусть повоюет, кровь прольёт рекою,
Потом пойдёт с протянутой рукою
И будет гнуться, словно тонкий стебель,
Заботясь только о насущном хлебе.
Для этого и создан «Правый сектор»…
Но так ли Бог направит жизни вектор?..
***
ГЛОБАЛИЗМ В ДОНБАССЕ
Добивая советский народ,
Не болевший нацистской заразой,
Глобализм по Донбассу ползёт
Из Европы, утратившей разум.
Работящий и песенный край
Стал кровавым бандеровским адом,
А газетчики подняли лай
На вождя за кремлёвской оградой.
Глобалистам перечить нельзя,
Отвечая им силой на силу,
Все, кто с Западом, это – друзья,
Все, кто против, пусть роют могилу!
На казачье-шахтёрской земле
Не найдут глобалисты покоя –
Подорвутся на собственном зле…
Здесь нередко бывало такое!
***
ХИМЕРА*
Над Украиной – свастика Бандеры.
Всё больше крови «западенцы» льют.
Нелепая майданная химера
Являет суть зловещую свою –
Искоренять дух русичей навеки
И Западу ботинки лобызать,
Чтоб стадные моральные калеки
Не вспоминали собственную мать.
Зачем хранить семейные устои,
Историей и верой дорожить?
Прошедшее ни доллара не стоит.
Забвение – накормит, может быть?
Пьянит химеру запах русской крови,
Предательство сознание мутит.
Святой Руси вставать на бой не внове,
Даст Бог, и в этой битве победит!
_______
* Химера – чудовище с головой льва,
телом козы и хвостом дракона.
***
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
Сценарный план – не столкновенье лбами,
А новая глобальная война,
В которой сгинут «москали» с «хохлами»…
В аду их жарко примет сатана.
Где нет любви, где прошлое забыто,
Где брата брат старается топтать,
Вражда и ложь надолго будут вбиты
Меж прЕдавшими собственную мать.
Бог есть любовь, прощенье, состраданье,
Готовность жизнь за ближнего отдать.
А если нет такого пониманья,
Война научит Господу внимать!
***
СВЯЩЕННОЕ ПРАВО
Участникам специальной военной операции
Рыщут над вами зловещие «птицы»,
С неба снаряды и мины летят.
В ждущей России родителям снится
Месяц за месяцем длящийся ад.
Всё, как у дедов – дороги, окопы,
Артподготовка, команда «Вперёд!»
А пентагон, оседлавший Европу,
Толпы манкуртов навстречу вам шлёт.
Сколько ещё помраченье продлится
У миллионов скопцов в головах,
Чтоб наконец-то смогли убедиться –
Зло неизбежно повергнется в прах?!
Валит вас с ног то огонь, то усталость,
Трудно к победе дорогу торить,
Но вам священное право досталось –
Правду и мир на земле утвердить!
***
СУМАСШЕСТВИЕ
Не могу отрешиться от мысли,
Что Европа лишилась ума,
И удавку, в которой повиснет,
Для фашистов готовит сама!
Неужели же там не осталось
Никого, кто осудит фашизм,
И Европа опять оказалась
Неспособной бороться за жизнь?
***
БЕДА БЕЗ БЕРЕГОВ
Стала болью любовь к Украине,
Где безжалостно властвует смерть,
Люди гибнут, ютятся в руинах…
Не могу в пекло ада смотреть!
Ноет сердце, тревогой объято,
С каждым днём сводки с фронта страшней:
Батальоны потерь безвозвратных…
Стынет кровь от таких новостей.
Разверзается чёрная бездна,
Поглощая славянский народ,
В ней Гилея* когда-то исчезла,
Украина туда же идёт.
Под конвоем советников НАТО,
Под давленьем извечных врагов
Гонят хлопцев на бойню, как стадо.
У беды не видать берегов.
Что ж вы, братья мои, натворили?
На посул упырей повелись,
Корни общей судьбы подрубили…
А цена за предательство – жизнь!
___
*Гилеей Геродот называл страну скифов,
живших вокруг Борисфена (Днепра).
***
БЕСПОКОЙНЫЕ МЫСЛИ
И хотелось бы думать о чём-то ином,
Созерцая красоты природы,
Но осколки войны долетают в мой дом,
Бьют по нервам в течение года.
И душе не до шёпота нежных берёз,
Не до розовых красок заката,
Будоражит её эхо пушечных гроз,
Что звучат беспрерывным набатом.
Тянет дымом и гарью с донбасских полей –
Непокорного русского края,
Где дружины отважных российских парней
Европейскую спесь укрощают.
К ним спешат беспокойные мысли мои,
А слова ополчаются в строки,
Чтоб с бойцами вести за Россию бои,
Приближая победные сроки.
И пока не расцвёл над Москвою салют,
Знаменуя итоги сражений,
Добровольцами думы идут и идут
В поэтическое ополченье.
Валерий Латынин
_______________
144917
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 19.05.2023, 22:51 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 22.05.2023, 21:20 | Сообщение # 2745 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| ХОДИТ ЖЕНЩИНА ПО КВАРТИРЕ…
Жизнь чужая плывёт в эфире
По какой-то своей тропе…
Ходит женщина по квартире
И не думает о судьбе.
Всё, что было недавно важно,
Будет в снах ещё мельтешить…
Ей назад оглянуться страшно:
Вряд ли беды уже пережить.
И чего-то молчат соседки,
Не кивает тепло сосед…
А врачи? Что врачи? Ну, таблетки,
От которых уж толку нет.
Тянет душу тревог резина,
Вот и правнук давно гостил…
Ей бы как-то дождаться сына –
Чтобы понял, обнял, простил…
Вот опять неспокойно в мире,
Крест на кладбище в землю врос…
Ходит женщина по квартире, -
И в слезах её старый пёс.
***
Уходят настоящие друзья,
А с ними - отношенья не пустые,
И ничего поделать тут нельзя:
Уходят годы, в чём-то золотые...
Не потому ли я не тороплюсь
Записывать в друзья и тех, и этих,
Пусть меньше их, и не престижных, - пусть,
Но с ними как-то радостней на свете,
И знаешь, с кем по жизни щи хлебать,
Куда спешить по утру от порога,
И что наивно душу открывать, -
Когда в другом её, увы, немного.
***
В ПЕРЕДЕЛКИНО
Здесь много ушедших – немилых и милых,
Извечный порядок таков.
Знакомые лица ищу на могилах,
Такой вот судьбы поворот.
Кресты да кресты, а не чистое поле,
Где ждёт перелесок вдали…
И страшно порою, и горько, и больно:
Вот жили, и в землю ушли…
И, словно стрелой, неизбежность пронзает,
Немилость грядущих оков…
А в небе плывут, синеву разрезая,
Дивят паруса облаков.
Устав, оседают могильные плиты,
Как плечи у всех стариков…
Но разве случайно над бедным пиитом
Парят паруса облаков?
***
Что ни дорога, то своя судьба,
И солнышко, и ветер – от порога…
И пусть кому-то снятся короба,
А мне - жила бы русская дорога!
Нет, не большак, завёрнутый в гудрон,
Унылый, будто свёрток с колбасою, -
Песок, и ветерок со всех сторон,
И подорожник с капелькой-росою.
Не знаю, кто в нас это заложил –
Молиться на природу и дорогу,
Кто песни вековечные сложил,
Кто научил надеяться на Бога?..
Что – города, что их крутёж и гул,
Мы этих джунглей вовсе не просили!
… Нет, я, наверно, всё же убегу
Туда, где всё жива ещё Россия!
***
УЖЕЛИ?
Высокий берег, гладь речная
И бор - зелёная родня…
Боюсь, а вдруг да не признает
Лесная родина меня?
Здесь к чудесам вела дорога,
Была душа в зените дней…
Но всё жива в душе тревога
И опасения – больней.
Всё так, ветра сорвали с места,
Концы порою не связать.
Всё так, но любящему сердцу
Ужели можно отказать?
***
НАД РЕКОЙ
Сияла церковь, всем - отрада,
А нынче лишь бурьян у ног,
И всё вокруг – как так и надо,
Но ведь не надо, ей же бог!
Она сияла над рекою,
Светила летом и зимой –
И тем, кто душу свою строил,
И тем, кто плыл порой ночной,
И всем хватало Веры, Света,
И на сто вёрст краса легла,
И в честь её певали ветры,
Цвели заречные луга…
А ныне – как укор живущим,
Её развалины стоят,
И тронут чем-то неминучим
Её, пронзённый болью, взгляд.
И всё же тянет к ней подняться,
Где высь по-прежнему светла…
Но нелегко дождаться счастья
Там, где летели слишком часто,
Как головы, колокола…
***
А мне бы избушку, а мне бы избушку,
И чтобы – река, чтобы рядом – река,
Чтоб песни свои распевала кукушка,
А я бы за ней не считала пока...
И чтобы крылечко, пускай не резное,
Где каждая щёлка, как жилка, на нём...
И небушко-небо, такое родное,
Что сердцу светло даже пасмурным днём.
В земле отыскать и морковку, и репку,
И древнее наше воспомнить житьё,
И выйти к реке, и, не думая крепко,
Всё слушать нехитрые песни её...
***
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС
Вот решусь и опять убегу
В те просторы, где птицы токуют...
Я тоскую о соснах в снегу,
О лыжне, еле видной, тоскую.
Я вернуться в те годы хочу,
Что роднили с дорогой и ветром,
И почувствовать, что по плечу -
И мороз, и снегов километры.
И леса, и деревни – мои!
Уловить песню ветра над полем,
И восторги целебной любви
Сохранить, как нз перед боем...
***
НАМ ВЕРИЛИ…
Когда-то, помню, письма приходили
Из Ленинграда, Кушки, из Орла,
И в них слова души такие были,
Что и моя душа от них цвела.
Сегодня все трубят, кому нужны мы? -
И радости, и боли наших строк!..
А мы заре и Родине служили,
И рифмы счастья запасали впрок.
Нам верили, и мы гордились этим,
Нам верили, и вместе мы росли,
И было звонким звание поэта,
И люди высоко его несли.
Они наперекор грозе шагали,
Они любили песен наших пыл…
Мы, как могли, отчизне помогали!..
Но кто-то память у неё отбил.
***
ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ
Сгустился вечер, веет зимней ночью,
Напротив лица – строги и тихи.
Стихи читаю бабкам в час урочный,
Сомненье гложет: что для них – стихи?
Я – о весне, когда снежищи тают,
И солнце – в лёт, и птичьи голоса…
И вижу, как глаза их расцветают,
Хотя давно повыцвели глаза.
… О том, что не бывает жизни гладкой,
Но лечит всё родной земли краса…
А, может, где-то здесь – родная бабка,
Бывают же на свете чудеса!
От этой мысли я почти немею,
Но слова ждут читатели мои, -
И, как могу, как смею, как умею,
Я нынче объясняюсь им в любви…
***
НЕ РОДНЯ
Во дворе кучкуются ребята, -
Проходи и уши закрывай,
Коль язык, что вперемежку с матом, -
Вовсе не язык родной, а лай.
Вот и стайка девочек пригожих
Не сумела души уберечь…
Не читают, черти, книг хороших,
Вот и не родня – родная речь!
***
СВОИ
…А жить счастливее не стало,
И всё темней тревожный фон.
В народе видится усталость
И от вождей, и от реформ.
Того гляди, во всём стреножат,
Меняют совесть на рубли…
Народ понять никак не может:
Где враг, когда вокруг – свои?
***
ТАКИЕ СТАВКИ
Мы не меняем ставки,
Храним завет отцов.
В крови – Корчагин Павка,
Матросов и Рубцов.
И не пути, а броды
Рождали в сердце песнь.
В нас, может, нет чего-то,
Но стержень всё же есть.
Мы против всякой скверны,
Что разливает гнусь.
И потому, наверно,
Стоим горой за Русь!
***
МЕЖА
Грустит зелёная аптека,
Бурьяна ширится межа...
Чем дальше лес от человека,
Тем неприкаянней душа.
В лесу, наверное, отлично:
Ещё земля от зорь светла...
Ну, сядь скорей на электричку,
Ну, позабудь свои дела!
В лесу сама земля – большая,
И воздух просится в полёт...
Нам всё чего-нибудь мешает
И песни чуждые поёт.
Но дарит память между прочим
Ту радость – сердцу и очам,
И так светло побег пророчит,
Что нет покоя по ночам!
***
КРЕСТ
Идут года. У каждого – свой крест,
Что иногда так давит нестерпимо,
Что гаснет свет и в сердце, и окрест,
И добрый ангел пролетает мимо.
И нету сил, желания и слов,
И кажется, что нету больше жизни, -
Пока не позовёт к себе Любовь,
Пока святой водой в лицо не брызнет…
***
ТАКИЕ ВОТ ЦВЕТЫ
Я читаю стихи, чтоб согреть свою душу.
Открываю газету, а после – журнал…
Не сказать, что завешаны золотом уши,
Но открыться не хочет сердечный канал.
На таланты, конечно, Россия богата,
И рифмуют пристойно, что там ни пиши, -
И, наверное, век да судьба виноваты,
Что в стихах, неживыми ветрами объятых,
Как в бумажных цветах, не хватает души…
***
ПРЕМЬЕРА
Ах, жизнь и с клёном поступала скверно,
Но, что ни осень, - у него премьера,
Ни ветер и ни дождь его не портят, -
И он на жизнь опять по-царски смотрит.
…Какая радость оживает в сердце!
Какой восторг щенячий, словно в детстве!
А значит, жить в любое время стоит,
Была бы только осень золотою!
***
НАВЕЧНО
«И нету для русского духа простора».
А.Аврутин.
… А в сердце – свои, дорогие, просторы.
Пока что за городом нету забора,
И есть электричка, автобус и поезд, -
Подремлешь маленько – и в травах по пояс!
А дух – он приходит с огромной любовью
Вот к этому небу, вот к этому полю,
И к этой бабусе на старом крылечке,
И к этой знакомой и сказочной печке,
И к этим, под небом сияющим, далям,
И к этим дорогам, где жёны рыдали,
Когда кандалы всю округу будили,
Когда на войну навсегда уходили…
Зарубки на сердце – безбожные были,
Но ангелы с этой землёй говорили,
И вряд ли бывать ей богаче и краше,
Но лишь бы навечно была она нашей!..
***
КАРТОШКА
«На картошку!..», и тут не до лени,
Ниоткуда пощады не жди,
И, бывало, - с простудой в бореньи,
И, бывало, в грязи по колено,
Коли сыпали дружно дожди.
Нынче гладкой для форсу и чистой
Сколько хошь - то красней, то белей,
Но была та картошка душистой,
Да с огурчиком хрустным, речистым,
Да с родных благодарных полей!..
***
АХОВЫЕ ВРЕМЕНА
Где опору найти? Никому-то не верится,
Кто вверху, кто внизу, - ничего не изменится,
Где то время, когда были сёстрами-братьями,
И умами владели не банкиры – писатели!
А беда матереет, и пухнет, и множится…
Надо к Богу торить не простую дороженьку,
Поглядеть на себя в это зеркало надо бы,
Чтобы Русь наконец с головы встала на ноги!
***
КАК ВОДИТСЯ
Европа хороводится,
То ласкова, то зла.
А на Руси, как водится,
Давно свои дела.
За морем много золота,
Мозгов огонь и гнусь,
И все ломают головы:
Как облапошить Русь?
Нас не собьёшь приметами,
Не рассчитаешь дни,
Ведь Русь славна поэтами.
Да здравствуют они!
***
РАЗБОЙНИЧЬЯ ВОЙНА
Вражду и жадность холя,
Коварна, как питон,
Война без спросу входит
В обычный мирный дом.
Порокам потакая
(Настала их пора!),
Идёт война, алкая
Не своего добра.
Ей надо очень много,
Разбойники – братья.
Война не любит Бога,
Поскольку он – судья.
Но если мир восстанет,
(Что в трениях увяз), -
Когда-нибудь настанет
Её последний час!
***
ВЕРЬ, ОТЕЦ!..
Стало серым - в окопах - поле,
Плачет мать, всех богов моля,
Поседела от страшной боли
Золотая в цвету земля.
Как мы пили медовый воздух,
Как мы пели, одна страна…
Как считали на небе звёзды
И давали отцов имена!..
Злость и жадность владеют миром,
Всюду слёзы, беда и гнусь,
И вассалы встают по ранжиру…
Не сдаётся святая Русь.
Не сдаётся, и всё, не сдаётся!
С нами Жуков, Кутузов, Донской!..
Верь, отец, сердце Родины бьётся,
И Победа – за ближней рекой,
Где гуляли гривастые кони,
Где Бандера орудует вновь…
Спи, отец, если можешь, спокойно.
С нами Бог и России любовь!..
***
ДОКОЛЕ?!
…Опять за пульт, лишь солнце встало,
Опять Донбасс с утра в крови…
И новый день ползёт устало:
Одно и то же, се ля ви!
Не нам судить, но всё ж обидно:
Не так, как ждали, всё идёт!..
И потому конца не видно,
И Запад орды в бой ведёт.
Сияют новенькие каски,
На сытых лицах наглый блеск, -
И погибает люд в Луганске,
И стонет раненый Донецк.
Не мы ль воюем ради мира?
«Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
Иль нет у нас своих героев,
Что по-отцовски сдвинут брови
И поведут полки?
Иль, может, нет у нас, ребята, -
Чем бить такого супостата -
Где надо и когда?
Не глядя на чины и лица
Содрать доспехи с той столицы,
Где варится беда? -
Чтоб это время миновало,
Чтоб молвил внуку дед бывалый
С медалью на груди:
«Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
За ними, внук, иди!»
***
СТАЯ
Нет конца нещадной драме,
И колеблются весы:
Прочь сметают даже храмы
Эти бешеные псы!
Докатилась мать-Европа,
Ухмыляется Нью-Йорк.
Словом, негде ставить пробу,
Но фашистский жмёт сапог.
Вовсе духом обнищали,
Хоть свинцовы кулаки.
Даже Пушкина стращали,
Только руки коротки!
Нет прощенья вам, ребята,
И не спрячетесь в кусты:
Драпанули в сорок пятом,
Подожмёте вновь хвосты.
Есть Господь, он видит, знает,
Рай закроет на засов, -
И Европа встретит стаю
Одичавших вовсе псов!
***
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
Живут поэты русские!
Живут, не помня зла,
Но строки - чаще грустные,
Такие вот дела.
О чём когда-то грезили –
Всё ухнуло до дна.
Ах, русская поэзия,
Родная сторона!
Но лучик света дальнего
Пронзает, как мороз,
И, может быть, когда-нибудь
Мы запоём без слёз…
***
ЕСТЬ ТАКОЕ ВРЕМЯ…
Всюду листья кружат, но чисты колодцы,
И усталый дождик моросит опять…
Есть такое время – осенью зовётся,
Есть часы такие – сердцу благодать.
Кажется, немало и народа рядом,
Тот хорош, и этот, только вот не свой…
Есть друзья такие – всё прочтёшь во взгляде,
Есть сердца такие – дарены судьбой,
День, другой, и в небе воссияет просинь,
Свежий ветерочек душу обовьёт…
Обо всём расскажет, если слушать, осень,
Тайною тропою к свету поведёт…
***
Я ПОДАМСЯ ОТСЮДА ПОД ОСЕНЬ...
Всё исхожено, спето. Довольно.
Не закрыты пути на засов.
Оторваться от родины больно –
От родимых полей и лесов...
Но затем ли она врачевала,
Но затем ли меня берегла,
Чтоб заученно я куковала
Об уюте родного угла?
Я подамся отсюда под осень,
В это время у птиц перелёт.
И запомню, что родина – спросит,
И поверю – как надо, поймёт...
Коростелёва Валентина Абрамовна
_____________________________
145022
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 22.05.2023, 21:21 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 23.05.2023, 18:51 | Сообщение # 2746 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| ПОРВАННЫЕ ДУШИ
Из цикла "Гости из прошлого"
Осенняя колонна 84-го несколько раз откладывалась и бронегруппа вышла из полка только в середине ноября. Что даже кстати! Три-четыре дня до Кишима, день там, за неделю вернемся. Сутки-двое на разгрузку и опять - машины провожать. Если повезет, к Новому Году управимся. Потом праздники и вот она - замена. Поеду-ка я домой. Хорош с меня, отслужил свое...
Наши почти все ушли. В третьем взводе из осенников 82-го стались мы - пехота: Гриша Зубенко, Богдан Завадский, да я. Три славных тополя в горах Бадахшана. Аксакалы хреновы...
Зубяра сейчас вытянулся вдоль ребристора, подпер балдой башню и дрыхнет, сучара. Я тоже бы приснул, да меня с командирской 147 хорошо видно. На Серегу нарываться с утра не хочется. Свесив ноги в люк старшего стрелка и увалившись спиной на башню, рассеяно пялюсь по сторонам.
Хорошо... Солнышко припекает, тепло. Дорога грязной дворнягой весело юлит под траками. Тяжелая пыль, придавленная ночной влагой, выше фальшбортов еще не клубится. Небо тяжелой синью налилось, над головой близко нависло. Горы вокруг головы склоняют, начали приседать и желтой перхотью покрываться. Это заканчиваются скалы "точки" Третий мост и скоро выпрем мы в долину. А там - равнина, пару выгоревших за лето зеленок, потом сраный Баланджери и родное кишимское болото. Дом третьего батальона и танкистов.
Вот они - танкачи. Видно, еще за сутки выставили боевое охранение - встречают. Это приятно, молодцы. Полезное гостеприимство.
Встали.... В наушнике портативки затрещал голос любимого взводного:
- Слышь ты, жопа! Подъем! Вообще охренели! И толстомордого своего толкни! Саперы сейчас пойдут...
Вот те на! На кой?! Спрашиваю:
- Что там?
- Не знаю. По общей передали, что ночью два раза били по постам. Может, минировали, может еще какая хрень. Короче - просыпайтесь и... твою мать! хотя бы винтовку в руки возьми, а!
Ладно, ладно... не кипятись, родной. Щассс... все нормально....
Сел, вытянул из люка за кончик ствола свою эсвэдэху. Толкаю в бок Зуба. Тот только мыкнул в ответ. Приложился посильнее. Братишка разлепил левый глазик и нехотя протянул:
- Видъебысь...
- То, Гриша, не я, - то взводный.
- Зи взводним... - и опять закрыл глаза. Ну, вот - поговорили. Славно...
Поднялся, осмотрел колонну. Стоят машины, пушки елочкой на обе стороны развернули. Мы в голове, в полутора километрах от самой бронегруппы. Перед нами только БТР кого-то из штабистов, три старых корыта саперов да два танка с тралами. Как раз напротив машины блокировки остановились. Поворачиваюсь. Колонна, как кавалерийский клинок на две трети влезла в распоротое брюхо кишимского предгорья. Вроде - все спокойно. Впереди, слева, чахлые, не то что дувалами, даже ленивой изгородью не перекрытые россыпи садов, да мертвый кишлачишко на пяток расстрелянных руин. Справа две говеные кошары, непонятная загородь, под обрывом - река.
Место, правда, узкое - истеричная Кокча в мутном реве заходится. От противоположного берега начинают расти скалы. Здесь помаленьку, это потом, к Третьему Мосту они вытянутся как надо - нигде больше такого не встретишь - чудовищные россыпи гигантских базальтовых игл, штурмующих небо.
Маленькие горы, не маленькие, а до камней всего ничего - метров четыреста. Оттуда правоверные вполне могут упороть и мало никому не покажется. Да и с гранатомета, пожалуй, дотянуться можно, хотя и маловероятно.... А вот место откуда бы я мочил колонну на месте духов! Метров сто пятьдесят по курсу не то ущельеце, не то коридор меж скал, и вглубь уходит....
Перегибаюсь через башню и хлопаю Катаева по шлемофону. Санек вылазит - глаза смеются. Тыкаю ему пальцем в коридор. Оператор-наводчик, тем временем, ехидно хихикая, в свою очередь, показывает на ствол своей пушки. Орудие-то уже по уму направлено. Сам дурак! пора бы и привыкнуть - пацан уже полтора года, как отлазил по горам. Машу рукой, начинаю орать на молодят. Народ зашевелился, перекладывают оружие с места на место, мешки из-под задниц убирают - ретиво изображают боевую готовность.
Зубяра тоже сел, пулемет поперек переставил. Вот уж скотинка боевая! Когда дрых лежа, ПК меж ног вдоль машины кинул и еще правую на приклад уложил - ковбой файзабадский. Теперь дуру свою поперек развернул, руками подперся и дремлет сидя. Со стороны посмотришь - боец чем-то по делу занят. Ну, что тут скажешь: Дед Многомудрый Быстрозасыпающий. Зараза такая!
Кликаю по связи. Тишина. Оглядываюсь на 147. Звонарев о чем-то треплет по шлемофону. Потом выразительно сплевывает прямо к себе в люк, поднимает глаза и машет мне рукой. Топаю к нему, по пути, со сто сорок восьмой слазит Пончик - замок уже. Подошли. Серега немного полечил нас, поматерил кишимцев и перешел к делу:
- Сходу проскочить не получиться. Стремно! Дали команду на пешее сопровождение. Впереди идут саперы. Бэтер уходит назад. Ты, Бобер, сразу за ними, я за тобой. Слободянюк забирает всех молодых и вместе со сто сорок восьмой стоит здесь пока не подтянется рота, а там - в распоряжение ротного. Вопросы?
Да какие тут вопросы. Нормально все, Серега! Молодых отдадим да поедем дальше. Но оказалось, что вопросы есть.
- Да, Глеб, ты Ткача отправляй, а Болды все же оставь - три ПК на головной - это нелишне.
Спасибо, родимый, утешил... Пошли по машинам.
Тут все просто - так фишка легла. Нормальных людей - пехоты, во взводе раз-два и обчелся, максимум двенадцать-тринадцать бойцов. И по сроку службы поделены неравномерно. Нас - осенников, когда-то было много, но мы уходим - большая часть уже уехала. Теперь много молодых, а мы трое - даже не дембеля, приказ прогремел два месяца назад, мы - гражданские. Но кого это заботит. Поэтому, мало того, что пошли все, так еще на каждого по два салабона. У меня - Юра Ткаченко и Темир Ургалиев.
Юра - умненький киевлянин, славный, но физически слабый и невысокий мальчик. Все еще ребенок. Русые реснички светлых глаз не скрывают и всегда удивленное выражение на них. Чуть чем-то заслушается, сразу рот открывает, прям как дите малое... Нет, пусть мне ответят: какой же надо быть отмороженной тварью, что бы этого ребятенка за речку отправить, а! Я его жалею и всячески опекаю. Несколько раз на операциях таскал его пулемет, чтобы Ткач не лег - они с ПК одного роста. Взводному понравилось.... очень удобно получилось - опытный дедушка снайпер и, он же, по ситуации, пулеметчик.
Темир - другой. Крупный, крепкий малый с Зауралья. Смышленый, веселый, открытый, честный. Глазища под черным ежиком антрацитовыми угольками искрятся. Прям не татарин - китаец настоящий. Говорит почти без акцента. Из всех проблем - прилипшая к нему дурацкая кличка. А как получилось: кто-то из старых на него наехал, начал орать ну и достал видно. Темир присел, прижмурил свои щелки, словно защищая уши поднял ладони и давай орать по-своему: "Болды! Болды! Болды!" - хватит, то бишь. Так и приклеилось....
Подхожу к машине:
- Ткач, бегом к Пончику на машину... - тот засуетился - И пулемет оставь! Ко мне в люк его, быстро! И ленты туда же.... Давай, давай, сынку!
Пока тасовались меж машинами саперы пошли... Ну и мы следом попылили...
***
Не зря Серега с утра еще на "точке" завелся. Знала его нижняя чуйка - не будет бесконечной лафы - платить придется.
Только двинулись, только за саперами машины выстроили, и пятидесяти метров не прошли, как рубанули нас. Оттуда - откуда не ждали....
Вначале из руин в ста метрах от нас вылетела граната и ахнула аккурат посередине катков головного танка. С садов тут же ударили одиночные бойцы - тяжело задумкали буры. Бьют саперов...
Пока граната долетала, я уже мухой слетев с брони, распластался слева под гусеницами. Как что-то внутри толкнуло - не полез на противоположную от обстрела сторону. Словно лист приклеенный рядом растянулся Темир.
Зуб нырнул в мой люк, выставил пулемет и первый из нас приложился штук на пятнадцать по глинобитным развалюхам. Катаев сверху разворачивал пушку.
Смотрю в прицел - да нет там никого! Лежит наверняка этот гаденыш сейчас на дне погреба и бесу своему молится, чтобы пронесло правоверного. В рот тебе ноги! - не пронесет тебя, падла! Бля буду - не отсидишься, паскуда конченная...
По садочкам тоже не видать - высунется один, стрельнет и опять засядет. Каждый по разу - всем весело. Тут с противоположной стороны, из-за Кокчи, лупанули по-взрослому. Ну вот, дождались... На слух - под десяток автоматов, где-то вдали ДШК кашлем зашелся, легла первая мина.
Понеслась война, твою мать! А до дома осталось - всего ничего... песня такая была...
Ну, а что делать?! Осматриваюсь - лупят густо, но в основном саперов, нас так - пока по попке похлопывают. Пацаны и собаки вначале на правую сторону за машины рванули, вот их там и встретили. Кого-то уже волокут в десанты, кто-то лежит, крики, маты... Шанхай!
Танки башни доворачивают, но еще молчат. Машина прикрытия позади нас тоже ствол поднимает, причем не за речку - на сады. Да понятно - свой геморрой болит сильнее. Там где-то РПГ бродит! Что ему тот крупнокалиберный да миномет?!
Закидываю винтовку на голову Зубенко, тот из люка высовывает Ткачевский ПК. Щассс, с-суки, побазарим! Две секунды - с Темиром разберусь!
Укладываю пацана поближе к броне, там рытвина на треть штыка. Тыкаю пальцем в ближайшие сады и кляну страшными карами если попробует подняться. Давай, военный, пора за работу...
Поворачиваюсь к бурам спиной, закидываю сошки на ребристор. Понеслась, бля - даешь буги-вуги!
Все это секунды. Сейчас, вспоминая, они укладываются в плотные блоки и пару мгновений тогда, сейчас можно вспоминать часами. Скорость восприятия, не подстегиваемая кипящим адреналином, иная. Время всегда течет по-разному... Память тоже - избирательна. Первыми возвращаются самые сильные впечатления. Шоковые... Как выстрел пушки, например....
Мир от неба до самого земляного нутра внезапно лопнул, треснул вдоль мокрой простыней и наступил миг нирваны. Потом пустота взорвалась дикой болью в ушах, яростным звоном миллиона цикад, упругим толчком в каждую пору тела и напоследок полыхнула жаром в лицо. Танк прикрытия саперов выдулил из ствола бело-оранжевый шар метра на три в поперечнике. Позади меня громыхнуло по-новой. На месте крайних, самых больших кишлачных развалин вырос утес из пыли и дыма. Организм встретил знакомые ему ощущения легким подташниванием и чувством собственной отстраненности, потерянности в этом мире. Братская память контуженых...
Все... башни развернулись за реку. Хвала Всевышнему! Стоять под углом выхлопов - так и вконец мозги вытекут. Глянул на Болды - ничего мальчонка, не поперхнулся, строчит себе помаленьку короткими, как по-писаному.
Тем временем за речкой грязножопые товарищи и вовсе посказились. Не иначе обдолбленные в сисю - лезут прямо под орудия. Санек Катаев щедрится от души, дорвался пацан: столько проходить пехотой, чтобы обломилась ему под раздачу знатная пруха - автоматическая пушка БМП-2. Ну и поливает длинными, не жалея ни снарядов, ни моих долбаных ушей.
Я тоже так, особо не экономя, как дубеля пачками всаживаю (Юра потом спасибо скажет). Приметил сразу троих аллахеров за передней грядой и вздохнуть им, высунуться не даю - частыми, на три-четыре патрона, очередями гоню их, недоношенных, к соседней скальной россыпи. Меж ними и валунами - открытая площадка - проскочить бы вам надо... Смелее... попытайтесь, суки - на спор!
Катаев замечает мои трассера, на ходу врубается в тему и густо прикладывается сверху. Хорошо.... Следующую перебежку делает уже один - только шапчонка пегим войлоком мелькнула, словно пасху ему на голову натянули. Ну-ну, гандон... я начал, Санек закончил - от души нагадил с обоих стволов поверх моей очереди. Усе мама - сливайте воду....
Только вошел в раж, дурное веселье боя вставило, слышу крики: "Санинструктора!". Плохо дело.... У саперов есть свой внештатный санинструктор, вместе за одним операционным столом в гнойке стояли. Идет с пацанами и наш прапор, Степан, фельдшер второго батальона.
Дотягиваюсь до Зуба:
- Коробку давай!
Эта жаба скрывается в люке и через пару секунд выбрасывает мне... ленту! Ну, бля, хохол, понадкушенный!
Спорить некогда. Закидываю ему отработанные звенья с оставшимися финиками, укладываю в свой короб новую сотку, загоняю затвор и, согнувшись пополам, лечу к саперам. Только добежал - оборачиваюсь на сопенье за спиной. Вот те на - Темир свою дуру сзади тащит. Мать-перемать! лежать! убью!... Ну, да ладно, не назад же под пулями гнать. Своих дел не меряно...
Здесь - полный кавардак. Двое уже в десантах, над одним колдует Степан. Еще боец, с перетянутым по хэбэшке коленом, сидит привалившись спиной к люку и длинно строчит куда-то в горы. Понятно, вот он где - мой сапер-санинструктор. Между машинами - куча мала. Двое, все уже в крови, пытаются тащить третьего. Тот упирается, кричит, плачет, тянется к своей собаке. Пес лежит на боку и под ним уже черная, растоптанная сапогами лужа. Все вперемешку: люди, звери - где чья кровь? кто ранен? куда? кто кричит? Короче, полный....
Между машинами саперов не шибко-то и чвиркает, жить можно. Ору что-то про маму, отталкиваю самого ретивого - явно не ранен. Тот, что упирается - с пробитым правым бедром и течет с него слишком добряче - своя лужа уже. Не до эмоций. Фиксируя выбрики, наваливаюсь плечом сверху на живот, накладываю жгут под самые яйца и не отпуская вбиваю в другую ногу одну ампулу промедола. Бинтовать некогда - ногой он сучит, конечно, знатно, но разбери в горячке - все что угодно может быть - и кость, и артерия, и нерв. Врачи разберутся. Двое, что держали, волоком тащат его в десант к Степану. Пацан просто заходиться - тянется к псине и кричит, кричит, кричит: "Дуся! Дуся!".
Спи, давай, братишка, разберусь я с твоей Дусей. Подхватываю животину и - за другую броню. Какой здоровый кобель, просто огромный... Вот тебе и Дуся! Тут подскакивает Болды, хватает за хвост и лапу и уже вдвоем шустро затягиваем собаку под десанты.
Эх, какой у меня татарча толковый! На ходу приметил - за здоровую лапу ухватился. Молодец.... А пулемет свой бросил! срань такая!
Тем временем танки так дружненько угандобесили по скалам, что, по-моему, даже по Кокче рябь пошла. Вначале прошлись по приметному коридорчику - так миномет по третьему разу больше и не гавкнул. Потом упороли куда-то повыше, в скалистую даль, ДШК тоже в момент прижух. Полечили и АКМщиков. Представляю, как духи после первых залпов дрыснули по щелям. Да остыньте, тут не спрячешься....
Не суетные ребятишки танкисты - редко базарят, да кулаки тяжелые, отгавкиваться желание пропадает быстро и всерьез.
Под конец прилетела пара "крокодилов", покружили, отшипели сверху НУРСАМи, порычали пушками и отчалили с чувством честно исполненного интернационального долга. Красавцы! Всегда им, летчикам, завидовал.... По определению - элита! Говорила же мне, долбню, мама - учись сынуля, тяжко жить неученому...
***
Саперы рванули сразу - по горячему. Полные десанты раненых - не до мин уже, на "точку" надо - вертолеты на подходе. Подошли машины колонны, популяли в скалы, на ходу помолотили сады и, набирая скорость, двинули в Кишим. Мы остались на месте, в полусотне метров от танка боевого охранения. Когда пойдем назад - будем первыми. Привыкли, не удивляемся.
У меня еще должок - руки чешутся! Заводиться стал шибко быстро, что-то не было такого раньше - домой пора. Махнул Богдану, тот подхватив свою винтовку, перепрыгнул на нашу машину. Оставив молодых на месте, мы, выждав окно в сплошном потоке движущейся бронетехники, направились назад - к остаткам кишлачка.
От души танкисты приложились... Там и так ничего живого уж не было, а тут и вовсе - одни огрызки фундаментов, словно гнилые драконьи зубы из мертвой земли торчат.
Гаденыша приметили сразу - еще на подходе. Лежит, воняет рядом с воронкой. За малым не ушел.... Помню, удивился - насколько грамотная и продуманная позиция: залег, тварюка, не в самом кишлаке, а в низинке, метрах в тридцати-сорока от последних руин. И лупанул в проем меж дувалов. Со стороны по хвосту гранаты видно - бьют из середины кишлака, а он - вот где! Да ладно, все равно не выгорело - и танк не сжег, только каток подпортил, и самого - по запчастям закопают.
Рядом - огрызок гранатомета. Отлично.... Сереге подарок сделаем, он комбату, тот - комполка. Глядишь, кто-то дырочку в кителе, а то и в погоне просверлит. Потери - издержки войны, раненые - проза жизни, а вот захваченное у мятежников оружие это - поэзия успеха!
Подошли к духу. Лежит, уткнулся рылом в пыль, правая рука вместе с плечом и лопаткой оторвана к хренам собачьим. Левая - подвернута и растопыркой вверх вывернута. Одной ноги от колена нет, только поодаль калоша валяется. Наша, кстати, советская - черный низ и малиновый бархат внутри. Правоверный весь порубан, окровавлен, обожжен, одежду со шкуры клочьями сорвало. И мелкий такой... несчастный - когда дохлый.
Подцепил стволом пулемета - перевернул на спину. Стоим втроем - глазами лупаем. Спецы тоже из люков повысовывались, с машины смотрят. А перед нами - птенец желторотый. На вскидку - лет двенадцать, может чуть больше. Глаза открыты и забиты палевой пылью так, что очками кажутся. Черты лица - Мефистофель в отрочестве. Вот с таких в средние века бесенят и чертей писали. Лицо звериной национальности.... Бесово отродье! Для чего только тебя мамка на свет блеванула, недоносок?!
Не знаю, такое накатило.... никогда со мной подобного не случалось... да и чтобы с кем другим - не видел. Поднял пулемет и всадил в мерзкую харю очередь - только ошметки полетели.... Нате, хороните красавца, великого моджахеда - мученика за газават ваш сраный!
Подошел Зубяра, закинул свой ПК за спину, забрал мой и, приобняв за плечи, тихо сказал:
- Пийдемо, братусю, хай йм неладно буде....
Да, куда уж неладнее! С чем и отвалили....
***
Возле машин суета - молодняк позиции готовит. Взводный закинул в башню остатки РПГ и помчался отчитываться - машина комбата в Баланджери. Осмотрелся по сторонам: мой Юрец с остальными, под бойкие окрики Слободянюка, который Пончик, бодро лопатой машет, а Темира не видно. Не понял?!...
Вон он где! Сидит под деревцом над мертвой псиной и что-то скулит. Непорядок! Подхожу.... Оказывается - поет! Уселся на корточки, сорванной веточкой отгоняет от собаки мух и что-то свое, бабайское, грустно мурлычет. На тощие пожелтевшие ветки накинута плащ-палатка, вот в этой тени они и пристроились.
И самое интересное - смотрю, а пес-то дышит! Нормальная собака, круто! Редко, мелко, с перебоями, но распоротый бок вздымается. Присел рядом, осмотрел. От шеи до самого брюха, как бритвой, весь бок по диагонали распанахан. Видны надсеченные ребра, но не разобрать - целы ли. Разваленная рана прибита пылью, кровь почернела и свернулась вздыбив густую и уже заскорузлую шерсть. На груди тоже - все торчком и присохло. Жара....
Нога еще пробита, помню. Сейчас не посмотришь - переворачивать, мучить животину не хочется. И так понятно - кранты, отвоевался пес. Но и подыхать солдату, хоть и четвероногому, так, на обочине, - не пристало. Хотел еще промедола вколоть, но потом передумал - кто его знает, как он на собак действует, а пес и так не дергается.
Аккуратно положили собачуру на плащ-палатку и отнесли в десант моей 149. Вечером похороним....
***
Посидеть спокойно не дали. Приехал взводный, тут же по связи одна команда, потом еще одна - поехали, родная, кататься! Угомонились только под самым Кишимом. Начинало потихоньку смеркаться. По связи запретили разжигать костры - бред полный! Какого?! От кого прятаться - всю округу за день на уши поставили! Да ладно....
Завели БМПшки, повыкладывали на эжекторы банки с кашей и тушенкой - греем. Залез я в десант и вижу задратую морду, осмысленный взгляд и даже, гадом буду! два слабых удара хвоста по сидушке. Вот тебе на! Живой....
Свистнул своей татарче, бережно вытянули пса на брезенте и положили в сторонке. Лежит голову почти все время держит, ушами, словно конь, прядет. Глазюки карие... Столько в них понимания и тоски.... Налил в ладошку воды из фляги - он жадно выпил. Понято....
Порылся в десанте, откопал пару Серегиных банок: "Гречка в курином бульоне". Блатная каша - увидит, - прибьет на хрен. Кинул на эжектор, поманил пальчиком Пончика, шепнул пару ласковых.... Да, Глебыч, вопросов нет, родной! Забрал у кого-то из молодых каску без внутренней оснастки. Вывалил туда две банки каши, долил воды в бульончик. Попробовал - нормально, не горячая. Темир вырыл у головы ямку, как раз почти на всю каску. Поставили. Ешь, мол....
Парняга так рьяно зачавкал, что понял я - срочно нужен Степан. Залез к Катаеву в башню - давай связь налаживать. А фельдшер наш по всей колонне, как заведенный... Нашли в Кишиме, только раненых отправил. Я ему так мол и так.... Ох тут он меня - и в хвост и в гриву, да так залихватски, да с выпендрежем своим сибирским, чалдон безбашенный.
Ну мне тоже с ним особо любезничать не о чем. Тоже мне - прапор, пуп земли. Нагавкавшись вволю, сговорились, что как разделается он с делами, так найдет машину и приедет. А тут ночь на носу, куда ездить - к урюкам на шашлык? Жопа...
С третьего или четвертого захода по связи сообщил, что едет с комендачами. Сказал, чтобы я воды разогрел. На чем? Втихую затащили один термос в окоп, накрыли палаткой и спалив три или четыре осветительных огня наш молодняк чихая и кашляя выдал на-гора литров двадцать кипятку. Взводный только головой качал, за этим цирком наблюдая.
Наконец приехал Степан. Приволок свою сумку и еще целый вещмешок медбарахла. Сразу осмотрел собаку. Спрашиваю:
- Ну, что?
- Да что, шить бочину надо... ногу потом посмотрим, с грудью вообще хер разберешь... Ладно, давай - время! не казенный, поди...
Давай!
Взяли Темира, фонарь взводного, Степановы причиндалы, воду, обложились палатками и начали нашего Дусю латать.
Первым делом добрым куском бинта схомутали пасть и завязали узел на затылке, под ушами. Внутримышечно дали обезболивающее.
Начали очищать рану. Обкололи вокруг новокаином, вылили почти всю воду, кое-как, местами прихватывая кожу состригли закаменевшую шерсть. Стали промывать перекисью, тут же все запенилось бело-розовым, обильно пошла сукровица. Смыли фурацилином, жирно обмазали вокруг раны йодом. Семен разложил кривые иглы, нарезал и намочил антисептиком обычную армейскую суровую нить и говорит:
- Чего смотришь? Схватил зажим - вперед!
- Че, я буду шить?
- А кто?
Ну, с Семеном особо не поприпераешься - спасибо, что вообще приехал. Давай шить. Тот только покрикивает, да в гроба-душу-мать клянет жопорукого чухонца. Я уже под конец и смеяться не мог от его матюгов. Это ж как и, главное, где, так ругаться выучиться можно? Ума не приложу....
Дуся лежит смирно, иногда только шкурой передернет. Тут-то и ему - по первое число от Степана. Не шали! А то долдон криворукий женилку к хвосту с перепугу причинит, что тогда: пока поссышь, служивый - пять раз кончишь. Ну, и все в таком духе, пока я не управился.
Серега просидевший весь вечер рядом с нами - просто выл, сил ржать уже не было. А чего, классный день у летехи. Взвод - красавец. Себя показал, гранатомет добыл, раненых спас. Всех прикрыли, потерь - ноль. Даже собака чужая и та - выжила. А тут такой концерт под занавес: Райкин - отдыхает.
Смешно им, а мне - терпи, обтекай. Нашли потешницу, швею-мотористку. И поди слово скажи - Семен разухабился, попустило мужика с утренней горячки, вот и потешается. Ты ему слово - он тебе десять в ответ, да так, что и рот потом открывать не захочешь. Это тебе не батальонная связь. Сиди на попе ровно, шей псину и сопи себе в обе дырочки, гиппократушка....
Управились с боком - засыпали все желтой хирургической присыпкой, как подсохло, поверх, замазали зеленкой. Занялись грудью. Состригли, где и как смогли, всполоснули, на чем и закончили. Грудина у пса - будь здоров, не у всякого мужика такая. Мышцы литые, тяжелые. Насчитали четыре дыры. Все мелкие - скорее осколки, а там, как Судьба карту сдаст. Рентгена нет, как проверить - зондом? А дальше - полостная операция в условиях окопа, силами двух коновалов? Бред....
Обработали. Перевернули на заштопанный бок. С Семена весь кураж мигом слетел.... Явно пуля, чуть выше колена. Кость раздроблена, нога соплей болтается. Кровоточит негусто, но постоянно. Туго дело....
Тут Взводный выступил:
- А пацан-то наш - боец!
- В смысле?
- Сраку духам не показал, все на грудь хапнул.
А ведь прав! Действительно.... Приметил Серега - так и есть. Все раны - спереди. В лицо пса били - не отвернул.
Семен приосанился:
- Ладно, мужики, кончай базарить....
Засыпали дыру не разведенным бицилином, обработали сверху, перетянули тугой повязкой. Потом Семен наколол антибиотиков, повторно вогнал анальгетики, дал димедрола.
Пошли курить. Спрашиваю:
- Ну и как он тебе?
- Ой, Глебыч.... Красивый собака.
Чуть третий раунд матерщины не начался, задрал уже своими приколами!
- Я про состояние...
- Усыпить бы надо, говорю же тебе.
- Тебя самого, блядь такая, усыпить надо....
- Да ладно, не дуйся, как сыч, тоже мне - целка. Подумай, что ему за жизнь светит - ни в работу, ни поиграть, ни суку покрыть.... Ну, да, как знаешь.... Бувай, здоров! - И полез к взводному на машину.
Я тоже долго не шастал. Завалился в Ткачев окоп, накрылся и вырубился до утра. Помню только, как ночью мои молодята под теплый бок, сменяясь с караула, тихонько заползали.
Вот уж впрямь - салажатова наседка.
***
Ночь прошла спокойно, а утром прибежал танкист с соседнего поста с тупым вопросом: "Кто тут - доктор?". Это меня по связи ищут саперы. Кто-то слышал вечерние матюги по эфиру и сообщил им, что собака жива. Сказали - едут. Пошел посмотреть псину. Ясно - заберут.
Мои гаврики докладывают: "Спал, пил, отлил. Степан - смотрел. Уже уехал".
Орлы! Дедуля спит - служба летит!
Подхожу. Там - радости.... Хвостом колотит, руки лижит. Посмотрел бок - ничего. Заглянул под брюхо - на лапе новая повязка. А говорил - усыпить....
Уселся рядом, поднимаю руку из под морды - уши потрепать, слышу - глухой рык. Не понял... А глаза серьезные и губа над одним клыком чуть приподнятая. Рука сразу опустилась.
Пес-то огромный. От нормальной овчарки в нем совсем-то чуть-чуть. Те вытянутые, низкие. А этот высокий, мощный, костяк развернутый, пасть широкая, вообще - голова слишком большая. Какой-то метис. Шерсть короткая, густая, почти кремовая, подпалы сверху коричневым темнят. Абрикосовый малый, нежного оттенка - с хорошими зубами. Теперь выясняется - и с неслабым характером.
Тупо сел, ручки до кучки собрал, смотрю. Он положил голову мне на колени и преданно в глазки заглядывает, вновь хвост заработал. Хрень какая-то.... Растопыриваю ладошку медленно подношу к рыжей носопырке. Лижет! Почухал под горлом. Темные губы в складки натягивает, глаза блаженно щурит, смог бы - улыбнулся всей мордой. Почесал пальчиком снизу за ухом - полное блаженство... Только погладить - рык. Странный ты - Дуся. Ну, ладно....
Минут через двадцать, еще жратву не разогрели, прилетают две машины. Ротный саперов и пацаны. Сразу с расспросами, что да как.... Нормально, чуваки, расслабьтесь!
Подходим....
Дуся их увидел - давай скулить, хвостом по брезенту лупит, подняться пытается. Насилу уложили. Те его жалеют, гладят, целуют... Попустило ребят, а то прилетели - суровые такие. Разговорились...
Пса зовут Дик. Дуся - это погремуха такая ласковая, от Федора - хозяина. Он его с гражданки с собой на службу приволок. Сами откуда-то из под Воронежа. До дембеля - полгода, майские. Пацан уже в полку - вчера отправили. Говорят - нормально, кость цела.
Пока говорили, на посадку стала заходить "восьмерка". Это что такое? Оказалось - за Диком. Ничего себе, вот так саперы - лихо службу наладили!
Напоследок спросил про странности в характере пациента. Те ржут.
- Скажи спасибо, что половину пальцев не оттяпал! Никому голову не дает, кроме Феди. И не пытайся, даже не думай, погладить!
Бывает....
Вертушка села. Дика на плащ-палатке подняли, положили на носилки, загрузили, следом пару саперов прыгнуло на борт. "Восьмерка" в три круга поднялась до перевала, присоединилась к своей паре и ушла за скалы.
Давай, Дуся, выздоравливай...
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 23.05.2023, 19:43 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 23.05.2023, 19:44 | Сообщение # 2747 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| ***
Без каких-либо развлечений привели колону. В полк мы не заходили, разгрузку ждали на речке. Пустые машины прогнали тоже успешно и быстро, а в двадцатых числах декабря вернулись окончательно.
Попарились, выдрыхлись от пуза и на следующий день, под вечер, прихватив Болды, пошел я к саперам. Приходим - знакомые морды! Много моих - осенников. Все рады, вовремя пришел - на картофан успеваю и на косячек, по желанию. Желания нет. Спрашиваю, где Федор. А его, оказывается, сразу в Кундуз переправили, от греха подальше. Жаль.... Ну, пошли - Дика проведаем. Снова - облом! У облома есть имя - мрачный прапорщик Трубилин, по прозвищу Труба....
Уникальный военный - персональная легенда саперной роты. Начальник питомника служебных собак, в просторечье - псарня. Редкий отморозок. Кликуха и та - самим Провидением выбрана, вместе с фамилией - под характер. Одна хорошая черта в человеке - собак любит до беспамятства. Он им и ветеринар, и учитель, и кормилец. Но с людями.... мама дорогая!
Дня через два, после прибытия в часть, прапор, знакомства ради, чуть не прикончил молодого бойца - Рыжу. Тот, напортачил со жратвой что-то и уже начал по лоханкам разливать - с пылу, с жару. А у собак, якобы, от горячего нюх пропадает и работать они после такой кормежки уже не смогут. Труба увидел это дело, молча хватает лопату и, как с алебардой - на перевес - за ним. Пацан бросает термос и деру. Говорят чуть-ли не с пол часа с ревом: "Угандошу!", он гонялся за бойцом по всему палаточному городку. Насилу успокоили. Но Рыжа больше на пушечный выстрел не приближался к псарне, а Трубилин без обиняков заявил ротному, что если этот ублюдок когда-нибудь появится возле животных, то он, гвардии прапорщик Советской Армии, не взирая на положения Устава, собственноручно нерадивому выблядку, дословно - глаз на жопу натянет.
В общем строил Труба своих саперов - без дураков. И все равно, решил я попытать удачу. Пошло с нами пару дембелей - уверяли, что с Трубой они - "в золотых".
Подходим.... Сидит прапор в беседке, читает, с понтом. Сам, что грозовая туча, насупился весь, нахохлился, надулся. Он-то сам уже в возрасте, невысокий, темненький и полноватый, не иначе, что-то южное в крови - мордень от бровей до шеи выскоблена и синюшная. Глаза тоже темные, карие, тяжелые. Зыркнул исподлобья, бровищами брежневскими повел недовольно так, но газету не убирает. Я - как пионервожатая, в жопу укушенная: "Здравия желаем, разрешите обратиться, так и так, будьте любезны и великодушны...." Короче - встал на цирлы. Трубилин что-то скупо спросил, мы ответили, после чего дедушки-саперы, не солоно хлебавши, пошли в роту, а мы с прапором - на псарню.
Дик как нас увидел, зашелся бедный. На задние встать не может - и шеей тянется, и лапу тянет, и толчется, и мордой тычет, и скулит, и повизгивает. Но не по щенячьи, лица не теряя - с достоинством, и, видно, пару минут и все - кончился порох. Даже дышать стал тяжело, язык вывалил.
Остальные собаки тем временем тоже завелись - кто хвоста дает, кто, наоборот, лает и на рабицу бросается, гвалт, шум, не перекричишь. По такому случаю выдалась нам всем прогулка за псарней...
Разговорились с куском. Хотя и тяжелый мужик, но действительно - за своих собак кому хочешь во рту поцарапает. Рассказывает про Дика с болью:
- На лапу не встает и не встанет - хана лапе. На груди - тоже непорядок. На днях шишка лопнула, гной пошел. Видать, осколок выходит.
Спрашиваю:
- Так давайте, сейчас Степана позовем, посмотрим, что сделать можно...
Трубилин посмотрел на меня, как на ребенка у которого одна ножка, короче другой и головка - вава, и говорит:
- Через день начмед заходит. Колю сам. У него уже жопки там не осталось от этих уколов, да толку-то что.... Был бы Федор...
- А Федор-то, чем поможет?
- От тоски он болеет, а не от осколков ваших... - и продолжил - а со Степаном, я и сам говорил.... - потом помолчал и, ощутимо напрягшись, сказал:
- Ты, паря, хорошо Дика зашил, молодец. Позатянулось таки все....
Ну вот, а говорили зверюга прапор....
А пацан-то наш, тем временем вытянулся на пожухшей травке и, уложив морду на лапы, блаженно зажмурившись, слушал татарский психоделик в исполнении моего нукера.
***
Так паскудно, как январь 1985 у меня ни один месяц не тянулся. До Нового года ничего особенного не случилось, если не считать двух позорных походов в Бахарак. Первый раз посидели на "точке", да не выйдя за ворота, вернулись. Второй раз прилетели, посидели-подрочили в землянках, вышли в горы, да не дошли... Новый комбат, морпехова замена, не рискнул идти на перевал. Ссыкун.... Вспоминать тошно...
Праздник встретили в карауле - обдолбились, слово "мама" не вымолвишь. Еще раз - чуть позже: рота ушла в горы, а мы, дембеля (в 85 уже не таскали нас) на радостях укурились чистоганом до галюнов. В общем - содержательно время проводили....
Одни мысли - где эта конченая замена. Перевал, естественно, облаками закрыт - вертолеты не летают. Тоска смертная...
К Дику ходил чуть ли не через день. С прапором считай, подружился. Саперы в шоке - как? Сам не знаю.... Мы то с ним только о собаках и говорили. По-моему Трубилин больше вообще ничего и ни о чем не знал, в принципе. И, более того, - знать не хотел. А об этих ущастых-языкастых, все, что хочешь. Собаки тоже, под себя от радости дули, и без слов его понимали - жестов слушались.
Пацана своего лечили все время. Он и не доходил, конечно, но и заметных прорывов тоже не наблюдалось. Грудь все время нагнаивалась, на лапу он не становился, но хоть стал приставлять - уже прогресс. И все время что-то новенькое - то понос, то золотуха.
Единственная радость у псины была, когда письма от Федора приходили. Писал парняга на роту, но отдавали их не распечатывая Трубе. Один раз поприсутствовал. Потрясающее зрелище...
Трубилин чинно дал понюхать Дику письмо. Тот аж припал на пузо и замер. Прапорщик распечатал и медленно, с расстановкой, торжественно зачитал текст. Дуся - превратился в статую. Уши вытянуты вверх и дрожат. Просто - фантастика... Текст - никакой, типа: "Привет пацаны, все нормально, со дня на день возвращаюсь; все задолбало, врачи - уроды, еда - говно, сестры - курвы. Как Дик? Как собаки? Как вы все? Жму лапу. Федя". Конец....
Потом прапорщик положил распечатанное письмо перед собакой. Дуся поднялся, не касаясь бумаги, несколько раз шумно, до отказа, втянул в себя воздух. И замер... Потом опять - всем телом потянул. Создалось впечатление, что он хочет, буквально, - впитать в себя родной запах до последнего атома.... Потом развернулся, допрыгал в свой угол, лег на лежак, вытянул морду и закрыл глаза. Могу поклясться на Библии, что я отчетливо видел слезы, стоявшие в собачьих глазах.
Хотел подойти, но прапор не дал. Я уже тогда, как его псы, на жесты реагировал. Трубилин поднял лист, сложил и легонько подталкивая меня в спину, вышел из псарни.
Я спросил:
- Товарищ прапорщик! Так он же еще сильнее тоскует.
На что мрачный и нелюдимый кусок веско ответил:
- Да. Тоскует. Это его и держит.... Так-то, вот... Пока, военный, не пропадай!
Ну, вот, говорю же - подружились...
***
Под конец января установилась сухая, солнечная погода. В одно утро, уже после подъема, когда рота была на зарядке, просыпаюсь от дикой тряски. То Зуб, с горящими глазами, ухватившись за дужку койки подбрасывает меня как ляльку.
- Лытять, братусю! Лытять!
Сел на кровати. С перевала отчетливо доносился вертолетный гул. В одних подштанниках вылетаем на улицу. Вся передняя линейка перед плацем белым прибита - усеяна бойцами в исподнем. Рио-де-Жанейро, бля! Браты-осенники дождались... Ор, вопли, объятия. Случилось, твою мать! С перевала тяжело прет кавалькада из шести "коров". МИ-шестые, родные, как мы вас любим! Пошли одеваться, смотреть на замену.
Молодых поселили в двух палатках карантина. Все дембеля тут же заделались дисциплинированными девственницами. Кто пойдет в первых партиях - понятно, но вот по залету можно и март встретить - легко.
Сидим в этот же день напротив курилки. Замполит роты Саша Московченко ведет занятия. Услышал бы начпо, как он их вел - инфаркт бы на месте схлопотал.
Саше эти политзанятия, впрочем, как и сама армия, до сраки. Давно уже на службу положил. Сейчас - прикалывается. Вытянул молодого чмыря и куражится над ним. А чадушко - имени уже и не помню - ни в зуб ногой. Как он учился, где, что его родители с ним делали? Просто - ни бэ, ни мэ - баран бараном. Старлей уже и не спрашивает ничего серьезного, так - издевается.
Тут подходит какой-то боец. Что-то говорит дневальному. Смотрю. Да это же Федор! Ну наконец-то...
Я к Московченко. Да, без проблем - иди! Подхожу к пацану.
- Привет, братишка! Как ты?
- Нормально....
- Когда прилетел?
- Утром.
- Как нога?
- Нормально... Пошли.
- Пошли!
Очень разговорчивый малый....
Я, вообще-то, до колоны его и не знал толком. И не здоровались до ранения. Не будь Дика и дальше бы не знался. Но, понятно, традиции - святое дело. По правилам я теперь его крестный, спаситель.
Никогда этих приколов не понимал и не принимал. Ни тогда, ни сейчас. Ну, выволокли тебя из-под огня, вкололи промедол, жгут, бинты, все такое.... Что тут героического? Ничего военного - у каждого свое дело....
Но нет: "Ты меня вытащил! Я жизнью тебе обязан!" - херня это все, пьяные сопли на красной скатерти. Прощаю! свободен...
Это сейчас, а тогда....
Идем важно, неторопливо. Цвет армии. Думаю - сейчас отобедаю, хорошо...
***
Вышли к псарне, подходим....
И тут - встал я, умом вырубился....
На плащ-палатке, у самых ворот, лежит Дик.... Мертвый Дик.... Нельзя ошибиться.... Сжалась гулкая пустота в груди и стало очень больно, как холодом сдавило. Какая-то волна несколько раз по телу зябко прошла... Плохо мне, по-настоящему плохо...
Рядом понуро стоит Трубилин, куда вся круть делась. Возле - пару дедов и моих - осенников. Молчат....
- Ну, что - пойдем?
Меня, оказывается, все ждали. Взял себя в руки, говорю Феде:
- Дай молодого, пацанов позвать надо.
Федор сказал: "Рыжа...". Достал сигарету, отошел в сторону. Малой умчался в четвертую роту. Я подошел к Трубилину.
Как-то все непонятно получилось. Неожиданно...
Федор прилетел утром вместе с заменой. Сразу пошел в роту, нашел Трубу и - на псарню. Прапорщик говорит, что Дик с утра был сам не свой, беспокоился, явно чувствовал, что Федор где-то рядом уже.
Когда они подходили, Дик учуял - начал выть в голос. Его выпустили и они тут минут пять зажимались. Прямо здесь, где он сейчас лежит.
Трубилин говорит, что пес не просто визжал, он плакал, орал в голос, как человек. Даже попытался изобразить звук издаваемый собакой: "А-а-а! А-а-а!"
Федя сидел на земле. Дик начал понемногу успокаиваться. Лег грудью ему на колени, положил голову на руки и... затих.
То, что он умер они и заметили не сразу. Ну, понятно - тормошить, массировать, даже что-то кололи еще....
Все, отмучался.... Дождался.... Увидел живого, попрощался и ушел...
Мрачный прапорщик стоял передо мной, сопляком, и не утирая глаз плакал. Сильный, суровый, настоящий мужик... такой беззащитный и беспомощный. Он столько сделал! Так много... И вот оно - все, конец... Ничего ты, дядя, больше не сможешь сотворить, хоть себя заруби. Принимай это и живи - как можешь...
Пришел один Ургалиев.
Подняли плащ-палатку, понесли...
Шли долго, почти к самой бане. Там на холме, метрах в тридцати от танка боевого охранения, солдаты уже выкопали могилу.
С холма открывался лучший вид, который только можно найти в нашем полку. Под холмом Кокча делала крутой изгиб и там начиналась серьезная быстрина. Напротив вода подмыла скалы и открывались гроты. Под ними шли не вымерзающие за зиму камыши. Вдали нависали, зимой и летом искрящиеся белизной, шапки Гиндукуша. А правее, в камышовой дали, светился своими ледниками грузный Памир.
С противоположной стороны вздымался на пол неба перевал, куда весной улетит твой Федор. На роду у тебя, родной, видимо ждать написано. Вот он - превал перед тобой - вечность ожидания впереди...
Федор держался хорошо. Встал на колени, сказал: "Прощай, Дик..." - поцеловал в глаза и встал в стороне. Большие круглые слезинки, словно бусы, катились по щекам, губам, висели на ресницах и носу. Он не шевелился. Стоял, смотрел на собаку и беззвучно плакал.
Больше никто не подходил...
Подошел я. Опустился рядом и впервые в жизни положил свою ладонь на широкое темя.... Прощай Дуся, прощай друг.... лучший из друзей...
Трубилин вытащил из-за пазухи бушлата Стечкина. Дал три раза в воздух....
Темир монотонно тянул любимую Дусину песнь...
Он-то всегда пел ему одну и ту же.... Это когда только до печенок проймет, выкрутит изнутри, согнет, сожмет до боли в груди, вот только тогда начинаешь по сторонам смотреть, да других замечать, да внимание обращать - что они делают, говорят, что поют...
***
Ранней осенью 1994 г . приехал я в Воронеж. Остановился на квартире у большого русского писателя Ивана Ивановича Евсеенко. Дружная семья. Литература, музыка. Полный дом кошек....
Меж делами ходил по музеям. Там они - не в пример нашим, Луганским.
Топаю раз себе по центру назад - на Ново-Московскую улицу. Вдруг, слышу сзади: "Глебыч!" Поворачиваюсь...
Летит ко мне нечто бритое, в кирпично-сиреневой двубортке. Черный гольфик, такие же штаники, туфельки лаковые, модные. Весь лоском сияет, шиком. Огненным ежиком и золотыми перстнями-цепурами весь горит. Руки вразлетку, губы чуть-ли не трубочкой вытянуты. Вот - меня в этой жизни только бандюки еще не целовали.
Боковым примечаю еще парочку таких же толстолобиков, поодаль, возле припаркованной прямо на тротуаре тонированно-хромированной бэмки.
Подскакивает. Я останавливаю братка протянутой рукой и лучезарной улыбкой: "Привет!".
- Привет!
Как-то поник весь... жмет руку, а в глаза испытующе заглядывает. Чей-то его не обнимают, в щечку не чмокают... А я его не знаю! Не видел ни разу в жизни, и все тут!
- Ты как, Глебыч?! Какими судьбами к нам? Где остановился? Как ты - вообще?
Ничего не понимаю... Он определенно меня знает. Начинаю что-то буровить, по контексту вычислять.
Через пару минут клоунады я где-то обмолвился и чувак понял, что его - не помнят. Обида в глазах промелькнула.
- Ты че, братела, не признал? Я же Леха! С саперной... Рыжа! Помнишь?
А-а-а! Ну, иди сюда - дай потискаю, кости тебе поломаю, братишка! Прости, родной, совсем башня контуженная набекрень съехала!
Крепко обнялись, начали по новой - что, где, как? Я не сдержался:
- Что, дружище, в движение подался? - И за полу пиджачишки выразительно подергал.
Он смутился.... Началось: "Понимаешь... каждый ищет... жизнь сейчас..." Понимаю. Не надо оправдываться.
Ладно, поехали...
Да, давай!
Сели в БМВ. Мы с Лехой молчали. Братва, гордясь собой, гуняво терла впереди, обильно пересыпая тупой базар своим гуммозным новоязом. Ехали долго. Водила - лихач, но ездит безграмотно. Машину и вовсе не жалеет: то придавит на гашетку под пять тысяч оборотов, то тормозит - что дурной. Передачами дерг-дерг, дерг-дерг.... и так все время! И ведет себя по-хамски: сигналит беспрестанно, из полосы в полосу шорхается; один он на дороге - все ему мешают. Удивить, наверное хочет. Да видели уже, насмотрелись на вас, отморозков.
Приехали. Я Воронежа вообще не знаю. Какие-то спальные районы, многоэтажки вокруг сплошным строем стоят. Унифицированное уродство совдепии, навязанное древнему, красивому городу. Под машинку всех. Города, как рядовые.
Братва стала меж собой прощаться. Культово приобнялись, соприкасаясь щеками и остриженными кеглями. Никак у зверьков переняли моду - так только мандариновые носороги чоломкуются.
Леха, явно смущаясь спутников, подошел ко мне. Триста двадцать пятая завизжав палеными покрышками, черной тенью метнулась к светофору и тут же, не успев на зеленый, вновь сжигая резину, взвыла тормозами. Отдача качнула в обратку и машина, тяжко присев на задние амортизаторы, встала как вкопанная. Хорошая тачка, наездник - дерьмо. Я просиял, кончил полтора раза, и не скрывая сарказма посмотрел на Рыжу. Тот вообще потерялся, бедный:
- Ну, что тут сделаешь - такие пацаны!
Да ну, ясно... какие проблемы?!
Зашли в кабачок неподалеку. Явно для своих. Спутника моего знают, уважают. Уселись в углу. Долго пили, вкусно ели, дошли до темы: "А помнишь..." И тут он говорит.
- А... Федор. Так - земеля же... Знаю...
И рассказал... лучше бы молчал!
***
Чудить Федор начал еще в полку. Со своими залетами дембельнулся уже под лето. По возращении - запил. Предки у него, по словам Лехи, неслабые. Как-то угомонили. Поступил. Женился. Когда вернулся Рыжа, его бывший сослуживец и зема опять захолостел. Но ребятенка они заделать успели. Так - побыстрячку...
Жена взяла академ и, не разводясь, рванула, вместе с сыном, от него подальше, назад, в деревеньку под Воронежем.
Пацан вновь заквасил по черному, бросил институт. Родители ничего поделать с ним уже не могли. Леха видел его достаточно часто. Говорит - просто завал! Вокруг него вечно отирались какие-то конченые рожи, какие-то немытые, вечно угашенные телки, после и вовсе - алкаши. Парень стремительно опускался в бомжатник. Рыжа утверждает, что он пропил, буквально - за банку чемера, свою "Красную Звезду".
В начале девяностых Федор по пьяной лавочке надумал проведать сына. Принял на грудь, взял пол-литра и поехал на пригородном в деревню жены. С залитых глаз вылез не там и, согреваясь с горла, пошел по пашням. Не дошел....
Взошел из под снега уже весной... Похоронили без помпы. Все...
Я не верил услышанному. Леха сказал:
- На Никольском лежит. Батя ему такой памятник отгрохал....
- Поехали!
- Куда, сейчас, Глебыч... Расслабься...
Угу! Где так расслаблялись. Забыл службу, душара бритоголовая, щассс - напомню!
Через пять минут уже тряслись в старой жиге, с шашечками на крыше.
***
Какое оно большое это Никольское кладбище. Пока дошли...
Вижу вдруг - смотрит на меня с черного мрамора Федор. Непривычный такой, в фуражке, в парадке - раз в жизни одевали. Такой молодой, просто - зелень. Видно фотографию художнику дали - с учебки. Ну да - одна лычка на погоне, а он при мне уже - старшим был.
Слава тебе, Господи - не пошел со мной Рыжа дальше. Показал рукой издали на памятник, да двинул кого-то своих искать.
Правильно, я же не видел Федора после.... Так и остался он в моей памяти тем несчастным пацаном - на танковом холме.
Крутые предки, говоришь.... Родители.... Мать. Отец.... Простите и Леху, и меня, дурака, за слова, за мысли эти непотребные. Мудрые вы - увидели все, в самую бездну души заглянули, саму суть беды прочувствовали... все поняли, все простили...
Скрутило спазмом рожу, дулей глаза свело ....
Мягкий я стал, сорвало уже с меня толстокожесть, корку армейской огрубелости, зверство военное - не тот уже, танцор с пулеметом, да тихушник с эсвэдэхой. Видеть начал - глаза жестокостью залитые, слезой прочистились, прозрели... Твоя рука, Боже.... Твой Промысел.... Не спроста делаю это - сюда пришел.... Вас встретил.... Чудо твое, Православное, случилось. Спасибо тебе, Господи....
На нижней плите, вытянувшись во весь рост лежит Дуся.
Мельчайшие детали, даже отдельные волосинки были воссозданы с удивительной точностью. Мастер рисовал, мрамор чеканил.
Это был он - Дуська. Без всяких сомнений. Метис овчаристый....
Красивый, сильный, здоровый. Мощную морду на вытянутые лапы уложил, уши внимательные навострил, глаза - в сердце смотрят.
Не Темирка я, не знаю я татарского, да и петь не умею.... И не нужна теперь, братишка, тебе эта песня. Вон он - твой Федя, рядом, над тобой возвышается. Красивый, ладный, не заплаканный... Дождался ты, поди....
Вот и встретились, наконец. Разом, теперь.... Ни Трубилин, ни Степан, ни Гиндукуш с Памиром, ни водяра - никто вас не растащит, не разлучит, не разведет по разным берегам одной речки. Вместе, теперь.... Рядышком....
Вот и славно....
Вот и хорошо...
Упокоились оба, отмаялись....
Спите, пацаны....
Все хорошо...
Отбой, братишки....
Славно все....
Луганск, Май 2004 г . Глеб БОБРОВ
_____________________________
145054
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 23.05.2023, 19:45 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 26.05.2023, 14:20 | Сообщение # 2748 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Моя бабушка курит трубку(с)
Молодые люди!
Вас ждет очень веселая старость. Представьте, сколько будет вокруг вас старушек с татуировками на теле. В самых неожиданных местах!
***
Весной рождается Россия, вокруг
Вдруг солнце плавит снежный Ад,
Когда и небо, сумерки в России синие,
И мёрзнет не лицо, а зад,
Тогда поймёшь ты смысл творения:
Россия создана как повод
Для написания стихотворения,
Как смысловой и прочий омут,
Где тонут смыслы и года,
Где в этом омуте бессильном
Гуляют щуки и всегда
Они зубасты, водевильны…
***
Когда лягнёт тебя природа,
Ты вспомнишь Бога? Никогда!
Горит, ярится видимо твоя природа,
Ведь вы же выгнаны из Рая, господа!
***
Жизнь православного проста:
Быть зачатым не во время поста,
Родиться, при рождении не умереть,
Жить далее и грудью маминой
Желудок греть, жить далее,
Взрослея с каждым годом,
Не умереть от скарлатины,
Жить со своим народом,
Выпасать скотину, помогать
Родителям и исполнять
Желания Богов, стать в срок
Подростком, юношею,
Женихом, родителем,
Платить же во время оброк
Хозяевам - владетелям,
И воспитать детей, и сеять рожь,
Похоронить родителей, поплакать,
Что ж. женить детей, их отделить,
И выбелить конечно хату,
Рядно стелить и старым быть
И умереть конечно надо...
Вопрос: зачем нам смертным быть?
В чём жизни некая услада?
В том, что мы можем просто жить?
И не тужить? Оно нам надо?
***
Дорога - это чорная пустыня,
Она полна и пустотой, и злом,
Горяча летом, а зимою стыла,
Она нас караулит в ночь и днём,
И протяжённостью от Бреста к Абакану,
Стремлением навеять нам ненужный сон,
Дорога провоцирует к стакану,
И несомненно, будет выпит он...
А ангелы поют так зло и лихо,
Куда поэту с ним, родным тягаться,
Они нас уговаривают тихо,
А иногда кричат - вдруг испугаешься?
И либо каяться иль воспарить?
В Израиле мне возродиться жить?
Или продолжить в тёмною России,
Пить спирт и ждать приход мессии...
***
И нет ни воли, ни спасения,
И ни спасения, ни воли,
Идёт в неволе день осенний,
И воскресение, не более
Чем в пыльной папке фотография,
Мол, посмотри - был молод я,
И времени есть эпитафия:
Ад - это Родина моя!
***
Я буду девочкой, или я буду богом на горе,
Или сгорающем во тьме пилотом,
А может быть, я буду в пустыре, в пустыне,
Пытаться там понять смысл жизни моего народа.
***
ХРИСТИАНСТВО
И бедному обещана награда,
И если умереть сегодня надо,
То обещали воскрешение, вопрос
С тем, что без денег разрешил Христос,
Богатому позволена услада,
И если умереть сегодня надо,
То спросят: а делился ли ты, брат?
Да, с нищебродами? Нет? Ну и иди в свой АД....
***
А что есть истина? Конечно Бог?
Да, вот это сильно и красиво,
Христос ведь переспорить мог
Античную, холодную скотину,
Поскольку Бог сильнее естества,
И логики конечно Бог сильнее,
Абсурдно? Это не для слабого ума,
И не для слабой веры старого злодея...
***
А лодка (в ней молодка) так утла!
И не шагать, да и не плавать тоже!
Так тяжело с утра в России всем
На менеджера непохожим,
Что хочется прямого зла:
Конечно коммунизма!
Это может быть поможет..
***
Стихи - непопулярное чтиво, стихи
Слишком тоскливы, а людям,
Сидящим по вечерам онлайн,
Хочется всё олрайт?
И вот нету магии, больше нет ведьмы,
И нет колдуна, нет же и дикарей,
Способных поверить в простые столетия,
В отсутствие в чаще хищных зверей,
А впрочем, можно объяснить всё проще:
Стихи не читают, они не формат
Сети, а жизнь - это сеть, проявление мощи,
И можно прославиться выходя в сад...
В колодце сём топятся все и желают
Не книжки читать, а видеть цветное,
Ища невозможное тихо ступают
По аду цветному, закрытому сном.
***
Я – ложный гений, могу лишь лже стихи,
Но в этом мире не людей, растений,
Я будто среди леса тёмного снегирь,
Поющий может быть не соловьём,
Не это дано мне, я в мелодиях простак,
Но если истина раздета,
Но если истина – в пятак?
Возможно, стоит петь и так?
***
КАК ПИШУТСЯ СТИХИ?
Вещаются очки на зеркало (это важно!)
Включается компьютер с левой руки, что
Тоже важно, и строки начинают идти из
Глубины мозга и хочется выпороть себя
За непотребность мозга розгами,
Да где ж ныне достанешь розг? Поэтому
Приходится продолжить, писать о том,
Что я рождён не играть, а записывать ноты,
И мой друг интернет ждёт – а больше друзей
Нету, поэтому нужно опять
Утилизировать мозг поэту, потому что
Писать – это портить мысли, а вообще
Нужно понять, что сочинять - это
Вредно для жизни, но не сочинять ведь
Совсем невозможно, вот и пишу я опять…
Как отдаю долг своей милой отчизне,
Прямо в её милую рожу.
***
Из света в тьму перелетая, страдая, наяву страдая,
Но про молву не забывая, совсем молвы не забывая,
Летела ласточка-душа, а тело, толсто и дебело,
Лежало это тело белое и не понять зачем лежало,
В него уже вонзилось жало
То тело ныло и дрожало, и не хотело уйти в дело,
Да вот пока оно лежало, стонало, плакало, желало
Жить снова это бело тело, а рядом ласточка летала,
Жалея тело постепенно тело это забывала…
***
Крайняя редакция
Желание писать стихи приходит странно,
Вот так, тебе и спать пора, ты пьяный,
И на диване кошка тёплая тебя уж ждёт давно,
И выпито вино....
Но, что-то хочется сказать, когда в окне темно
И зимний город за стеклом, и спит мой дом,
И в тишине приходит мне строка,
Она наверное не очень: я не умею сочинять стихи,
Я поэтический чернорабочий,
Я заготовка для ухи,
Та мелкая рыбёшка, кою варят для навара,
А поэтическая свара требует же благородных рыб,
Я не умею, я погиб когда стал, к своему стыду
Писать стихи, соединил я провода, которые ведут
Из головы туда, где гении живут...
***
Чего должно случится. что истечь,
Чтобы была обычна наша речь?
Чтобы пишА на русском твёрдо знал:
На настоящем языке ты бардом стал
И как принять шипящие-хрипящие?
Они, совсем для всех не настоящие?
Язык не отделим от бытия,
Поэтому прошу, стань Русь такой, как вижу я
А вижу я усталую страну, где всё привычно
Всё не в новизну, где пишут строки лишь
БухгалтерА, где всё обычно, и никто
Не пьян с утра.
***
Сплетая жизнь из струйки праха,
Нить создавая из небытия,
Я вещи мира создаю из запаха,
Я чую - это жизнь моя,
Она мне пахнет каждым светом,
И запахи даются Богом,
Все говорят, что мир творят поэты,
Не верю - звуки так убоги,
Лишь обоняние наверно
Представить мир способно верно,
И резкий запах бытия
Даёт уверенность. что я
Живу и чувствую жизнь носом,
Что жизнь моя - не бред философа,
И запах пыли и носок
Мне гирей бьёт в седой висок.
***
МЕХМАТ
Да, Университет, Мехмат, Фламенко
Фоменко - лишь преподаватель, а не дед,
Лирические коннотации момента
Когда в момент вдруг попадает свет
И свет рассветный, свет так ненавязчив,
И так в него хотелось юношам попасть,
Что становилась математика привязчива,
И девушки не нужны, твою мать....
Не, это не кастрация ребёнка,
А просто констатация момента,
Что если есть немножечко силёнок,
То почему бы нет? Ведь мир так тонок....
Возможно его грань слегка прорвать,
Ворваться, в его такую тоненькую истину,
Я так скажу, что математика вам мать,
Как будто ставить в преферансе всё на мизере
И выиграть, Иль проиграть...
***
Первая любовь
Нет в междометиях любви понятий,
И обмороков в общем нет,
Ты просто вдруг становишься занятней,
И вдруг увидишь в этом лике свет,
И ночью, уходя на дело,
Ложась как странник, в люки маяты,
Ты понимаешь - ты судьбы избранник,
Ведь полюбил её не кто-нибудь, а ты!
И от судьбы уйти - мой друг, не дело,
И нету праведных молитв от сути той,
Ведь кто любил, тот возжелал не тело,
А что хотел? не знаю, странник мой,
А приворотных зелий - ныне тыща,
Давай, вали, коли и нюхай ой,
Но всё равно, любви ты не разыщешь,
Вдувая в вены тот зелёный гной!
И сердце на ветру трепещет ссохшись,
И мама плачет тоже на ветру,
И ты, от той любви сегодня сдохший,
Всё вспоминаешь девочку-мечту..
***
Кровавый год дышал угрозой,
Морозы резали прохожих,
Из переулков в непохожих
Смотрел в глаза безумный март,
Кометы пробовали старт
Над городами государства,
Вставала царство, устав от царства,
В ушах звенел хрипящий бард,
И где-то в белизне метели
На город сумерки летели,
И чувство скорого конца
Морщинило оскал лица,
Столица ждала храбреца,
И вымерзала в минус тридцать,
И Бог, отлитый из свинца,
Вбивал нас в землю.
***
Люблю Россию, и весну, Москву
Я тоже очень видимо люблю,
Люблю и синеву небес, и трассы
Самолётов-бесов
Которые летят, чуть пачкая
ту синеву по своим бесполезным
Трассам, везя повес по их
Наверно внутренним и личным
Трансам. А я взирая в синеву небес,
Гуляю тут моих собак, я ожидаю
тебя , бес, я безоружный,
Просто так
Не бойся, я тебя лишь жду,
Той точки. где начнётся пламя,
Я смерти не боюсь, но без
Собак я не хочу Рай спамить.
***
Жизнь повторяет образы и знаки,
Ну вот сейчас хохлы при пиндосах казаки,
А помню я, хотели этой роли мы,
Да, станешь всяким под очарованием тьмы...
Не дьявол силен, а сильно желание
Прибиться и к чужому берегу, и славе,
И утопить в говне, тех, без названия,
Которые роднее нам по маме.
***
Крымская весна
У нас рождалась новая молва,
А Крым входил в состав России,
На Украине же болела голова
У тех, кто с ноября опился синькой,
И так была красива новая весна,
Что мы. народ России, порешили,
Х(рен) с этими причудливыми снами,
Пора быть сильными!
А после ждали нас невзгоды,
И нефть по стоимости грязи,
Однако единение народа
Важнее пидорасов неприязни!
***
Мы - реальные волки,
Мы родились в холодном,
Не ласковом мире,
И мы знаем все толки,
И мы знаем, что значит четыре,
И мы знаем, что значит
Идти по тайге, и выслеживать
Мясо в пурге, и во снеге,
Мы холодные волки,
И нашей судьбе
Не страшны ни угрозы,
Ни боль, и не стыли.
Мы не ищем то мясо себе,
Мы пытаемся мясо добыть
Для потомков, мы не носим
Свои шерстяные и скорбные
Рясы, ну не любим мы
кривотолков,
И прочей людской блядской
Пыли.
***
Мы будем идти по раскисшей дороге,
И лапти мочить, и холодное в ноги,
Но надо идти - это дело России,
Не остановиться, уйти от других
Зачем мы идём? это знают лишь Боги,
Мы видимо место для Богов убогих,
Но надо идти, после будем молиться,
Сначала сражаться, потом похмелиться!
***
Я рядовой, служу не за чины,
А за оплату скромную комментов,
Служу за честь! Америке верны
Все эмигранты и интеллигенты!
***
За окном продолжается мирная жизнь,
За экраном - война,
За окном едущая на дачи Отчизна,
За экраном - война,
За окном вечер, кошки охотятся на,
За экраном - война,
За окном едут тысячи мыслей,
За экраном - война.
***
Мой друг умирает, это же долго,
Ведь к смерти надо идти сквозь
Лютую боль, он страдает и лежит ровно,
Смотря на небо, и сжимая в кулак свою волю...
Мой друг умирает, а мне не помочь ему в этом,
Поскольку я сам х*ёплёт и поэт,
Мне хочется воли ему дать и света,
Но воли и света для друга наверное нет,
Мой друг умирает, и я бы хотел умереть,
Лечь на прожжённый матрас и уйти из сознания,
Мне жалко его, и помочь силы нет,
Такое х(реновое) вот состояние..
***
Старая сказка про серого волка,
Девушка, что умерла от иголки,
Мёртвые воды и воды живые,
Сказка такая, рассказ о России
Старые люди и новые люди,
Бабкины сказки и мамкины груди,
Все поколения малость чудные,
Старая сказка, рассказ о России
Белые снеги и тайные змейки,
Ловится в речке рыбка-уклейка,
Бродят по лесу мишки шальные,
Сказка как сказка, она о России
Змей трёхголовый, набеги поганых,
Мёртвые воды нам вылечат раны,
Бабушки русские вечно живые,
Бабушки сказывают о России
Только приходит нерусское время,
И старики стали лишним вам бременем,
Бабушки в хосписе полуживые,
Сказки закончились, ну а Россия?
***
А у нас, как и в сорок втором,
Всё бои под Купянском,
Всё тяжёлые битвы тех лет,
Это видимо всё же то же бой с панами?
Мрак в ночи, ну когда же рассвет?
***
Чтение стихов публично
Пьянит как вино, и лично,
И духом винным с чтения
Шибает и через окно,
Поэт - это тот, кто публично
Согласен снять трусы,
И рассказать о личном,
О том, что иные таят в душе,
О том, что мы истину ищем,
И не находим во ще,
И умираем, отлично
Понимая, что истины нет вообще...
Что же, мы живём по ошибке?
Потому что Бог создал Землю
В зелёной зоне планет?
Нет, мы живём отлично,
Понимая, что смысла жизни
Мы не найдём ни в этом мире,
Ни в следующем его наверное
Нет.
Это я написал прямо сейчас.
mitrichu https://mitrichu.livejournal.com/
________________________________
145149
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 26.05.2023, 14:35 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 27.05.2023, 21:41 | Сообщение # 2749 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ДИКСОН
I
Одиноко. Скучно. Сиро.
Стихнул даже лай собак.
Солнце чистое Таймыра
Погружается во мрак
Даже чайки онемели.
Нерпы нежные в слезах.
Все буксиры проржавели,
Закаленные в штормах.
Ясноглазые, ослепли
Поселковые дома.
В нами возведенном склепе
Дремлет горе от ума.
Лишь новейших дней подранки,
На бордюре вставши в ряд,
На заре пивные банки
Вызывающе блестят...
III
Вид из окна гостиницы порта Диксон на причал
Как разрушается страна
Почти ежеминутно,
Мне видно мрачно из окна
Гостиницы безлюдной.
Пришла великая беда
Исчезновенья дела.
И даже Карская вода,
Похоже, обмелела.
Жизнь на мели нехороша,
Бездарна, несвободна,
Но у полярников душа
Пока что судоходна.
А ведь над бухтой вечера
По–прежнему атласны!
Но только разве лишь вчера
Могла быть жизнь прекрасной?
Помянем прошлую страну
И всё начнем сначала.
Но краны воют на луну
У сонного причала...
IV
Выйду я на берег моря.
Море Карское, привет!
Выпью я не то, чтоб с горя,
Просто радости здесь нет.
А ведь есть ещё силенки,
Хоть морочит край земли.
Выпью горестно “паленки” —
Даже спирт здесь извели.
V
Всё тут выродилось, что ли,
На арктической земле?
Вдаль ушло с последней болью
На последнем корабле?
По квартирам, как по норам,
Затаился здешний люд,
Словно ждет он приговора.
Где сейчас его не ждут?
Боль сильнее год от года,
Год от года жиже власть.
Нет породы у народа –
Неужели извелась?
Вдруг я вижу на крылечке
Лайку, как благую весть:
Раз у лайки хвост колечком,
Знать, порода ещё есть.
VI
Для отъезда не нужно большой подготовки,
Но полярники знают об этом не хуже других,
Не спешат улетать из привычной зимовки,
Не хотят уезжать от могил дорогих.
Что их держит на этой земле неуютной?
Немудреная жизнь без вранья и нытья?
А, быть может, одна — из всей жизни — минута,
Что открыла на Севере смысл бытия?
Может, знают об этом полярные маки –
Обитатели здешних неласковых мест?
И, конечно, великие звери — собаки,
Им уж точно не светит отсюда отъезд...
VII
Циклон
На Диксоне, как стон,
Прогноз Гидрометцентра:
“Идет циклон. Идет циклон
Со страшной силой ветра”.
Аэропорт уже примолк.
Суда заякорились.
Запрятался полярный волк.
Куда–то чайки скрылись.
К циклонам в снежной стороне
Привыкли даже волки.
Но не дает покоя мне
В арктическом поселке
Гонца трагического клон,
Орущий телеящик:
“На всю страну идет циклон!”
Но ей не слышно, спящей...
VIII
Три дня продлился бархатный сезон,
А завтра начинается наждачный,
Когда дожди тягучие заплачут,
Потом пурга покажет свой резон.
Укроет черный камень белый плат
Снегов, с первопаденья долговечных.
Наступит время тихих ран сердечных,
В которых кто–то третий виноват...
Сентябрь 2005 года, Диксон. Валерий Кравец.
______________________________________
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
1.
Северные города — это всегда что-то монастырское.
Сначала вы попадаете в аэропорт. С трапа встречает Михаил Анатолич и пара пьяных грузчиков на «соболе»: Леха, Палыч и дурацкий дед. На «соболе» они забирают сумки; людей, немного испуганных, закидывают в ураловскую «вахтовку», где сидит местный Серега. В памяти Серега никак не отложился, потому что парень он без причуды.
Вахтовка едет ровно две минуты по рваной бетонной дороге и довозит до металлической будки. Это и есть аэропорт — несколько белых судоходных контейнеров слепили в два ряда и перекрыли единой крышей так, что между рядами есть небольшое пространство, где по бокам раскиданы стулья из актового зала, а вместо пола — угольный шлак.
У нас проверили паспорт, спросили цель визита, удостоверились, что мы не везем с собой ничего запрещенного и отпустили с миром. И мы отправились по безлюдной части Диксона до причала.
Диксон разделен на две части — остров и материк, на острове есть аэропорт, на материке все, кроме аэропорта, – магазины, котельная и даже АХО. Когда-то город был на острове и не нуждался ни в чем. Потом переселили на материк — зачем? Все по той же причине: если они есть тут, то почему бы им не быть и там.
Сидим мы в вахтовке, смотрим в стекло, там проплывает экзистенциальный ужас. Это нельзя передать словами. Не существует еще такое прилагательное, которое бы выражало полное отсутствие смысла, беспросветную, бесконечно дурацкую яму, где почему-то захотели жить люди. Вот есть ничего, пространство без цвета запаха, конца и начала — это здесь.
Мы садимся на паром. Паром ходит два раза в сутки, в остальное время моряк и капитан рыбачат.
Приплываем на континентальный Диксон, и первое, что бросается в глаза – стеклянное здание, похожее на торговый центр. Сверху – часы, а над ними — надпись «ВОСТОКУГОЛЬ».
Ну да.
Я вспоминаю разговоры, которые услышал в самолёте, о Босове — был такой мужик с умными глазами, огромным карманом и видимо железной волей. Вывез он две баржи угля, продал непонятно кому, за это его и контору «ВОСТОКУГОЛЬ» прижали, и решил он выстрелить в себя. Часы на этой стекляшке остановились в этот день.
Красиво.
Внутри стекляшки обычный одноразовый хрущ-пятиэтажка.
Удивительно — новый, конфетный способ строительства.
2.
Нас расселяет женщина в жилетке и сланцах — Наталья Александровна.
— Вот прошлые волонтеры были, мы от них не в восторге, конечно, остались, — говорит.
— Чо натворили, если не тайна, — интересуюсь.
— Чеченцы приехали из какого-то областного вуза, водку пили, ветки с места на место перекидывали. Потом подожгли здание.
— Потушили?
И тут мы проходим мимо пожарной части. Красный дом, облупленный хуже яйца вареного, чуть влево съехал, и ворота открыты, а оттуда — ржавая рожа пожарной машины.
— Не потушили. Посмотрели, поплакали и разошлись, — говорит Наталья Александровна.
***
Идем мимо местного АХО. Корявый бурят, бесколёсная волга и несколько поломанных болгарок. Расселяют нас в типовые двушки на пятерых. Кухня маленькая. Из окна видно море, танк, туман и несколько мертвых барж.
Танком, наверное, это нельзя назвать — это ТМ. Такая особого рода техника, скелеты которой разбросаны по всей территории ПГТ.
Все здесь памятник бессмысленности величия. Былого величия — звучит как-то претенциозно, просто величия. Есть ощущение, что оно не закончилось. Люди же оставляют города, Аркаим какой-нибудь, почему бы им не оставить и это.
***
Мы заселились, и Ванечка пошел искать библиотеку. Я бросил сумки и пошел курить.
Ванечку притащила мама: «Ванечка гениальный переводчик, но красить он не будет — аллергия».
— Привет, — говорю я Ванечке – Илья. Будем знакомы. Могу на ты?
— Вы как хотите, а я буду на «вы».
Ладно, думаю. Сальные волосы, усы, мать, белокурая, бешенная. Тридцать лет человеку. Имеет право быть каким угодно — никто слова не скажет.
Прости господи, меня грешного.
***
Вышел курить. Стою, майор какой-то, а рожи у вертухаев везде одинаковые.
Подъезды огромные и жутко высокие, на этажах стоят части от пианино, телека; кастрюли, череп какой-то коровы.
Думаешь так, вот жизнь. Она закончилась. Казалось бы, такой эсхатологический вид должен вызывать глубокую эмоцию, но вызывает только в первые несколько секунд радость, что не ты тут лежишь.
Народу немного, человек пятьсот от силы. То ли героические покорители Севера, то ли обычные среднестатистические неудачники.
***
— Бурака надо найти, – подходит ко мне Саид. Саид — это наш старший.
— Ты получал в разнарядке номера всех местных?
— Там Бурака нет.
Бурак — это местный глава. Бывший палкан. До него был некий Клаус. Старый вороватый дед, но с причудой — по полярным ночам надевать шлем и бродить по городу в поиске несчастных пропавших, попавших в сугробы стариков, детей, малочисленных женщин и возможно чего-то более полезного.
Ну, пошли искать…
Мы находились в совершенной фрустрации после двух перелетов, хотелось есть и немного спать. Даже минимальный фронт работы никто описывать не хотел. Директор АХО — кривоглазый бурят только усмехнулся и сказал:
— Если доменную печь соорудишь поможешь, а так это все бесполезно.
Разделил на слога еще: БЕС ПО ЛЕЗ НО.
Саиду поручили вылизать памятник и посветить лицом с флагом родины. Мне поручили что-то сломать и сжечь.
***
Лысый мужичок тер туфлю у магазина «Престиж»
— Бурак, – говорит Саид.
— Думаешь, может человек просто туфли надел. А ты сразу Бурак, Бурак.
— А, — откликнулся мужичек, – москвичи, – радостно.
И еще более радостно:
— Волонтёры, – по-хозяйски развел руками и пошел мне на встречу.
Поскольку я на лицо русский, то ко мне почему-то охотней липнут, пока молчу. Саид за двадцать часов, что мы провели вместе эту фишку просек и сразу взял Бурака за рога.
— Да. Они самые.
В общем, у них состоялся обязательный диалог общеупотребительного типа. Бурак несколько раз произнес слова «отдыхайте» «дискотека» и «груз».
А я зачем-то вызвался с утра поехать в аэропорт разгружать самолет с нашим «грузом».
3.
На рассвете я и еще пара волонтеров поплыли на барже к островному Диксону.
К директору аэропорта я решил пойти сам, и сразу же выпалил ему:
— Это мы без формы выглядим паршиво, как идиоты безрукие, но это иллюзия.
Михаил Анатолич внимательно слушает, ожидая чего-то интересного.
— Так что если есть чем помочь, скажите сразу, если нет, то наш груз, собственно с формой должен быть в три, а пока только восемь, и мы уйдем смотреть на достопримечательности.
— Борзый ты.
— Да нет, просто сразу обрисовываю ситуацию.
— Не мозольте, ладно. Если медведь нападёт — на телефон снимете. И номер мой запиши, по вотсапу отправишь.
— Как раз через год придет.
— Ну да, – он посмотрел так хитро, улыбнулся. — Пока проваливайте.
Еще у аэропорта к нам пристал мужичок, Палыч, с усами и в авиаторах:
— Нигде нет такого, только здесь, – от него пахло крепкой незамерзайкой, – влажность стопроцентная, ходишь и водой дышишь. Ей богу. Я, когда в Германии служил, там с женой познакомился, мы стоим с ней на казарме, ну там шуры-муры. Тоже влажность сто процентная.
И Леха, который второй грузчик, катается со смеху. Леха, арахнолог, мечтает развести на Диксоне пауков и переспать с логисткой аэропорта – Вероникой. А в целом Леха клинический идиот, и фамилия у него Огуречников. А Вероника, действительно, симпатичная.
И дед еще, третий, у него зубы золотые и лицо бессмысленное.
В общем, выслушав несколько историй, про пауков, Веронику, стопроцентную влажность и немцев, мы решили провалиться по просьбе Михаила Анатолича.
***
Я с детским восторгом смотрел на гору ржавых бочек и шел им на встречу.
— Вот бы баржу, – говорит Миша. — Баржой все это вывести.
— Цыган бы лучше, – думаю вслух. – Показать им гору металла, они сюда на нивах приедут и радостно все растащат.
Вчера, по пути на Диксон, мы видели дома, открытие двери, воздух был как будто шершавый, молчаливо качалась всякая электрическая утварь на сваях.
Я ожидал, что сегодня не будет как-то по-другому дышаться здесь. Но нет, все так же. Шершаво.
— Надо изолятор стырить, — говорит Миша, – я с Кольского брал, с Териберки, и с этого надо.
Классно — у нас появилась хоть какая-то незначительная цель.
И мы пошли искать изолятор.
Почему-то старье пустующее выглядит невыразимо привлекательно. В мире, который не за полярным кругом, не имеет смысла заглядывать в каждый угол, потому что этих углов тысячи, и выглядят они прилично. Здесь неприлично, здесь каждый угол имеет значение.
Где-то в середине прошлого века всех, кто умудрился попасть на остров Диксон, решили пересилить с острова на материк, но кажется, что это я уже говорил.
Как у Яхиной, в «Зулейхе», которая «открывает глаза», помимо всего прочего было какое-то волевое движение нации в условное «туда», и потом уже остаточное — «обратно». Пять тысяч человек превратились в пятьсот, пятьсот превратятся в двести и когда-нибудь останется один Палыч, дышать стопроцентной влажностью.
Я не понимаю, как описывать пейзаж этот. Грустно, печально, вон памятник стоит, Саид будет его мыть. Я как-то впечатлен тем, как далеко зашли фашисты на своем крейсере, прямо до этого памятника. Тот факт, что одной пушкой и ядрами из мха советский народ смог отбить кого-то, теперь даже не кажется удивительным.
Меня разочаровывает фашизм, как абсолютное зло. Возможно, поскольку я к нему привык, как к Ленину, как к танкам, как местные привыкли к полярной ночи.
— Во! — говорит Миша. — Трансформатор.
— Может не надо. А если работает?
— Смеешься что ли?
Он пошел к трансформатору и стал колотить по нему камнем.
А я стоял поодаль и думал о том, почему здесь нет чувства глубокого одиночества, которое должен в теории постоянно испытывать человек. Оно как-то растворялось по крышам этих деревнях домиков, ДК, Ленину, по головам североморцев, что облизаны всеми Бураками мира. Одиночество оставляло тебя единиться со всем этим шершавым покинутым пространством.
***
Через час, с опозданием на сорок минут, должен был прийти наш груз.
Прилетели вахтосы, где-то по пути потеряли двести килограмм краски, порадовались, увиделись и разлетелись. Кто на Рогозину, кто на Дудинку. Михаил Анатолич на соболе радостно разъезжал вдоль посадочной трассы, немного пригубив.
Обратно на барже мы прибыли ближе к вечеру. Саид весь светился от радости, когда увидел нас.
— Что ломать показали тебе? – спрашиваю.
— Короба.
— Все?
— Нет, три.
Саид был человеком толерантным, и всегда казалось, что именно сейчас он что-нибудь тебе продаст. Вежливость сочилась из него, лоснилась и приглаживала волосы. А ещё он очень много говорил, я просто не могу этого передать. Его рот хорошо открывался, артикулируя каждое слово, быстро и очень качественно. Он постоянно вспоминал по памятники, так что в какой-то момент Миша не выдержал и сказал:
— Памятник-няняняметник.
— Памятник — это мастхэв, – заключил Саид.
4.
В общем, за десять дней при помощи гвоздодеров, бензопилы и Ванечки нам надо было раздолбить три короба. Задача не сложная, но абсолютно бессмысленная.
Мы купили немножко чая и сели на кухне. Ванечка, я, Саид, Миша и сын татарского народа. Всего нас было десять человек, считая оператора с телеканала «Мир». Меня как-то не особо устраивало привезенное мной же общество. Поэтому я часто курил, смотря на удивительное свойство солнца — не заходить вообще.
Наша пятиэтажка стояла на достаточно высокой шлаковой насыпи, вокруг была детская площадка, экзистенциальные качели, деревянный медведь, рядом с ним Маша, облупленные конь-качалка и танк.
Между многоэтажкой и соседними зданиями хозяйственного назначения был виден залив и то, как он соединяется с морем. Вниз по склону шли короба, плесневелые, тундра внизу казалась приторно зеленой, как заставка «Виндовс» и между нашей шлаковой осыпью и кладбищем Диксона был глубокий болотистый овраг, полный ржавчины, бочек, утонувшей ТМки, потом там возвышалось что-то типа маяков, проводов и еще какой-то давно не работающей техники.
По оврагу живописно лежал короб.
В этих коробах здесь все водоснабжение. Летом они хорошо горят из-за вложенной в них минеральной ваты.
***
На кухне уже что-то обсуждалось.
— В общем, завтра, – говорил Саид, – нужно будет поехать на остров, помыть памятник.
— Он вылизан! — вмешался я.
— Бурак говорит надо съездить.
— В общем, ребята – а на кухне у нас собралась вся компашка, но они не ели, а настойчиво мерили форму, – я предлагаю…
И тут меня перебил Ванечка:
— Такую форму шьют заключенные…
На него ничего не налезет, поскольку ростом он два метра и в ширину тоже не маленький. Волосы длинные, глаза умные, и даже слегка сочувствуешь ему. А еще ногти не стрижены.
— Или киндеры из школы для одаренных, – говорит Миша. – Вон смотри «Сириус».
— Все-таки заключенные. Им как-то к лицу.
— Ребята, – я опять встрял, — памятник мыть нет никакого смысла, я предлагаю разделиться и ломать короба. Саид и те, кто хочет смотреть на это убожество — езжайте завтра, а остальные — гвоздодёры в зубы и молотить вечную мерзлоту
Со мной вызвался Миша и ещё пара молодых людей с геофака МГУ.
В общем, сама работа вряд ли покажется интересной – просто ломай, грузи, жди, потом опять ломай. Я чувствовал себя немного заключенным, немного ссыльным, но больше идиотом – каждый местный, идущий мимо, невзначай упоминал, что занимаемся мы кромешной ерундой и что делали бы лучше что-нибудь более полезное.
А что полезно?
Что-нибудь.
А следующим вечером мне позвонил Михаил Анатолич:
— Илья?
— Да.
— Илья, слушай такое дело. Вы не могли бы подойти ко мне. Дом попугай, третий подъезд.
— Конечно, а что такое?
— Тут такое дело, вы ребята хорошие, поговорить с вами надо.
Надо — означало хочу.
Диалог этот был натужный, отказывать как-то неприлично. Мы с Мишей собрались и пошли. Нам дали сало и водку, старательно рассказывали про Петербург и жизнь. Такой вот, казалось бы, не с каждым случающийся инцидент — выпить два литра водки с директором аэропорта, но рассказать совершенно нечего. Только сигареты «космос» блоков десять на подоконнике.
Не люблю водку. Часа через два распрощавшись, встретили Ванечку.
— Сегодняшний день, — просто сбыча всех моих мечт, – заговорил он, словно бы мы спросили его о чём-то. — Я встретил Юру, узнал откуда тут ромашки и даже сфоткался с ним.
— С ромашкой? – спрашиваю.
— С юрой.
— А это кто?
— Местный активист, депутат и блогер.
— Везде они, — заключил Миша.
И мы пошли под треп Ванечки в свою пятиэтажку на Водопьяного два.
По набережной в ряд стояли справа налево Стекляшка, дом «попугай», какой-то неназванный безликий сарай и мы, Водопьяного два… Водопьяного один – это гнутая пожарная часть. Вглубь все идет вперемешку – сараи, школа, лапы оленя, здание администрации, огромная надпись: «Таймыр за мир» и как финальный аккорд – обшитая серой кровлей общага погранцов.
Почему я так не люблю их всех…
5.
Северные города — это всегда что-то монастырское.
С одной стороны, там нет ничего, кроме хруща, развалин и памятников ВОВ. С другой — чувство, что здесь все не зря, что жизнь имеет смысл и распорядок, что все эти усилия, которые приложены на строительство, перемещения, тоже – не зря.
Иногда мне кажется, что кому-то искренне надо тут быть, кому-то нужны все эти развалины, памятники, аэропорт, магазины, чтобы исполнять глубокий долг. Не перед родиной, но перед жизнью — распространить и приумножить ее. А потом понимаю, что это полное и беспросветное убожество никак не сопоставимое с понятием жизнь. Жизнь — это что-то красивое, банальное в пальто и на берегу океана, наполненное событиями и тонкостями, вычурными красками типа путешествий, драк, пьянок, любви. Жизнь — не может выглядеть как субботний путь от дома до алкомаркета.
Но это я так думаю.
И вот Диксон выглядит как иллюстрация к невозможному. Как предел. Как самое глубокое человеческое заблуждение.
Илья Алексеевич Золотухин
_______________________
145184
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 27.05.2023, 21:43 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 31.05.2023, 18:34 | Сообщение # 2750 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Он от жизни никогда не пьянел,
и похмелья от «работы» не знал,
шел своею колеей, так хотел,
как умел, так свое соло сыграл.
Неказистый с виду был паренек,
но на сцене и в кино заблистал,
оказался, как колодец, глубок,
никогда простых путей не искал.
Пермский редкий самородок-чудак,
самоучка — гениальный Актер,
не любитель шумных сборищ и драк,
хоть украсить мог любой разговор.
Эксцентричный, а в душе Дон Кихот,
все хотел-то он по совести жить,
и добрался до серьезных высот,
интеллектом мог любого затмить.
Он дружил так же легко, как и жил,
и не требовал чего-то взамен,
улыбался людям, шутил,
и все время ожидал перемен.
Были слабости, но в ком же их нет,
суть в другом, что ты оставить сумел,
он оставил замечательный след,
все раздал, что в своем сердце имел.
Дорогой Ты наш! Георгий Бурков,
пусть уходят под откос поезда,
Вы прожили без цепей и оков,
ярко светит с неба Ваша звезда…
(Теплов Андрей)
"Удивительную черту советской интеллигенции наблюдаю в течение долгих лет. Почти вся советская интеллигенция оппозиционно настроена к власти. Но это не мешает устраиваться в жизни именно за счёт власти...
Уходит человек из жизни, его хоронят, везут на машине или на телеге. Прохожие полюбопытней стараются узнать: кто умер, от чего умер, с кем остались дети, родители? И никто не догадается, что этот мертвец унёс с собой в могилу неповторимую историю своей жизни. Никто никогда не узнает, какой она была на самом деле. Эта интересная история умерла вместе с её творцом и рабом...
Я знаю, что умру, как все, что не буду жить вечно ни буквально, ни в переносном смысле. Обидно только, что опыт приходит к старости, когда нет уже тех сил и энергии, что в молодости. И самое грустное в том, что под старость поймёшь, как по-настоящему жить нужно, а возможности "переиграть" нет. Будут ли люди когда-нибудь жить безошибочно? Вряд ли. Ведь опыт предков только частично помогает, потому что он не может забежать вперед, увидеть будущее, а будущее всегда несёт в себе (хоть и мало порой) неожиданности. Жизнь всегда нова. Тем она и прекрасна: то, что мы переживаем сейчас, никогда не было раньше и никогда не повторится в будущем..."
(Георгий Бурков (31 мая 1933 - 19 июля 1990)
ХРОНИКА СЕРДЦА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Он был главным в моей жизни...
Пусть меня простят, я никогда не пыталась писать. Я и не буду стараться писать, попробую рассказать, что я чувствовала и переживала рядом с Жорой каждый день. 25 лет. Тихая грусть. Вот мое состояние сейчас. У меня не осталось обид, зла, разочарования. Вся наша жизнь представляется сейчас как бенгальский огонь, который вспыхнул, но не догорел до конца.
Несколько слов о себе. Я родилась в Сормове, район г. Горького. Сразу из роддома меня перевезли в Москву. Так я и жила в Москве на Рождественском бульваре, в коммуналке, 9 человек в 9 метрах. Спала в корыте, на столе, «вот поэтому и не выросла» — говорила бабушка. Я знала точно, что буду актрисой. Не теряла времени, занималась всем: танцами, пением, в кукольном и театральном кружках. И, наконец, в 14 лет поступила в студию при театре имени Станиславского.
В 1961 году я сыграла свою первую премьеру «Сейлемские ведьмы». Роль Бетти. Главным режиссером был Михаил Яншин. Он меня и принял в театр. Меня стали вводить в спектакли. Я стала много играть. Все было как в сказке.
В 1964 году меня взяли в Щукинское училище, о чем я даже не мечтала. Меня взяли, правда, с условием, что я не буду играть в театре, от чего я не смогла отказаться. Меня выследили, в прямом смысле этого слова, и отчислили. Я даже не успела расстроиться: мне в театре дали роль в польской пьесе.
Вот тут-то мы и встретились.
В театре давно обсуждали, что режиссер Львов-Анохин берет артиста из провинции, с говорком, шепелявого, но необыкновенно самобытного. Многие говорили: зачем он нужен с такой дикцией. Художественный совет скорее был против, чем за.
Но тем не менее в феврале 1965 года у доски объявлений стоял худой, сутулый, странный человек в очках, красном свитере с белыми крапинками (мухомор) и суконных брюках. Он совершенно не был похож на артиста. «Здравствуйте. Я — Ухарова». — «Я — Бурков. Мы завтра вместе вызываемся на репетицию». Он смотрел на меня и хитровато улыбался. Но на моем лице, кроме нежной жалости, наверное, ничего не выражалось. Я готовилась увидеть такого «картавого монстра» из провинции, а увидела интеллигента, похожего на библиотекаря. Любви с первого взгляда не было. Но сердце заколотилось почему-то, возникла материнская нежность, и это чувство не покидало до конца, до последних минут в больнице. Была любовь, страсть, дружба и рядом всегда — это материнское чувство: нежность, страх, забота... Он пошел проводить меня до автобуса. Но я не уехала. Мы не расставались до позднего вечера. Мы говорили о «Маленьком принце».
Позже мы играли вместе. Жора — Лис, я — Принц. Это было спектаклем в спектакле. Для нас.
Жора снимал тогда комнату в полуразвалившемся доме на Бауманской, где вскоре, очень неожиданно, предложил выйти за него замуж. Я, без паузы, сказала: «Да». Нас не все поняли правильно. Добрые люди говорили: «Конечно, помоги ему с пропиской, да и жить ему негде». Но ни тем, ни другим я ему помочь не могла. Мои родители жили в хрущевке с маленькой сестрой и совсем не были бы рады увидеть меня с мужем.
В театре дали комнату на Аэропорте, в общежитии, но как только мы расписались, в июне 25-го числа, тут же попросили освободить ее, мол, переезжайте к жене. Свадьба была такой, какая и должна быть именно у нас. Я в выпускном платье, рваные туфли. Да еще сходила в парикмахерскую, мне сделали жуткую «корзиночку». Жора, когда увидел, сказал: «Если не уберешь, в загс не пойду!» Все смеялись и смывали мою залакированную голову. Нашими гостями были два друга детства Жоры и моя подруга. Они свидетели, они же и «спонсоры», т.к. денег у нас не было, и не было долго. В театре Жора работал на разовых, то есть получал 1 руб. 50 коп. за спектакль и играл только солдата в «Ученике дьявола».
Нам было здорово! Да, здорово, ходить пешком в театр, когда нет пятаков на метро, съесть вечером суп из пакета и выпить дешевого вина, а главное — говорить, говорить, боже, сколько мы говорили — об искусстве, о жизни, о политике — обо всем. В сентябре 1965 года я пошла снова учиться в Щукинское училище. Как назло нас попросили из общежития, а я была уже беременна. Начались странствия по знакомым. Я взяла в реквизите матрас с кроватки из «Сейлемских ведьм», и с ним мы ездили.
В театре Жора репетировал свою первую роль Рябого в пьесе М. Ганиной «Анна». После премьеры заговорили об открытии актера. Кто-то говорил: «Да чего там играть, роль — самоигралка», многие увидели комедийное дарование.
Львов-Анохин, один из немногих в Москве, увидел в нем не только комика. Дальше были пьеса Леонида Зорина «Три главы из жизни Крамольникова» — Крамольников, «Доктор Стокман». Хоть Яншин и отметил актерскую работу Жоры, но тут же сказал: «Тебе это лучше не играть». Смотрели телевизор, Михал Михалыч сам ел мало, но очень любил всех кормить. Жоре тогда он аппетит испортил.
Львов-Анохин Жору любил, как отец свое дитя. Ругал часто, давал денег в долг, а самое главное — верил в него. И понимал его возможности.
Когда Жора появился в театре, его сразу принял, без оговорок, Женя Урбанский.
Герой уже снялся в «Коммунисте» и «Чистом небе». Жору он просто очаровал. Они даже чем-то были похожи, несмотря на полную противоположность с первого взгляда. Женя был старше всего на год. Но однажды в ВТО подвыпивший и подслеповатый режиссер, увидев их вместе, спросил: «Жень, это твой сын?» Надо было знать Женю! Он так расстроился. Он был очень наивен и раним. Мы долго посмеивались над этим, а он обижался.
В то время я очень была привязана к актрисе Лидии Савченко. Она и познакомила Жору со своим любимым, а им был тогда Михаил Рощин, ныне известный драматург. А тогда — Мишка, к которому на Заставу, к его матери Тарасовне, мы часто ездили. Ели вкусную селедку, выпивали и много говорили. Решались «глобальные» проблемы в искусстве, политике. Они подружились. Это были интересные годы. Много планов, идей, сюжетов родилось тогда. Жаль, что мало было возможности. Время!
В 1966 году у нас родилась дочь Маша. Мы жили в общежитии, где прожили 8 лет, радостных, счастливых и трудных. Сейчас я часто думаю, как я могла это вынести. Жору воспринимали как балагура, выпивоху и чудесного рассказчика. Рассказчик он был великолепный. Его рассказы о собаке Динке и многие другие были просто концертными номерами.
Стали жить лучше, Жора начал сниматься, предложений было много. Появилась некоторая эйфория. Помню, как я ждала его со съемки фильма Сергея Соловьева «Семейное счастье», где он работал с замечательными актерами Анатолием Папановым и Катей Васильевой. Был первый день съемки, он должен был прийти днем, а появился после 12 ночи. Я уже была раскаленная, душили монологи. Но, когда открыла дверь, застыла. Стоял Жора в белом костюме с тростью и канотье. Облокотившись на дверь и запрокинув голову, он произнес: «Ну что я говорил, я весь в белом, а вы в говне!»
У него была страсть писать, это еще с детства. Он записывал все, что видел, о чем думал, мечтал и пр. Когда мы познакомились и первые два года он много писал, а потом наступил период самый страшный в нашей жизни. Он не выдерживал обрушившихся на него признания и популярности.
Он очень тратился на съемках. Не столько на самих съемках, сколько на том, что было вокруг. Его подогревали, подливали, и закружилось. Эти годы стоили ему здоровья. Я все ждала, когда он возьмется за свои книжечки записные. Было, конечно, в это время и хорошее. Это встреча с Рязановым. «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники». Они так на протяжении жизни и не расставались. Но Жора очень переживал, что все время снимался в эпизодах и маленьких ролях и что Эльдар Александрович не видел в нем своего героя. Только в последние дни жизни он получил долгожданный сценарий. Но...
В театре был мрак. В 1968 году (по-моему) уходит Львов-Анохин. Началась смена главных режиссеров. Борьба за влияние. Приходящая режиссура начинала самоутверждаться, что сказывалось в первую очередь на актерах. Приходилось играть все подряд, что утверждалось управлением культуры. Помню, как сидели в оркестровой яме не самые последние артисты, изображая массовку, среди них был и Жора. Он был уже очень популярен, и кроме как унижением это нельзя было назвать. И к тому моменту, когда он получил Федю Протасова, ему пришлось уже лечить нервы. Спектакль был странный. О нем не говорили как об открытии, но работу Буркова отмечали. По-разному. Но для меня — это одна из лучших его театральных работ.
Он снова взялся за свои книжечки, и последующие годы были очень насыщенными и интересными. Он знакомится с Ефремовым Олегом Николаевичем и уходит в «Современник». Там он был один сезон. Ефремов уходит во МХАТ, и Жора возвращается в театр Станиславского. Главным режиссером тогда там был Иван Бобылев, режиссер из Перми, куда он потом вернулся. Он так и не простил Жоре уход и играть ничего не давал.
Так заканчивался определенный период нашей жизни. Были признание, любовь зрителей, много интересных ролей. Были Миша Рощин, Олег Ефремов.
Жора не вступал в партию, совершенно не умел разговаривать с официальными людьми, включая директора театра. Много играл, но никто не говорил о звании, о квартире. Впрочем, он тоже не говорил. Но я думаю, что мысли об этом нередко становились причинами срывов.
Со времени увлечения театром Жору не покидала идея создания нового театрального движения. Тот факт, что его не приняли в театральный вуз в Москве, послужил к получению еще более серьезного образования. Он получил прекрасное самообразование, не выходил из библиотеки в Перми. Сам собрал хорошую библиотеку. Надо сказать, что в Москву он приехал гораздо образованнее многих окружающих его людей, а может и всех.
С ним было интересно всем — и режиссерам, и рабочим сцены. Удивительная врожденная интеллигентность не позволяла ему обидеть собеседника. Он никогда не пристраивался к людям сверху. Уважал людей. Я не пропустила почти ни одной творческой встречи со зрителями. Это всегда был отдельный и не похожий ни на что спектакль. Он не читал, не играл, он разговаривал с залом.
По-настоящему хорошо он чувствовал себя только дома, в кабинете, со своими книгами. Все, о чем он мечтал, окружающими чаще всего воспринималось как утопия. Кто-то открыто говорил об этом, кто-то менял тему разговора.
Вот в это время он встречается с Василием Макаровичем Шукшиным. Эта встреча перевернула жизнь не только Жоры, но и всей нашей семьи.
Когда мне попадается публикация, где скрупулезно подсчитывается, кто больше времени общался с Шукшиным, становится не по себе. Да разве ЭТО важно?! Важно, насколько глубоки и искренни были эти отношения.
Когда Жора мне рассказывал о первой встрече с Шукшиным, я поняла: наконец-то пришел тот человек, который думает и живет по тем же правилам, что и он. Они сразу заговорили на понятном им одним наречии. И совсем не обязательно было видеться каждый день. Жора преобразился, стал много писать.
Замечательные два года под названием ВАСЯ ШУКШИН!
В 1974 году на съемках «Они сражались за Родину» я провела два месяца.
Каждый день — тяжелые съемки, после — прогулки по палубе и долгожданный вечер в каюте с разговорами об Иване-дураке. Написание сказки «До третьих петухов». Когда я слушала Василия Макарыча, мне становилось страшно от того, как он наивно относился к возможностям театра. Что-то простое в постановке ему казалось сложным и наоборот. Я уже тогда понимала, что это трудно будет поставить. Так оно и было. Шукшин и Жора приехали на гастроли в Горький. Сам Шукшин читал «До третьих петухов» труппе театра Станиславского. Реакция была более чем странной. Несколько вялых фраз. То ли труппа была измучена сменой режиссеров, то ли авторитет Шукшина так сработал. Но Василий Макарыч был озадачен, и Жоре пришлось долго его уговаривать продолжить работу.
Жора жил только планами Шукшина и дальнейшую свою творческую жизнь связывал только с ним.
Ему завидовали многие, ведь Василий Макарыч совсем не всех подпускал к себе так близко. Видимо, один из таких отметил в своих воспоминаниях о Шукшине, что, мол, Вася, переживал, что много говорил Буркову. Может, это и было, кто ж теперь знает? Только жаль, что это он вспомнил, когда Жоры уже не было в живых. При жизни почему-то не помнили, а как Бурков умер, все стали вспоминать. И с каждым днем все больше и, как им кажется, точнее. Бросьте, сказать-то все равно НЕЧЕГО! Что ж все молчали 16 лет, а как Жора умер, начались сомнительные воспоминания об их отношениях, мол, «была ли дружба и так ли уж хорошо Шукшин относился к Буркову?» А свое долгое молчание объясняют тем, что только-де оправился от шока с 1974 года. Впрочем, я отвлеклась.
Шукшин все время говорил: «Жор, ты должен писать, ты так здорово рассказываешь. Я так не могу». Я помню, как Василий Макарыч начинал рассказывать какой-нибудь анекдот или историю, потом останавливался, искал Жору и заставлял его рассказывать снова и смеялся громче всех, как в первый раз.
Когда они уезжали на съемки последний раз вместе, я их провожала. Василий Макарыч заехал за Жорой на такси и ждал его у лавки журналиста на проспекте Мира, где мы тогда жили. Он вышел из машины, поздоровался и отвернулся, я поняла, что он плачет. «Девок жалко,— заговорил он,— стоят на дороге, как два штыка, я их гоню, а они не уходят».
Может, он чувствовал, что больше их не увидит. И я его больше не видела. Через несколько дней Василия Макарыча не стало.
Я боялась увидеть Жору. Я слишком хорошо его знала и предполагала, что с ним будет.
Когда он приехал, почти сутки вообще ничего не говорил. Хорошо хоть никто из друзей и знакомых не звонил какое-то время.
Самое трудное было говорить с матерью Шукшина, Марией Сергеевной. Она, конечно, захотела с Жорой увидеться: ведь он был последним, кто видел Васю живым, и первым, кто видел его мертвым.
В это время он весь уходит в работу. Он всю жизнь готовился к литературной работе. Но, кроме огромного количества интервью и газетных статей, ничего не печатал, да и нечего было — все готовился.
Очень много снимается. Это отвлекает, но поселившаяся тоска не покидает его больше никогда.
С этого времени он одержим идеей продолжать все, что задумывали с Васей. И первое — это постановка «До третьих петухов».
В 1977 году в театр Станиславского пришел Андрей Алексеевич Попов. С ним пришли три молодых режиссера — Васильев, Морозов, Райхельгауз. Замечательная личность Андрей Алексеевич и талантливая молодежь вернули интерес к театру. Очнулись от спячки актеры. «Первый вариант Вассы Железновой» Васильева — неожиданный, талантливый спектакль — заставил поработать критику и пересмотреть отношение актеров к профессии. Жора играл Прохора. Прекрасная работа. Он любил это играть.
Вскоре Жора начинает репетиции «До третьих петухов». Сразу же стало ясно, что ни театр, ни актеры не готовы к воплощению замысла. Не буду искать виноватых. Эта постановка не получи-лась и в других театрах. Я знаю причину. Слишком ответственно это было для Буркова. Поставить просто очередной спектакль, даже хороший, он не хотел. Нужно было открытие, откровение, переворот. Я знаю, что спектакль сделан на бумаге, скрупулезно, дотошно. Расписан весь по мизансценам. Но увы! Только на бумаге.
Как говорится, долго хорошо не бывает. Уходит Попов. Этот добрейший и нежный человек не выдерживает бремени руководства.
Театр Станиславского был для Жоры родным домом. Там его любили, но до конца не понимали. Что ему надо?! Играет, снимается — все нормально, казалось бы. Но жизнь ума, его ума, протекала не так гладко. Он занервничал, остановился — так ему казалось.
В 1980 году начинается жизнь во МХАТе у Ефремова. 5 лет работы в театре. Дружеские отношения с Олегом Николаевичем. Встречи не только в театре, но и дома. Олег Николаевич обаял его целиком, но не завладел им. Ефремов видел в нем хорошего артиста с необыкновенной органикой, но не видел личности глубокой и незаурядной.
Жора сыграл Панфилова в спектакле «Волоколамское шоссе» в постановке Шиловского. Разные были мнения, мне эта работа нравилась. «Украденное счастье» с Виктюком. У меня такое впечатление, что сам Ефремов к этим работам несерьезно относился, и Жора это чувствовал. Скорей всего Олег Николаевич держал его просто за характерного артиста. Но и любил. Однажды после затянувшегося ужина дома Олег Николаевич сказал: «Жорка, так ведь ты же — Ленин!». Все долго смеялись, больше всего сам Жора. Ленина он, конечно, не играл, а вот роль рабочего Бутузова в пьесе «Так победим!» получил.
У него было несколько микроинфарктов. Один из них он наверняка получил, играя Бутузова, когда спектакль посетил Брежнев. У Брежнева сломался слуховой аппарат, и он ничего не слышал и громко разговаривал вместе с артистами. После слов Бутузова он говорил: «А я не слышу, а что он сказал, а почему все смеются?». В зале посмеивались, шушукались, потом просто стали смеяться. Актеры были в худшем положении. Особенно Жора. Я видела, как он побелел, как подошел к ложе, где сидел Брежнев, и начал говорить, но аппарат так и не починили, и все повторялось снова. Пришлось пережить неприятные моменты. Он ругался, не хотел быть больше шутом и т. д.
Наконец-то в 1980 году после ухода из театра Станиславского ему дали звание заслуженного артиста. Жора не столько радовался званию, сколько списку, в который попал. Рядом — Алла Пугачева. «Хороший список», — сказал он.
Все было хорошо, но мысль о создании своего театра не давала покоя. С Ефремовым он о постановке не заговаривал, чувствовал отказ, наверное. Очень откровенных отношений не складывалось. Олег Николаевич — человек официальный. Да и окружение не позволяло особенно приближаться. Никто не понял, почему Бурков ушел от Ефремова. Дело в том, что Жора не состаивался авторски, личностно, если можно так сказать. Он давно уже перерос просто хорошего артиста на определенные роли. Ему хотелось быть лидером. А толчком к уходу послужила ерунда. Этого и Ефремов не знает. Подошла к Жоре одна уважаемая актриса и, погрозив пальчиком, сказала: «Смотри, Жора, веди себя хорошо на гастролях, мы за тебя поручились в райкоме партии». А Жора просто не поехал на эти зарубежные гастроли и ушел из МХАТа.
Продолжая хорошо относиться к Ефремову, Жора все-таки на него обиделся.
Дальше — два года в театре Пушкина. Прекрасная работа «Иван и Мадонна». От нее осталось несколько фотографий.
В это время Жора вместе с Германом Лавровым, с которым он еще раньше сделал документальный фильм о Шукшине, снимает художественный фильм «Байка». Это была проба сил. Он очень нервничал. Учился у Германа, человека опытного в кино. Они хотели сделать доброе кино, выбрали замечательную актрису Нину Усатову, это был ее первый фильм. Кино действительно получилось доброе. Премьеры в Доме кино не было, да и в кинотеатрах он прошел тихо. Фильм оказался не нужным в Москве. В провинции его приняли и поняли лучше.
«Как будто носишь мед в соты, а они дырявые», — часто говорил Жора в это время.
Осложнились отношения Морозова с труппой. Морозов уходит, уходит Бурков.
Жора никогда не говорил о своем здоровье. Он к нам, домашним, нежно относился и, видимо, не хотел огорчать. Но я замечала, что он чаше стал отдыхать днем, меньше смеялся и все больше уходил в себя. Часто стал говорить о том, что не успеет ничего. Мало времени осталось. Сейчас понимаю, как плохо он себя чувствовал, если, составляя план работы Центра, оговаривал: «даже если меня не будет...»
Ошибкой были репетиции и премьера у Дорониной пьесы Радзинского «Старая актриса на роль жены Достоевского». У Жоры уже не было сил на эту работу, он целиком ушел в Центр культуры, которому дал имя Шукшина, он хотел создать там свой театр, свою театральную школу.
Начиная с 1974 года (смерть Шукшина), Жора практически оставил свои планы и мечты. Занимался только тем, что задумывали вместе с Шукшиным. Его творческие вечера и встречи со зрителями почти целиком были посвящены Шукшину. Все публикации о Шукшине — это его боль, его жизнь. После смерти Жоры редко стали вспоминать о Шукшине. Вспоминают, но не так и не по делу.
Тяжелая премьера, хождение по кабинетам, что всегда трудно давалось, отсутствие понимающих людей в окружении. Все это привело к больнице. Заболевание сердца. Пролежал месяц в кардиологии и месяц в санатории. Это был первый и последний его отдых в жизни. Но и там он работал, встречался с людьми, подписывал документы, составлял планы, мечтал.
В театр он больше не вернулся, а Центр с огромным трудом, перед его смертью, был создан. Ему это удалось. Проектом номер один стояло: «Восстановление храма Христа Спасителя». Но когда он с этим пришел на телевидение, на него замахали руками. Было рано. Очень был расстроен... Сейчас храм стоит, и я рада: там частица и его мечты.
Жорина мама, Мария Сергеевна, прожила после его смерти семь лет и умерла этим летом. Она всегда хотела видеть своего сына народным артистом, спокойным, солидным, в костюме, шляпе и с высоко поднятой головой. А он был худой, нервный, сутулый, в джинсах и очень одинок и никем не понят.
Жора очень любил дом. И я старалась, чтобы эта любовь не проходила. Ему нравилось, как я готовила, он ел только дома и любил хвастаться этим. Я старалась его понять и прощала все. Я не занималась своей карьерой и ходила за ним из театра в театр. Он был главным в моей жизни. Этим главным остается и сейчас.
Жора умер 19 июля 1990 года в 1-й городской больнице, диагноз — тромбоэмболия. В больницу, где его оперировали, он попал с осколочным переломом бедра. Упал он дома.
Это всегда неожиданно и страшно. Никаких сенсаций или обвинений от меня не последует. Если кто и убийца, так это та жизнь, которая часто не по делу мучила, терзала, отнимала силы и здоровье и за которую он в один прекрасный день перестал бороться. Просто устал.
В 1991 году мне предложили создать Центр культуры имени Буркова. В этом Центре мы смогли снять фильм под названием «Незнакомый Бурков». Кто-то даже пытался критиковать этот фильм. Но мы не ставили «высокохудожественных» задач. Это было первое и, как оказалось впоследствии, пока единственное воспоминание о Буркове.
Выполнение других проектов без Жоры не имело смысла. А устраивать под его именем различные «шоу» — это не моя песня.
Жаль, что столько времени я не могла отдать в печать эту книгу, если можно это назвать книгой, скажем так: «ЕГО ЗАПИСИ».
А лучше всего Жора сам сказал о своей жизни: «Все мое несчастье в том, что я живу как ночная бабочка, которой суждено жить в дождливую ночь».
Татьяна Ухарова (Буркова)
октябрь 1997 год.
Дикая мысль —
опубликовать сюжеты.
Ибо не успеваю написать.
ЧАСТЬ I. ДНЕВНИКИ
ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК Я РОДИЛСЯ, ЖИЛ И УМЕР,
ТАК И НЕ ДОГАДАВШИСЬ РАДИ ЧЕГО. МИГ
1953
Воспоминания детства. Школа №11. Госпиталь. Актовый зал, заставленный койками. Коридоры заставлены койками. В вестибюле стоят только что принесенные носилки с ранеными. С раненых не сняты шинели. Это толкает на неприятные мысли, что война совсем недалеко. Думается о нелепости и безумии войны. Зачем нужна она? Кому она нужна? Раненых возят на трамвае, двери в трамвае сделаны сзади. Рельсы проходят мимо наших окон, поэтому я часами наблюдаю, как торжественно тихо и с осторожной деловитостью обслуживающий персонал госпиталя выносит полуживых людей. Иные раненые поворачивают голову набок и широко открытыми глазами осматривают улицы. Непривычно, видимо, наблюдать спокойные дома, не разрушенные снарядами, слушать эту напряженную тишину. Кино в госпитале, и мы, подшефная бригада школьников, с не менее сильным желанием смотрим новые фильмы. Затем фельдшерское училище. Футбол, спорт. Бабы, девки. Сад напротив. Сценки. «Драматическая» сцена ревности. Летчик прибыл на побывку, устроил скандал своей жене в саду. Мы с любопытством наблюдали за ними. Летчик откупился от нас пачкой папирос «Казбек».
— Да, бьют французы наших! — проговорил В. после просмотра французского фильма, когда мы, стиснутые в толпе зрителей, выходили из кинотеатра. Мне не понравилось и то, что он считает себя знатоком искусства, и то, что он поклоняется французскому искусству, не упуская случая везде, к месту и не к месту, заговорить о заграничных достижениях (косвенно намекая на «застой» нашей культуры), не понравилось и то, что говорил он это все громким «баритоном», гораздо громче, чем это требовалось для того, чтобы я услышал.
В праздничные дни у Димушки мы все — Димушка, я. Валька, Борис, Толя — слушали патефон. Голоса неузнаваемо уродовались патефоном: баритон, тенор, бас — все пели какими-то лилипутскими голосами. Но это не мешало нам наслаждаться праздником. Особенно я любил слушать песни о матросе Железняке и «Москва майская».
Школа, дружба, юность, разные пути, любовь, зрелость и прочее. Уже не те. «От дружбы нашей остались жалкие обноски и красивые слова». Детство, юность. Совместные вылазки на речку. Купались. Ребята демонстрировали класс плавания. Девчонки «плавали» около берега, положив голову на вздутую наволочку. Дружба. «Два капитана». В дождь под одной палаткой. Годы прошли. Нет уж той прелести юности. Но почему?! Зощенко. Анекдоты. Философия. «Когда вы, ребята, подрастете до 30 лет и расстанетесь с иллюзиями детства (с идеями социализма), когда вы станете, как и все, подлецами, то вам приятно будет вспомнить ошибки молодости».
Когда человек ругает что-нибудь, осуждает или просто констатирует, то делает это с определенной целью. Или он критикует с позиций противоположности. Или он, доказывая, к примеру, что окружающая нас жизнь несправедлива и пошла, хочет этим завоевать себе моральное право на такую же пошлую и несправедливую жизнь. «Все звери — и я буду зверем». А просто так критиковать, объективно, никто не будет жизнь. Обязательно с целью, иногда с умело завуалированной и непонятной для собеседника, но для себя всегда точной и понятной.
Когда тебе бессовестно говорят неправду, в тебе все возмущается. Задето сердце. Когда же тебе говорят правду, страдает самолюбие. Оно точит тебя, и ты задыхаешься в бессильной злобе. В первом случае в драку лезут люди без разбора. Во втором — прикинув, кто сильнее. От неправильных занятий, от неправильной направленности занятий одаренные люди проходят мимо цели или идут к ней окружным путем, растеряв по дороге много времени и сил. Некоторые люди изучают науки, не понимая, для чего это они делают. Им нужны знания для того, чтобы сдать экзамен, получать стипендию, а потом получить диплом для того, чтобы послали на работу.
Если у человека нет большого кругозора и народного передового мировоззрения, каждая мелочь ему кажется значительным событием в жизни, главное же пропускается мимо, как второстепенное. Одним словом, этот человек не сможет понять, где в жизни главное и где второстепенное, и, следовательно, не сможет правильно распределить свои силы, будет жить вхолостую.
Когда видишь несправедливости, когда веришь во что-то, когда в жизни что-то любишь и ненавидишь, тогда можно писать. Но писать не для того, чтобы величаться писателем, а для того, чтобы защитить то, что страстно любишь, от того, что всей душой ненавидишь.
Когда у человека нет большой мечты, настоящей, он не стремится ни к чему, живет сегодняшним днем, его засасывает болото мещанства и обывательщины. Он начинает чувствовать, что ему мешает что-то, чего-то ему недостает, порой он начинает понимать, что из него получился бы неплохой художник, врач, музыкант, начинает винить кого-то в гибели своего таланта и т.д. И никогда не понять ему истинной причины своего падения.
Он жил для себя, а не для людей.
Чтоб найти большую цель в жизни, нужно пробить скорлупу эгоизма, взглянуть на жизнь глазами трезвого и умного историка, понять, для чего живут, жили и будут жить люди.
Человек должен жить завтрашним днем. Без мечты нет смысла жизни. Мечта о завтра начинается сегодня. Она отталкивается от сегодня.
Красота — это простота, доведенная до совершенства.
Театр или литература? Что предпочесть? И то, и другое? А это возможно? Попробую. Думаю, что со временем одно займет по праву ведущее положение. А сейчас: и то, и другое, и литература, и театр. Уходит молодость! Вечный вопрос. Надо работать, учиться, гнаться за славой, за карьерой, за деньгами. Но в то же время твои желания просят их удовлетворения.
В летние вечера воздух на Каме удивительно прозрачен. Видны не только домики на той стороне, но и окна на домиках, двери. Лес, который весной, осенью и зимой выступает одной зеленовато-серой массой, сейчас виден так, что можно точно определить породу деревьев на опушке его. Даже тот лес, который сливается с горизонтом, даже и он выступает зеленым недалеким массивом.
Как быть? Или упустить молодость, но исполнить свой долг перед человечеством, или любить и гулять?
Творить свою любовь. Вот оно, предназначение человека на земле.
1954
Весна! С утра бодрое настроение. Кругом все тает, течет, шлепает, булькает, бегают солнечные зайчики. От этого на душе разливается какая-то приятная любовь ко всему, хочется смеяться, веселиться и без конца говорить всем смешное и приятное.
Портят настроение лекции! Военное дело читал полковник П. Это вылитый Градобоев. Как будто вышел из «Горячего сердца»! И пришел прямо на военную кафедру. В сущности он неплохой человек, только прикидывается грубым и строгим. Эх, люди, люди! Как мне хотелось бы узнать его ближе. Должно быть, он очень интересный человек в жизни и много знает — ведь он прошел всю войну.
В 10-м классе я впервые влюбился. Я был покорен красотой и милой простотой Г. Стройная фигурка, чуть-чуть склоненная набок красивая головка, улыбающееся личико, обрамленное кудрявыми каштановыми волосами. И что больше всего мне нравилось в ее лице — это ямочка на пухлых щечках. В такую невозможно не влюбиться. Она часто в полдень проходила мимо моих окон. Быстро, с женственной грациозностью, в темно-зеленом бархатном платье проходила она мимо моих окон, «как мимолетное виденье». Улегшись вечером в кровати, я долго думал о ней, предавался несбыточным фантазиям. Во всех этих фантазиях я выступал как благородный рыцарь или знаменитый артист, а она восторгалась моим мужеством или хладнокровием (в зависимости от обстоятельств) или была потрясена моим актерским мастерством.
Причем я знал и границу своим мечтаниям: я не воображал, что она влюбится в меня за красоту, этого при всей силе юного воображения я представить не мог. Я убеждал себя, да и других в том, что в мужчине главное не красота, а ум и характер. Характер у меня неплохой, спокойный, веселый, думал я, а ум накопить можно. Но вот беда: познакомиться с ней я никак не мог. Танцевал я плохо, да и робость подлая мешала очень. От друзей и знакомых я узнал (тайком, разумеется), где она учится, как фамилия, где живет, узнал я и то, что старшеклассники влюблены в нее все повально и что за ней ухаживают много военных (главным образом моряки и летчики). Ну и ну! Где уж мне тут ввязываться. И все-таки я не терял надежды познакомиться с ней.
Прошел год. Я кончил десятилетку и собирался ехать в театральный вуз. Но неожиданно меня пригласили ехать играть на первенство РСФСР по волейболу за сборную города. Я согласился поехать. К осени вернулся домой и поступил на физкультурный факультет пединститута. В театральный меня не взяли.
Но в Сталинграде, где проходили соревнования, я близко познакомился с одноклассницей Г., бойкой девчонкой. Она, как мальчишка, везде лезла, ругалась, кричала, шумела. Она не была красива, но что-то в ней было такое, что выделяло среди других девочек. С мальчишками она общалась запросто, любила шутки, «хохмочки», как она выражалась. И что интересно, сразу можно было угадать, что в ней свое, а что заимствованное. Ю., ее закадычный друг, любил джаз, полюбила джаз и она. Другой знакомый, В., любит оперу, не может спокойно слушать Андрея Иванова, она моментально влюбилась в Ан. Иванова и всем доказывает, что лучше Иванова Демона никто не поет. После приезда она увлеклась пластинками Лещенко и Вертинского. Она знала и пела буквально все их песни.
Вот эта самая девчонка и познакомила меня с Г. Где и как это произошло, я не помню: или на улице, или в школе на вечере. Но только хорошо помню, что не ту я встретил Г., которую полюбил. Помню, как мы с ней сидели у патефона и слушали «Скажите, девушки, подружке вашей» в тесной комнате. Какая-то покровительственная и жалеющая улыбка блуждала по ее прекрасным губам, испорченным краской. Она скорей походила на избалованную красавицу, которая хорошо знает цену своей красоте и любит, когда мужчины робеют перед ней.
После из рассказов я узнал, что она уехала с одним летчиком, но с полдороги вернулась. Затем она вышла замуж за офицера. Его направили в Германию. Вот и все.
Вспоминая свои юные годы, увлечения, неудачи, всегда горько или с досадой усмехаешься. Но есть в этом прошлом что-то прекрасное: как будто твоя юность надевает красивую одежду. Все плохое отбрасывается само собой и забывается, а остается только хорошее.
Далее: http://www.belousenko.com/books/art/burkov_hronika.htm
_____________________________________________________
145280
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 31.05.2023, 18:36 |
| |
| |
/> |