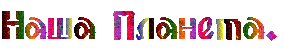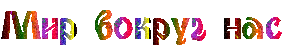|
Мир прозы,,
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 09.02.2025, 12:15 | Сообщение # 2901 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Мне в детстве казалось, что жизнь бесконечна
и травы зеленые вечно по-плечи,
и радостны все шумящие грозы,
и смех серебристый зимою морозной.
Боялся соседа с деревянной ногой,
он с фронта вернулся калекой домой,
рядом, как сестры, две наши землянки,
казался сосед мне птицей - подранком.
С отцом вспоминал иногда он бои,
я слушал, дыханье в груди затаив,
и пели они, выпив пенистой браги,
сверкали медали "За Берлин" и "За Прагу".
Пытаясь представить военную драму,
снедь подавая, тихо двигалась мама,
а днем я крикливо мечем деревянным
рубаю крапиву - врагов окаянных.
Давно их всех нет. Я грузен и сед,
но сны иногда беспокоит сосед,
как-будто из прошлого мне телеграмма,
подписанной коротко: "Папа и мама."
***
Закидало снегопадом,
буйным ветром занесло
дом с зеленым палисадом,
позабытое село.
Солнце - детства белый шарик
вновь зависло над трубой.
- Что с тобой, случилось, парень,
что случилось вновь с тобой?
- Среди полночи глубокой
не могу спокойно спать,
доживают одиноко
в доме том отец и мать.
Месяц в небе - чёлн горбатый,
звёзды - в тине караси,
в одиночестве проклятом
люди нынче на Руси.
Заросли поля бурьяном,
крик ворон тревожит гать,
неужели снова станут
все деревни вымирать?
Млечный Путь - как звёздный кратер,
звездопад во всей красе...
Разбрелись по свету братья,
в городах осели все.
Дом с зеленым палисадом,
позабытое село
закидало снегопадом,
буйным ветром занесло...
***
Упакован рюкзак, зашнурованы кеды
И гитара певучая в синем чехле.
Я вечерним автобусом снова уеду,
На свидание уеду детства речка к тебе.
Над тобою, как прежде, струится прохлада
И под ветром волнуется гибкий тальник,
Так же птицы поют над тобой серенады
И о чем-то своём мне бормочет родник.
Берега твои уже иль мне показалось?
Быстрый бег твоих вод все приметы те стёр,
А вокруг уже ночь платьем тихо шуршала,
Разжигая задумчиво звёздный костёр.
До свидания, речка, до встречи, родная,
Ты прости, что навеяло памятью грусть.
Я приеду к тебе, когда - точно не знаю,
Плохо будет - душою к тебе прислонюсь.
***
раньше в своих снах
я парил над землёй
и с высоты птичьего полета
обозревал скользящую
подо мной местность,
срывался в пике,
выделывал фигуры
высшего пилотажа,
руки мои были крыльями
и встречный поток воздуха
омывал моё тело,
гордый клёкот вырывался
из моей груди.
Прошли годы
и, ложась в постель,
я проваливаюсь
в не озвученную
черную дыру,
где нет ни неба,
ни сновидений...
***
Снова ожил я, стряхнув повседневность,
вдруг захлестнула горячая нежность
к старому дому с мокрым фасадом,
к улице, что вновь шуршит листопадом;
к нему ночному с песчинками звёзд,
их горизонт на плечах своих нёс.
Вечно прекрасная женщина-осень,
сердце к тебе не истратило нежность,
молодость чью-то на крыльях уносишь
в белую снежность.
Люди, спеша, проходящие мимо -
неповторимы...
Новое время, новые ритмы,
те песни, что пели мы-
мной не забыты!
***
Куда, зачем?
Ты опоздал на пристань,
пока свой слог распутал от оков.
Об этом мне сказал
твой взгляд лучистый
лишь нам двоим
понятным языком.
И вот меж нами
расстояние - в года,
закон инерции -
не выбиться из круга.
Теперь в толпе
встречаю иногда
не женщину любимую, а друга.
***
Что поэту нужно? Лист бумаги,
Кровью напишу вместо чернил,
Распишусь, как батя, на рейхстаге:
- Я такой-то, здесь когда-то жил.
Я из тех степей, где колокольно
Тихим звоном запевает медь,
Я из тех людей, которым больно
Без души слагать и песни петь.
Я из тех, которым всегда мало
Просто жить, подобно воробью,
Память сердца - домик обветшалый
Тихо грусть в меня вольёт свою.
В цвет черёмух жди всегда прохладу,
Посмотри и выйди на крыльцо:
Цвет опавший вызовет досаду
И сведет гримасою лицо.
Говорят с поэтом очень сложно,
Я как придорожная трава -
Меня топчут, я же осторожно
Начинаю рифмовать слова.
Месяц май!
Сады цветут - я маюсь,
На краю у пропасти стою,
Вижу как соцветия опадают,
Завершив земную жизнь свою.
***
И.А.
Я не судья,
о, нет, я не судья -
мой путь бывал порой и труден,
безмолвствовал в анналах бытия,
летя в стремнине сероватых буден.
Я знаю по себе,
что жизнь трудна,
порой глотал упрёки и обиды,
взлетал и падал, и метался в снах,
не знал, что жизнь прекрасная, Аида!
Мы оба Овны,
путь по острию,
ловцы в огне замешанных мгновений,
заздравную тебе я пропою
в весенний день в честь твоего рожденья.
Живи и помни -
Овны из огня,
противники чахоточного тления
и в этот день подарок от меня -
кричащая строка стихотворения.
***
я вызвал тебя
из забвения
через четверть века
и ты недоуменно
смотришь на меня,
не узнавая...
тебя же память моя
запечатлела молодой
и ты не подвластна времени
в её хранилищах...
***
Изменилась стать, теряет волос
черноту, побила седина,
я забыл из детства мамин голос,
слишком рано умерла она.
Только в снах витает голос глухо,
чуть пробив небытия порог:
- Коль в стране твоей царит разруха,
жить старайся праведно, сынок...
Знаю я, что ты ночами пишешь
из души выплёскивая боль,
и свою тропу по жизни ищешь,
только никого не обездоль.
По утрам ворочаясь тревожно,
вижу как в России, у межи,
у могилы мамы осторожно
снов моих витают миражи...
***
Может, право, не стоит жить,
каждый день отправлять на плаху -
очень трудно Музе русской служить,
оставаясь в душе казахом,
думать на одном из языков,
перевод совершать себе же,
заболел я от магии слов
в затхлый быт навевающих свежесть
и в плену всех забот и благ,
разбиваю сомнений камень:
водку русскую пью, бесбармак,
как казах, всегда ем руками...
***
Мои родимые места.
Здесь тихий звон
Опять пронизывает дали
И беркут, крылья распластав,
Парит метафорой печали.
Здесь по утрам и вечерам
По волнам неба, словно струги,
Клинообразно, друг за другом
На юг кочует казара.
И пронесется вдруг галопом
Горбатый торс неся с рогами,
Живая связь между веками -
Сайгак,степная антилопа.
А у березовых околков,
Они в степи как сад Эдема
(но эта перепета тема)
Мелькнет поджарый профиль волка.
А по подстриженному полю -
По злой иль чьей-то доброй воле,
Куда? И сам того не зная,
Несется круглый шар курая.
С печалью вечной: - О,Аллах!
За чьи грехи мне эта кара? -
У позабытого мазара
Сидит и молится казах.
***
Я уйду метеором на небе сгорев,
Освещу мир на миг, чью-то душу согрев.
Упаду, охлаждаясь, в лесной бурелом,
Отражусь в твоём взгляде под острым углом,
И в тебя я войду, твои веки пробив,
Твою кровь я взбодрю как штормящий прилив,
Окропит вдруг ресницы скупая слеза:
Я любил и об этом тебе не сказал!
От тебя убегал я к распятью дорог
И тебе посвящал я печаль своих строк.
Ты случайно прочтешь. Я лишу тебя сна,
Ты замрешь хоть на миг, загрустив,у окна.
В небе звезды охватит тревожно твой взор -
Упадет ли вдруг с неба, сгорев, метеор
И печально вздохнешь, грусть в себе затая,
Опоздала на жизнь откровенность моя...
***
Западные археологи нашли скелет человека, которому 50 млн. лет. Опровергается теория Дарвина о происхождении человека, выходит, что человек является предком обезьяны, по мере своей деградации, в зависимости от климатических условий он дал жизнь всему живому на Земле.
Из телепередачи
Мы азиаты и особенный народ,
спешим вперед, все перепутав сроки
и в прошлом веке в тридцать скверный год
нам отомстил жестоко Голощекин.
Письмо арабское меняли на латынь,
потом пришли Кирилл к нам и Мефодий,
а степь всё та же, та же в небе синь,
но прежней нет гармонии в природе.
Нам верить в Бога запрещали много лет,
чуть-чуть родную речь не потеряли,
опять спешим, торопимся на свет,
что излучают нам другие дали.
Вошли мы в мир - большой торговый дом,
тут счет идет на доллары и евро,
здесь снова испытания на излом -
крепки ли у казахов этих нервы.
Скрипим и философствуем опять,
освоив новый дедуктивный метод -
как зиму нам на лето променять
и также благоденствовать при этом.
Одни нас тянут в средние века,
чтоб правили султаны, феодалы,
скрестили снова копья, а пока
вернёмся к человечества началам.
Недавно Дарвин с трона свергнут был:
наш древний пращур - предок обезьяны,
он жрать хотел, хмельного много пил,
к труду не относился очень рьяно,
его так обработали века,
родную "мову" заменив мычаньем,
за пищей по деревьям он скакал
и тело превратилось в обезьянье.
У нас, зверей, есть общий эмбрион
в утробе схожий на начальных фазах,
прогресс есть деградации закон,
искусно скрытый от людского глаза?
Так где же всё ж начало из начал?
Три версии, а этого немного:
вот первая-жизнь нашу Бог создал,
стоят Адам и Ева у порога.
Уфологи свой веский аргумент
нам подают, облив другим всё светом,
что нимб у Бога только лишь фрагмент
скафандра у жильца с другой планеты.
Ликуют снова физики земли -
живем мы по физическим законам,
они создали формулу любви
на первый крик со смертным схожий стоном.
На перепутье снова три дороги,
куда душа стремится, куда ноги?
***
Эколого-политическая фантазия 1996 года
"К южным границам Кустанайской области подошло до 100000 шакало-волков, очень хитрых и жестоких. Это вызвано резким сокращением поголовья овец на юге Казахстана".
Из выступления на республиканском совещании, прошедшем в конце августа 1995 года в Новоселовском охотхозяйстве Кустанайской области. Остальное - плод воображения автора.
Неотправленный донос
Товарищ Первый!
Снова вам пишу,
Среди народа ходят кривотолки:
Разбой творят и прячутся в лесу
Какие-то опять собако-волки.
И верховодит ими сам шакал,
Он был заброшен к нам из-за границы.
Я, слава богу, сам их не видал,
Но от тревоги всё-таки не спится...
Я помочиться вышел на крыльцо
И слышу - наши шепчутся придурки,
Что на шакала чудное кольцо
Повесили китайцы али турки.
А днём шепнул сосед мне - вот мудак!
Он выходил отходы бросить курам,
Что волки разорили Мангышлак,
Сожрали всю обслугу Байконура.
У них в башке какой-то адский план,
Ведь надо зверю так распределиться!-
Вторая стая, взяв Талды-Курган,
Вдруг обошла беспечную столицу.
А мне твердят опять - паши и сей,
Бери землицу в вечную аренду,
Но почему тогда Саддам Хусейн
Вдруг у себя назначил референдум?
На днях мой сват безвинно пострадал,
Он про Ирак рассказывал старухам
И на него вдруг нищий курд напал,
И откусил у свата он пол-уха...
Товарищ Первый!
Тьфу, я что пишу,
Рука сама шурует по привычке,
Не первый годя всё вам доношу,
А слово "Первый" я возьму в кавычки.
Ещё в народе продолжают ныть:
Американцы - Буш там или Картер,
Чтобы Союз наш бывший умертвить,
Придумали на наши беды бартер...
Прошу мне по каналам подтвердить,
Пришла пора служить и внуку Ване,
Солдат не бьют иль продолжают бить,
И делать ли Ивану обрезание?
А за окном какой-то странный шум,
Полкан вдруг захлебнулся в диком лае,
Сейчас проверю, после допишу...
...На этом свой донос он прерывает.
Через три дня регулярные части отбили у волков деревню, в одном из дворов валялся обглоданный скелет мужика, а дома на кухонном столе лежала тетрадь с прерванным доносом. Кто он был - нам неизвестно.
***
Я спешил, спотыкаясь, падал и в бреду повторял слова -
в мире есть Монреаль, Канада, Соловецкие острова.
Я в былом себя вижу в титрах, поразил ностальгии меч,
чья-то тень из печали свита и знакомых податливых плеч.
Не храпи пред вратами Трои сожаления печальный конь,
были травы тогда по-пояс, в сердце жаркий горел огонь
и досталась за всё награда - мне всю жизнь повторять слова:
в мире есть Монреаль, Канада, Соловецкие острова...
1997год
***
слава Богу - взяли в сторожа, благодарность прорывалась в строки,
снизошла удача-госпожа, посылаю ей поклон глубокий,
приземлись, божественная Лира, я прервал на небесах полёт,
судоисполнитель на квартиру за долги повестки строго шлёт...
май капризен словно шансонетка, обрывает с яблонь белый цвет,
промелькнет, как вор, прохожий редкий, зафиксируй в памяти, поэт,
за окошком ветер криминальный, скрип и стук железный у ворот,
свет звезды далёкой и печальной на меня случайно упадёт,
взгляд мой робкий встретит с интересом в бездне соучастием дрожа:
мыть посуду рвались поэтессы, мужики за билом - в сторожа...
27мая 2002года
***
Урок новейшей истории, данный дедом своему внуку
В серый пепел углерод -
согревается народ,
полыхает черный уголь,
без тепла зимою туго,
серый пепел, черный дым,
жарко только молодым.
Хорошо было в колхозе,
согревались шкурой козьей
и курили самосад,
вот такие будни, брат.
От трудов дубилась кожа,
"палка стоя, палка лёжа"*
огонек от серной спички,
вол натужно тянет бричку,
в лампе прыгает огонь,
девок веселит гармонь.
С голодухи щёки блёклы,
натирают щёки свёклой,
пожирает уголь пламя,
озаряет деда память -
ночью, в поле у реки
воровали колоски.
Попадешь - пощады нет,
загремишь на десять лет...
Жернова кручу руками,
зерно сыплю меж камнями,
на краю у грёз и сна
вспомнил вкус я толокна.
- Привезли скоту макуху,
набери-ка впрок,старуха, -
и, усердствуя, с придыхом
набиваем пузо жмыхом...
Говорят - была война,
инвалиды, ордена,
в репродуктор передали -
умер вождь народов Сталин.
Бабы по деревне воют -
что же будет со страною?
"Берия, Берия,
вышел из доверия,
а товарищ Маленков
надавал ему пинков..."
А потом Хрущев народу
дал глотнуть глоток свободы,
спохватился - рано было,
ведь народ не вышел рылом...
Не война, так целина,
цоб-цобе, вперед, страна,
круглосуточно пластай,
почву - ветрами в Китай,
гоп, царица, гоп-ца-ца
блатата и с ней комса!
Что же ждало впереди?
Были новые вожди:
мастер целоваться нежно
был генсек товарищ Брежнев,
вместе с ними правил бал
Суслов - серый кардинал.
Лютовал Андропов - к стенке!
Умер он, пришел Черненко,
умер этот - снова стон,
"пятилетка похорон".
Алкаши, по хатам, тише -
стал генсеком трезвый Миша!
Ставропольский хлебороб
свёл страну без пьянки в гроб
и страну на век грядущий
делят в Беловежской пуще...
И на брата грозно брат
направляет автомат,
в телевизоре видна
там война, то тут война.
Приспособясь, стало в рост
слово новое "блокпост",
рядом с ним, хмурым солдатом,
встал шлагбаум полосатый
и народ с бедой в обнимку
потащился молча к "рынку",
только не поймёшь никак -
где базар, а где бардак...
Если сказочно богат -
значит ты есть демократ,
прокартавил Ленин "архи..." -
появились олигархи.
Призадумались князья:
как бы Бога взять в друзья...
Стали бывшие "персеки"
ныне суперчеловеки,
миль пардон, один момент -
вором стал интеллигент,
кое-где наоборот,
вор с достоинством живёт.
Непорочность - лишь для девы,
нефтедоллары - в Женеву...
Все считают - мы придурки,
учат жить нас янки, турки.
- Как живёшь, Айгуль?
- О кей!
Ай лав ю, ем милкивей...
Память - в топкое болото,
разберись теперь - а кто ты?
Захотели - просто так
расстреляли вдруг Ирак...
Не ищите виноватых,
бог всегда был за богатых,
прочитаешь между строчек -
умирают в одиночку...
Дорогие кореша,
в теле есть ещё душа,
как пришибленная дура
среди нас живет культура.
Так, внучек, из века в век,
существует человек...
Вот такой в стихах урок
преподать дедуля смог,
думы вверил он словам,
прав, не прав - судить уж вам.
* "палка стоя, палка лёжа" - в колхозе был трудодень, отмечался в журнале палочкой, не работающий отмечался как дефис-
***
Оставим разговор о римском праве,
Куда везет народ столетий воз...
Плодом стремится стать любая завязь,
Тучнея, колосится в поле рожь.
Какая рожь!
Шумит, но не в России,
Поют стихом есенинским поля,
Опять авангардист упрек мне кинет,
Что так не пишут, так не говорят.
Что за окошком век-то двадцать первый,
Цена на рынке на любовный стон,
Жить будет клон, он автомат без нервов,
А лирику с любовью - под уклон.
Что и луна всегда была двуполой,
Мужской задор сменяет бабий лик,
Поэт красив, ну и, конечно, молод,
Ему всегда присущ богемный шик.
Что прошлый век прошел под красным флагом,
Могилой для народов стал ГУЛАГ,
Свобода мысли - истинное благо
Бесплатно данных при делёжке благ...
Ушел от спора в мир стихосложенья,
Толкнула Муза вновь на компромисс.
Июнь, жара и Пушкин на мгновенье
Взглянул, мне показалось, сверху вниз...
Сошел незримо, молча с пьедестала,
К реке своею улице пошел,
Был хмурый день, вдруг солнце засияло
И дождь вслепую стороной прошел.
Вода кипела тополиным пухом,
Дурманя млела женщина-земля
И вдруг мне ясно донеслось до слуха:
"Жива еще поэзия моя..."
Шагаю утром улицей поэта,
Я много лет той улицей хожу.
Был день шестой у нынешнего лета
И я его, как праздник, провожу.
***
Где-то белая ночь отгуляла,
Отдых дав ночным фонарям.
Ночь металась, ночь светом играла
И умчалась к синим морям.
Память, память,
Что вновь ты тревожишь,
Боль мою поднимая со дна,
На скаку конь тобою стреножен
И я выкинут навзничь с седла!
Задыхаюсь, мне воздуха мало,
Рвется нежность к просторам твоим,
Эти годы мне тебя не хватало,
Ты был мною до боли любим!
Эту боль надо слушать умело,
Для меня боль звучит как орган,
Ночку черную выкрасьте в белую,
Я за это вам сердце отдам!
В темноте вещи вижу острее,
Отрываю полоску от сна -
Вот он, дивный, чарующий Север,
Стать твоя мне так ясно видна!
...Вот и осень прошла листопадом
Собирать золотистую дань,
У черты между раем и адом
Так остра и болезненна грань...
***
"Не может быть, что это был не он!
Как без него представить эти тени?
И странный свет, и грязные ступени,
и гром, и стены с четырех сторон?
..."
Н. Рубцов
Пропел поэт и песнь была своя,
Заныло сердце от влияния слова -
В ином ключе - прекрасном свете новом
Увидел я родимые края.
Я принял сердцем вологодский край,
Каким ты, сердце, стало моё ёмким!
Все эти километры и позёмки
В себя теперь впрессовывай, вмещай!
И снегопад сменяется дождём,
Вновь душат песни, что ещё не спеты,
И гонят тучи северные ветры,
Не спят ночами, бодрствуя, поэты
И солнца мы, как очищенья, ждём...
***
Привет вам, злопыхатели мои,
растлённые культурой приграничной,
коварство азиатское таит
ваш русский слог, униженный цинично.
Поэзия, ударь в колокола,
очисть от равнодушья твердь земную,
"глаголом жечь сердца нас позвала",
а здесь лишь графомания ликует.
В России вяжут в поле хлебный сноп,
взлелеяло ржаное поле колос,
готовы трепет и души озноб
откликнуться на твой волшебный голос.
Поэзия! Как о тебе твердят
в ковчегах графоманы и кликуши,
потупя взор, о чём они гундят?
А я кричу: - спасите наши души! -
Дрова в костёр, глаголом жечь и жечь,
и пусть всю жизнь мою охватит пламя!
...из прошлого, под свет дрожащих свеч,
когда-нибудь и к вам вернётся память...
***
Дождь осенний тихо плакал, растворясь во мгле сырой,
в конуре сопит собака, на печи спит домовой.
догорающей лампадой, разбросав унылый свет,
прикорнула тихо радость как непрошенный сосед,
из купели полуночной мы из грязи да в князья,
если б знали, как же тошно мне без вас, мои друзья!
Скатерть чистая, в бокалы виноградного вина,
как же мало нас осталось на краю у рва без дна!
Тишина. В ответ ни звука. Ломоть хлеба на бокал,
видно зря в тревожных муках на пирушку вас позвал,
пил за всех, за всех и речи сам себе произносил,
кто-то голову и плечи тяжкой ношей придави.
Голова к столу припала, время билось в циферблат.
одиночество из жала в меня впрыснуло свой яд,
я, к дождю припав, заплакал - тяжело на свете жить,
одинокою собакой на луну по-волчьи выть...
***
Горят сухие, отмершие сучья,
прощальное тепло отдав сидящим людям
и в котелке, висящем над костром,
вода вскипает, покрываясь пеной,
и мошкара сжигает слёта крылья
в взметнувшемся вдруг пламени огня.
Гляжу в костер я в думах ни о чём
и, телом невесомость ощущая,
вдохнул стихи, как рыба кислород,
они витали в воздухе ночном.
В твоих глазах метались два костра
и ты сама как перед взлётом птица,
и я, как часть твоей земной судьбы,
вдруг припадаю к твоему плечу...
Кто разгадает таинство огня?
***
Когда-то здесь солдаты, танки шли,
На их следах теперь цветы взошли
И берега окопов и арыков
В цветов сиянье красок многоликих.
Там, где герои всех нас защищали -
Цветы, как память, кровь повырастали.
Делясь со мной своею вечной тайной,
На кладбищах цветы растут печально.
Солдатский сон, несбыточные грёзы,
Казалось, стерегут в бутонах красных розы
И в касках старых, в горсточке земли
Цветы слезами боли проросли.
Цветы и боль - причина этих строк,
Взамен отца я выросший цветок!
***
...то ли сердце устремилось, то ли разум дал приказ -
Тянет воз трусцой кобыла, лишь поскрипывает наст.
Вдоль дороги ели в шубах, в небе сполохов игра
И целуют меня в губы мои годы-севера.
Спят таёжные медведи, над тропой в засаде рысь,
Мехряки, мои соседи, на вечорку собрались.
Блещут золотом иконы и за свечкой образа,
И стаканов с водкой звоны, и лукавые глаза...
Над трескою кольца лука, тянет песню самовар
Про любовь и про разлуку, подпевают млад и стар...
Тишь, тайга и царство снега, ночь от сполохов светла,
Сколько лет моих, Онега, в океан ты унесла?
Яркой шляпой мухомора лечит недуги все лось,
Мне в гостях быть у поморов этой ночью привелось.
Клюква, с сахаром морошка, на дорогу посошок,
По тайге прошел с лукошком собирая вязи строк.
***
Задуло холодом вдруг резко,
На водоёмах первый лёд.
- Поеду нынче в Перелески! -
Мечтаю я не первый год.
Разложу удочки,мормышки,
Представлю как из глубины
Рывок, в душе дающий вспышку,
Ворвётся ночью в мои сны.
- А там пешком семь вёрст до свата,
В родную Досовку свою! -
Жена плечом своим покатым
Добьёт фантазию мою:
- Ну не размахивай руками,
Кто по ночам так буйно спит,
Или отшибло тебе память,
Что простатит, радикулит?-
Под одеялом тихо съёжусь,
Буду отлёживать бока.
А не с меня ль, Великий Боже,
Списал-то Пушкин рыбака?
***
Весна стартует, набирает силу,
На лицах встречных блики торжества.
Весна меня забрала, закружила,
Куда-то вдаль хмельного завела.
Опять я молод, полон буйной силы
И прошлое как-будто сбросил с плеч.
Опять весь день по улицам бродил я,
Ища нечаянных и ярких встреч.
К тебе, о степь, я на свидание вышел,
Родная степь, ну что я без тебя?
В твоих просторах в детстве я услышал
Зов птицы счастья-голос журавля.
Подвластные природы зову
К своим гнездовьям птицы полетят,
И у меня в приятных муках снова
Родились строчки-дум моих дитя.
Едва родившись - потянулись к свету,
Расправив крылья, просятся в полёт
И вот взлетели, и летают где-то,
Что вас теперь в грядущем ждёт?
***
как колокол, хранящий тишину,
я память ночи, словно скульптор, мну,
пустыней пересохшей жажду влаги,
чтоб выплеснуть стихи на лист бумаги,
свою зарю разжечь готов восток,
туман белёсый ластится у ног,
сорвалась с ветки, сонно вскрикнув, птица,
душа за ней во тьму в полёт стремится,
она была в ночи как - будто аист.
миражный свет с неё, струясь, стекает
и ночь шутя из лунного ведра
плеснула светом женского бедра,
и зашуршала томно снятым платьем,
и заключила в жаркие объятия,
вливая в вены пьяной страсти хмель...
как ты далёк в пространстве,мой апрель!
как колокол, впитавший тишину,
за лунным светом я шагнул к окну...
***
Прочь, прочь,
Прочь от меня!
Черные мысли в черной накидке.
Я в лете своём средь цветочных бутонов,
Мои соловьи поют здесь влюблённо.
Резко повернувшись,
Так, что из глаз посыпались искры,
Увидел свои следы на пути тернистом.
Я тайны свои в стихах ещё людям раскрою,
Ещё не взбодрил своего иноходца камчою.
Я не сержусь на судьбу, не сетую,
Горе моё позади,
О радости в будущем вам всем поведаю.
***
Звезды зачерпну ковшом Большой Медведицы,
Выплесну на алую зарю.
Первому, кто рано утром встретится,
Звездопад на память подарю.
Люди, люди! Жизнь всё же прекрасна,
Высота захватывает дух!
Соглашаясь,за соседним пряслом
Прокричал четырежды петух.
В его песне лишь четыре ноты
Проплыли окутанные сном:
- Господи, как всё-таки охота
Кур топтать и поклевать зерно...
Абдрахман (А. Досов) https://stihi.ru/avtor/abdrahmandoso
________________________________________________
173492
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 09.02.2025, 12:42 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 12.02.2025, 16:45 | Сообщение # 2902 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Синий свет возле детского сада,
в переулочке только свои.
Не ходи этим местом, не надо,
синеватый прохожий любви.
Детский сад называется "Ангел",
есть в нём даже живой уголок.
Как не выйти отсюда врагами -
вот задача для детских голов.
Говорит Серафима Петровна
или радио в ней говорит:
мы с любовью поступим любовно
и как минимум сделаем вид.
Ты, прохожий, навек синеватым
остаёшься для тысячи глаз.
За портьерой взрывается атом,
и лягушки пускаются в пляс.
Но поди объясни простофилям,
по ошибке придя на банкет,
что действительно был этот синий,
первозданный, пронзительный свет.
Где валялись бесхозные доски
и футбольный скакал колобок,
где крест-накрест лежат Строченовский
и Стремянный, и тут же Щипок.
***
На столе мировой закусон,
за окошком война мировая.
Чуть колышется спальный вагон
и на стыках дрожит, обмирая.
Где ирония, там и судьба.
Замелькали зубастые ёлки.
Кто в Москву прибывает с утра,
тот уже засыпает на полке.
Всё раздолье теперь остальным -
на котором очнутся вокзале?
Там с земли поднимается дым,
там и рельсы небось разобрали.
Я поближе придвинусь к тебе,
нам колёса стучат, как копыта.
Погуторим о русской судьбе,
о жокейской судьбе Ипполита.
Может быть, он почует беду
и закается гнать до упора?
Может быть, мы проснёмся на льду,
посредине степного разора?
Но всё катит и катит вагон
с бубенцами небесного лада
в новый год, в новый год, в новый год,
и не кончилась наша баллада.
***
Даниил Александрович здесь,
он сидит за соседним столом.
Ни к чему нынче княжья спесь,
он не будет лезть напролом.
Надо бы накопить сил:
больше денег, земель, людей.
За столом сидит Даниил,
у него завтра трудный день.
Место бойкое тут, однако.
Бармен работает за двоих.
Скидка солидная для баскака,
но не обижен и мних.
Рядом компания празднует:
видно, нездешний люд.
Перед входом привязан
их двугорбый верблюд.
У каждого бритая голова,
хоть кием её катай.
В разговоре мелькают слова:
Каракорум, Сарай.
Москва-городок не так уж мал,
если прибавить леса, луга.
Не так уж больно его пинал
носок татарского сапога.
Вот и тянутся в эту глушь
гончары, хамовники, скорняки.
Телеги плещут грязью из луж,
лодки движутся вдоль реки.
А ещё не все ведь пустились в путь,
на подходе менеджер и дизайнер.
Как бы Москву-то нам растянуть?
Тут нужно княжеское дерзанье.
Пить, грешить да с роднёй собачиться,
вот и всё веселие на Руси.
Даниил за пиво расплачивается
и вызывает яндекс-такси.
И пока он под съёмный кров
едет в железном плену,
перед ним встают семь веков,
прозрачны на всю глубину.
Башни из золота из стекла,
как водоросли на дне,
и лифты, будто колокола,
качаются на струне.
Облака прошил самолёт,
сработанный из ковра.
Тут ещё столько произойдёт,
событий летит гора.
Тут будет и третий, и пятый Рим -
что ты знаешь о первых двух?
А слово дивное "Когалым"
знакомо тебе на слух?
Мы пролетим Живописный мост,
мы крылом взмахнём над рекой.
Перед нами подробная карта звёзд,
не клеймённая ханской тамгой.
Даниил Александрович спит,
ему снится бегущая лань.
У него неприютный быт
и на службе опять дедлайн.
Будущее работает в нём
ночь за ночью и день за днём.
Будущее полыхает огнём
за окном.
***
Война не будет длиться вечно,
конечен счёт её скорбей.
Задумчиво и человечно
ползёт по кухне муравей.
Вот он спустился с ножки стула
и на полу продолжил путь.
Он крана глянцевое дуло
обходит, чтоб не утонуть.
Посмотрим, что у них в пенале:
крупа и сахар, соль и мёд.
Что ожидает нас в финале?
Кто проиграет, чья возьмёт?
Война не будет длиться годы -
и он сквозь щёлочку в окне
выходит в вольный мир природы,
стремясь к покинутой родне.
Песчаный холмик не могила,
а дом, в котором все свои.
"Приятель, где тебя носило?" -
воскликнут братья-муравьи.
И он расскажет им про доты,
про долгий штурм пчелиных сот,
про стрекозиные налёты
и не стемнит, и не соврёт.
Про то, как он бродил по кухне,
отбившись ночью от полка,
как он мечтал, что мир не рухнет,
а только сдвинется слегка,
лишь понарошку и в уме лишь.
Но муравейника сыны
ему ответят: что ты мелешь?
Здесь нет и не было войны.
***
Жил в тоске многоподъездной,
где панель, а не кирпич,
никому не интересный
дядя Женя, старый сыч.
Он обругивал мальчишек,
что с мячом наперерез.
Из-за пенсионных книжек
он ходил, ворча, в собес.
Он доказывал кассирше,
что четыре - дважды два.
Он смотрел на вещи ширше:
вещи больше, чем слова.
Чем бывал он в жизни занят,
толком я не узнавал.
Он сидел. За что - Бог знает.
Он когда-то воевал.
Он переправлялся через
Днепр - и там почти погиб.
Дядя Женя - лысый череп.
Дядя Женя - чайный гриб.
Кто б подумал, что бывают
и такие времена.
Я за тех, кто доживает,
вместе с ними пью до дна.
Я и сам из тех инкогнит,
разбежавшихся волчат.
Хорошо, что нас не помнят,
в дверь ночами не стучат.
А стучат одни костяшки
домино на целый двор.
Вышел в клетчатой рубашке
Дядя Женя на простор.
Впереди в багровой пене
диск садится за рекой.
Позади у дяди Жени
нету тени никакой.
***
Давай разделим Польшу пополам,
как сладкий айсберг киевского торта.
Её, дитя версальского аборта,
пора судить по всем её делам.
Давай разделим Польшу и сожрём,
запьём её горилкой или морсом.
Ты будешь Фридрихом, я буду Щорсом.
А вечерком махнём на ипподром.
Поедем наблюдать за лошадьми,
угоним с кондачка посольский "порше".
Не будет больше рифмы "Польше - больше"
и бигоса не будет, чёрт возьми.
Прости меня, любимая пся крев,
что я делил не то, не так, не с теми.
Но всё же мы пришли к центральной теме
и разделили Польшу, повзрослев
***
Воевали с Польшей
сорок лет подряд.
Стали нищи, тощи,
вот такой расклад.
Гордые панове,
сабли, стремена.
Христианской крови
полная Десна.
Бились не для вида,
вон кругом кресты.
Это дело ж'ида,
чёртовы финты.
Генуя, Антверпен
слали им деньгу.
Чуть ещё потерпим,
надаём врагу.
По кушак увязли
в палевой земле,
но не ихня Вязьма
и не наш Смоленск.
Из-за тына панны
подмигнут не нам,
и небесной манны
не видать панам.
Падают ребята
и встают опять,
чтобы до заката
с Польшей воевать.
Из подзольных коек -
снова в свалку рот.
Кто москаль, кто п'оляк,
сам не разберёт.
И, кресты роняя,
комкая поля,
дыбится родная
общая земля.
***
Я нашарил оранжевый шарик зимы,
он не жжётся, но светит тепло.
Он упруго отскакивает от земли,
на лету выпуская крыло.
Вот он рыжей лисой развернулся в дугу
и с собакой мотает круги.
Вот он медной монетой блестит на снегу,
подбери его и сбереги.
Где студентов и панков гудит мошкара
и пожатьем грозит Грибоед,
одинокий повстанец, не евший с утра,
в пожилую шинельку одет.
Пуховая Лолита пятнадцати лет
к нему тянет язык-леденец,
и запястье ему замыкает в браслет,
и вдоль пруда ведет под венец.
А на Чистом пруду, на вечернем пруду
лёд лимонный звенит тетивой,
и, как детские губы, измазан в меду,
и расчерчен тюрьмой теневой.
А седой Грибоед, деревянных теней
неуклюже ломая узор,
то крадётся за ним, то крадётся за ней,
не решаясь начать разговор.
***
С каждым днём холода на улице всё сильней.
Винегрет можно будет есть ещё пару дней.
А когда поешь, посмотри внимательно сквозь стекло:
там работники расчищают путь в Рождество.
Там с восточного нагорья спускаются вниз
три точки: фокусник, маг, иллюзионист.
Нынче у них нет работы - чёрная полоса,
потому что без них стали приходить в мир чудеса.
Одна остаётся радость для них для всех:
дойти до пещеры, запустить руки в овечий мех.
Погладить вола, не убоявшись его тепла.
Улыбнуться, когда младенец спросит их, как дела.
***
Москва не любит рыцарских турниров,
не слышит зов сигнального рожка.
Железным человечкам на шарнирах
здесь выдавали званье дурака.
Москва не ценит слуг прекрасной дамы
и рыцарям не платит, се ля ви.
Зато она усердно строит храмы,
замешивая известь на крови.
Москва мощна не сталью, а мошною,
в её руке не меч, а колбаса.
Она лелеет слабое, земное,
с молитвой обращаясь в небеса.
Москве присущи квас и кулебяка,
а гордое упрямство не к лицу.
Какой блестящий рыцарь был Шемяка,
но проиграл бессильному слепцу.
Нет, город мой не славен прямотою
ни замыслов, ни улиц, ни речей.
Да я и сам его, наверно, стою,
незлобный балабол и книгочей.
Я научился гнуться, не ломаясь,
побаиваюсь нищих и ментов.
Ложусь пораньше, рано поднимаюсь,
люблю собак, боготворю котов.
Не шевалье, не викинг, не охотник
живую тварь лупить по голове.
Какой ни есть, укромный соработник,
принадлежащий издавна Москве.
Она - мои растоптанные тапки,
в быту строга, на стогнах весела
и никогда не будет делать ставки
на рыцарей Артурова стола.
***
Королевские семьи несчастны всегда,
а шахтёрские семьи прекрасны,
а матросские семьи - слеза как вода,
а актёрские огнеопасны.
И когда Санта-Клаус ведёт под уздцы
своего золотого оленя,
он за флотскую милю обходит дворцы,
где копили тоску поколенья.
Он стучится с подарками в двери квартир,
где нехитрые люди ликуют,
и лобастого шкета зовёт "командир",
а девчонку в макушку целует.
Он садится на стул, достаёт из мешка
леденцы, марципаны, конфеты,
изумрудные серьги, цветные шелка,
луки, дротики, шпаги, мушкеты.
И пока на два локтя не скрылась земля
в непролазной холодной извёстке,
подарить успевает модель корабля
сиротинушке в синей матроске.
Он велит, чтобы смех осыпался как снег -
смех над папертью, смех над колонной -
потому что Господь народился для всех,
кроме тех, кто увенчан короной.
Королевские семьи несчастны всегда.
Санта-Клаус летит над домами,
и пылает, как магний, его борода,
предвещая весеннее пламя.
***
В годы красного террора
расстреляли дирижёра.
В годы красного террора
укокошили певца.
Для апостола в кожанке
много счастья у цыганки.
В годы красного террора
будем смертны до конца.
Время красного террора
предстоит ещё не скоро.
Покорила Терпсихора
просвещённые сердца.
Остроносые ботинки
и "Щелкунчик" в Мариинке.
В печке обер-прокурора
на крови взойдёт маца.
В мире страшном и прекрасном
мы задумались о красном.
Цвет победы и позора
мы продумаем насквозь.
Больше царского кармина
в облаченье Арлекина,
и на пальцах балерины
больше крови запеклось.
Нотный лист поля накроет,
белый юнкер хрипнет "прозит",
белых шариков из крови
тьма на теннисном столе.
Звездочёт читает знаки,
но не фарес и не текел -
красный луч и красный факел
колобродят по стране.
***
Звёзды зимние горят
над тропинкой вдоль оврага.
Кто шагает дружно в ряд?
Камень, ножницы, бумага.
Вязнут валенки в снегу,
интервал четыре шага.
"Всё, я больше не могу", -
камню говорит бумага.
Блещут ножниц лезвия
звёздным светом отражённым.
От окраины жилья
тянет мясом пережжённым.
Нет, бумага, не хандри,
мы несём себя в подарок.
Нас должно быть ровно три.
Пусть запишут без помарок
в дневники, календари:
«Ночью, без огня, без флага
к нам пешком пришли цари -
Камень, Ножницы, Бумага».
***
В ковшах медведиц
молоко со льдом.
Свет посинел.
Корову взяли в дом.
На спрятанных деньгах замёрзли лица.
За печкой, как герой Аустерлица,
Мышь в треуголке
доблестно шурша,
Поблёскивает бусинкой,
Душа
К иконам подлетала троекратно,
Но в пять утра
к хозяину обратно
Вернулась.
Это русская черта -
Влюбиться в жизнь
и мять ее нелепо,
У жизни утром роды принимать,
Со спиртом банку
прятать под кровать,
Картошкой заменить
святую репу,
В мечтах о небе
Бога позабыть,
Смерть топором
весёлым зарубить
И слушать дальше,
как шуршит за печкой
Волк-время,
притворившийся
овечкой.
***
Под кусточком, под мосточком,
посреди лесных болот,
под осиновым листочком
дело Ленина живёт.
Не гремит, не побеждает
гидру, мать её лерней.
Втихаря пережидает,
потому что так верней.
Ходят кони, едут танки,
слышен с неба птичий крик.
Дело Ленина в землянке
зреет, словно трутовик.
Вроде скромное такое,
не припомнится на дню,
но рассыплется трухою
и от искры - быть огню.
Ты в краю заледенелом
не веди учёт обид,
а займись-ка лучше делом,
что само себя творит.
В понедельник ждёт засада,
но суббота к нам добра.
Это - дело Александра,
тут - Ивана, там - Петра.
Кончен век, зарыто тело,
прах развеян, дух утёк.
Сохранится только дело,
как закладка, между строк.
Ты, оставивший пацанство
ради щебета в груди,
руку вытяни в пространство,
покопайся - и найди.
***
Персефона спускается в ад,
верещит под ногами стекло,
и никто в этом не виноват,
просто время такое пришло.
Персефона спускается вниз,
её джинсы синей синевы.
Отступает весёлая жизнь,
выкинь музыку из головы.
Персефона нисходит туда,
где жужжит вагонетки пчела
и чугунное сердце труда
раскалилось, как меч, добела.
На дорожку присядь, не спеши.
Есть о чём потрепаться с тобой.
Серебристым платком помаши
перед тем, как спуститься в забой.
Будет время, из чрева земли
Персефона вернётся назад.
Разговоры, что с нею вели,
наши внуки договорят.
Игорь Караулов https://vk.com/id598443814
____________________________________
173801
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 12.02.2025, 16:47 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 15.02.2025, 18:07 | Сообщение # 2903 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| АНДРЮША
(Из армейской тетради)
Зимой 1983 года Андропов стал «закручивать гайки»: объявил кампанию по борьбе с тунеядцами и разгильдяями. Милиционеры с дружинниками стали требовать паспорта у прохожих на улицах, прерывали показы в кинозалах во время дневных сеансов и выясняли, есть прогульщики или нет? Директора заводов, школ и НИИ лично стояли в проходных и «засекали» опоздавших. Иногда даже фотографировали – для доски «почета».
Докатилась эта волна и до нашей учебной части. Рано утром на контрольно-пропускной пункт неожиданно явился генерал-майор Карелин и, отодвинув в сторону дежурного офицера и выгнав солдат наряда на улицу, с подавленной злостью заявил:
- Я сам сяду за пульт!
Ближе к рабочему часу через КПП боком стали просачиваться изумленные старшие и младшие офицеры, прапорщики и наемные гражданские. Карелин сидел, насупившись, и грозно двигал бровями.
Ровно в восемь командир части решительно нажал на красную кнопку и закрыл вход и автомобильные ворота. Через минуту за ручку стали дергать и чертыхаться.
- Приходить надо вовремя! – взревел в ответ генерал. – Без взысканий не обойдетесь!
Дежурный, поправив бесполезную красную повязку на рукаве кителя, тоскливо глядел в окно: офицеры на улице, услыхав хорошо знакомый бас, стояли кучкой и не знали, что делать. Кто-то закурил от безысходности, а остальные, опустив головы, повернули в сторону панельных домов и холостяцкого общежития. Еще через пятнадцать минут к воротам, неспешно постукивая каблучками, стали подходить дамы: библиотекарь, медички и продавщица в солдатском кафе, в просторечии – «чепке». Сначала они мягко стучали ладошками по железной плите, а потом забарабанили всерьез:
- Вы что там, заснули?
- Это вы слишком долго спите!
Генеральский рык не смутил «гражданок»:
- Неправда, мы на работу не опаздываем.
- Устав надо читать!
- Еще чего. Открывайте немедленно, нас люди ждут!
Генерал-майор держался стойко, но от женской ругани стал покрываться пятнами:
- Всех уволю!
- А мы будем жаловаться! – огрызались дамы.
Минуты через две они, сгрудившись, стали о чем-то шушукаться:
- Валя, иди!
От стайки отделилась статная и всем известная женщина, - зубной врач санчасти и подруга генеральши. Их часто видели вместе: жена генерала в дорогой белой шубе прогуливалась по главной улице с коляской, в которой спала любимая внучка, и всегда весело болтала с врачихой, как водится, по пустякам.
Карелин удивленно вскинул брови: за дверью все затихло. По его лицу пробежала тень, но он не сдвинулся с места. Вдруг у входа послышался шелест и кто-то ласковым, но непреклонным голосом произнес:
- Андрюша, открой ворота!..
Генерал вздрогнул, потом покраснел, как девушка и, помедлив немного, со вздохом сожаления нажал на пульт.
Под громыхающий железный звук вытянувшиеся в струнку солдаты проводили взглядом фигуру Карелина, нетвердой походкой направившегося к штабу. Так они впервые узнали, как зовут по имени «товарища генерала»…
***
ВЫБОР
Мой наивный интернационализм слетел в советской армии быстро, как сухой лист. Солдаты сразу разбрелись по национальным квартирам: гордецы-прибалты сторонились всех, горцы общались с земляками старшего призыва и тут же попадали под их защиту, грузины пристраивали друг друга в каптеры, даже узбеки прильнули к столовой, одни русские служили по уставу.
С местными – то ли украинцами, то ли русскими – мы сталкивались редко, хотя украинские упитанные прапорщики даже на службе отличились скопидомством и своеобразной рачительностью: тянули в хаты все, что плохо или хорошо лежало.
Во время редких увольнительных в разговорах с аборигенами выяснилось, что национальный вопрос тлеет даже здесь, в местности, населенной преимущественно русскими: сюда время от времени высаживался десант из самостийников в вышиванках. Они кричали что-то о незалежной, цитировали Тараса Шевченко, но на них смотрели как на экзотику. Впрочем, и в Богодухове украинская общинность потаенно складывалась и заявляла о себе.
Но по-настоящему с «жовто-блакитными» я столкнулся уже в Киеве и под Борисполем - своей подлостью и ожесточенной ненавистью к русским они удивляли даже гортанных «детей гор». Вести, приходившие из разных военных частей, где заправляли, как мне объяснили, самые настоящие бандеровцы, были ужасны: первогодки там стрелялись, вешались, в лучшем случае просто убегали.
В Киев я прибыл уже «черпаком», но и на втором году службы мне приходилось лезть в драку – «москалей» они за людей не считали.
В бориспольских лесах взаимная ненависть вспыхнула с новой силой: бандеровцы унижали не только солдат, они избили и молодого лейтенанта- «пиджака», чем-то им не угодившего.
Вскоре меня, как и всех, отслуживших полтора года после института, направили на офицерские курсы в Кривой Рог. Между прочим, курсанты там, в большинстве своем, оказались русскими.
Через полтора месяца на плацу стоял огромный «квадрат» из парадных, но видавших виды солдатских мундиров с сержантскими нашивками на погонах - «звездочки» нам могли светить сразу только на сверхсрочной.
Толстопузый и лысый полковник, раздобревший на легкой службе начальника курсов, тяжело переступал с ноги на ногу напротив нетерпеливых «дембелей». Почувствовав, что в строе назревает нецензурщина, он замер, потом выпрямился и гаркнул:
- Товарищи будущие офицеры! У каждого из вас есть прекрасная возможность стать кадровым военным. Кто согласится остаться на сверхсрочную службу, получит офицерские погоны, должность и жилье. Помедлив, он скомандовал:
- Кто желает служить на земле Советской Украины, шаг вперед!
«Квадрат» не шелохнулся. Полковник стал ждать, но из строя так никто и не вышел.
Тогда, в июне 1984-го, мы свой выбор сделали.
***
ЖУЛЬЁ У МОРЯ
У нас с женой оказались на руках свободные деньги. Я продал хорошую машину, и вместе с отложенными на черный день получилась цифра, на которую можно было купить что-то весьма существенное, но что?
Все необходимое было уже приобретено, а сумма жгла руки, обесцениваясь, если верить телевизору, ежедневно и ежечасно.
В голову ничего не приходило, и я от нечего делать решил побродить по родным просторам компьютерной сети. Набрел на сайт «Недвижимость» и оторопел: там предлагались бесчисленные студии и квартиры ни где-нибудь, а в самом центре Сочи, и дешевле, чем в нашем северном городке! Рекламные баннеры зазывали: «Ищете недвижимость в Сочи? Слишком много информации? Сомневаетесь в выборе? - Звоните нам!»
Еще раз все перечитав и перепроверив, я восторжествовал: вот она, мечта, совсем рядом! Как говорится, «жизнь дается один раз, и прожить ее надо в Сочи!»
Получив благословение от супруги, я рванул в главный курорт страны и, купив в газетном киоске справочник, стал выбирать жилье в новостройках. Объявлений было так много, что разбегались глаза, - разобраться мог, пожалуй, только специалист. Пришлось звонить в риэлтерское агентство «Аксона» - его логотипами рекламная книжка была разукрашена вдоль и поперек.
Сотрудник откликнулся мгновенно и поставленной бодрой скороговоркой отрапортовал:
- Здравствуйте, с вами говорит Артем, риэлтор агентства «Аксона». Чем могу быть полезен?
- М-м-м. Мне бы хотелось подобрать небольшую студию или квартиру в центре Сочи на... я назвал заветную сумму.
В сотовом телефоне повисла пауза, затем Артем вздохнул и заметно упавшим голосом произнес:
- Могу предложить студии в районе Мацесты.
Что ж, Мацеста... Это тоже звучит гордо.
- Согласен посмотреть. Где мы встретимся?
- У Старой Мацесты. Как приедете, позвоните.
Легко сказать: позвоните! И где эта Старая Мацеста? Значит, есть еще и новая?
Методом «расспроса и переспроса» удалось выяснить, где эта местность находится, и каким автобусом туда можно добраться. Через сорок минут я оказался на конечной остановке среди развесистых ветвей, мусорных баков и пристроившейся к ним забегаловки с вывеской: «Шашлычок под коньячок».
На мой звонок Артем отозвался не сразу, попросил перезвонить позже. Я в полном одиночестве сидел на старой скамейке у таблички с расписанием, установленной на трубе, опорой которой служил массивный диск от отслужившего свое грузовика. Солнце палило нестерпимо. Через пять минут я зарылся в зарослях, вдыхая ароматы ветвей и бытовых отходов.
Повторный звонок достиг цели: риелтор попросил спуститься с горы к посту дорожной полиции, где он будет ждать меня в машине «Тойота» серого цвета.
«Это недалеко», - уточнил он.
Я стал широким шагом возвращаться назад по уже покоренному автобусом маршруту. Асфальтовые повороты сменяли друг друга, а полицейской будки все не было. Я стал терять терпение, но у самого подножья горы увидел, наконец, и полицейскую проходную, и серую японскую легковушку. Открыв дверь, я плюхнулся на заднее сиденье. Юноша, протянувший розовую ладонь для рукопожатия, оказался типичным представителем поколения мерчандайзеров, брокеров, менеджеров и подобных им риэлторов: в бежевых джинсах, белой рубашке, блестящих очках и в ауре самодовольства, как будто он не зарабатывал деньги, а делал одолжение. Хотя, наверное, мои дензнаки были не столь велики, чтобы вызвать подобострастие:
- Сейчас мы поедем к только что сданному дому, там есть студия в два раза больше, чем вы просили, двухуровневая за те же деньги. Думаю, это то, что вам нужно.
Я кивнул, и мы тронулись по ровной дороге в противоположную сторону от моря. В окне пробегали какие-то лачуги, среди них торчали многоэтажки, затем жилой район исчез, пошли густые зеленые кавказские леса, и через 15 минут мы припарковались у шестиэтажного дома посреди поселка, главной достопримечательностью которого был магазин «Магнит» на другой стороне трассы.
Пока мы поднимались на шестой этаж, я осматривал новостройку изнутри: все было каким-то сиротским, недостроенным, заляпанным краской. Лифт, к моему неудовольствию, отсутствовал, и когда мы вошли в пустую и неоштукатуренную студию причудливой формы, дышать стало тяжело, тем более что в крохотном помещении было жарко, как в сауне.
- А где же второй уровень? - удивился я, разглядев потолок из полиэтилена, подбитый деревянными необструганными досками.
- Там, наверху.
- А как туда попасть?
- Можно пробить отверстие и поставить лестницу.
Меня такой ответ не устроил:
- Как же мне посмотреть верхнюю часть?
Риэлтор, дрогнув, ответил:
- Можно попросить соседа.
Сорокалетний с виду сосед как раз устанавливал железную дверь, напружинившись всем телом и красным перекошенным лицом. Дождавшись конца этого действа, мы попросились к нему.
- Пожалуйста! - с усталой злостью он раскрыл скрипящую дверь, и мы втроем вошли в такую же студию, больше похожую на духовой шкаф.
- А почему так жарко? - спросил я.
- Дерево... Проклятый Сочи! Сто раз пожалел, что переехал сюда из Ставрополя. Здесь глушь, а цены в два раза выше. Надо было сидеть на попе ровно!
- Зато у моря, - неуверенно возразил риэлтор Артем.
- А где оно, это море? Дурак я, дурак! - возмущался и причитал сосед.
Я забрался по узкой самодельной лестнице на «второй уровень» - им оказался обыкновенный чердак с железной крышей и деревянными опорами. Верхнюю «студию» придется еще и отгораживать!
- Понятно, - сказал я таким тоном, спускаясь сверху, что Артем все сообразил, и мы почти побежали по лестнице к выходу.
Там нас встретила длинноногая девушка лет тридцати с выразительными и цепкими темными глазами - я сразу понял, что это еще один специалист по недвижимости.
- Ну как, вам понравилась квартира? - спросила она и взглянула на меня оценивающе.
- Нет.
- Почему?
- Нет лифта, да и вообще...
- А что вы хотите приобрести, и на какую сумму?
Я стал уныло перечислять приметы, оказавшиеся, вероятно, только мечтой.
- Вам нужна студия в центре? - оживилась девица.
- Да.
- Я знаю такую, на Донской улице, со статусом «квартира», это то, что вам нужно! - объявила она.
Мы все сели уже в другую машину, и я, разглядывая по дороге диковинные объездные туннели с ожерельями ламп и медленно вращающимися лопастями огромных вентиляторов, размышлял о нелегком пути к заветным квадратным метрам.
Мы взобрались на очередную гору и остановились около строящейся десятиэтажки. На стройплощадке работа кипела: подъезжали бетономешалки и бетононасосы, в пустых глазницах будущих окон шныряли гастарбайтеры в касках, стучали и гремели механизмы, взвивалась и оседала пыль.
Студия, и впрямь, оказалась почти полным воплощением моей мечты: 16-метровая, на первом этаже, с высоченным потолком, и главное, поразительно дешевая. Портил впечатление только вид из окна: склон, до которого можно было дотянуться рукой.
«Ничего, разобьем здесь клумбу и будем предаваться релаксации», - подумал я и, еле сдерживая радость, стал кивать головой, подтверждая согласие на сделку.
- Это последняя непроданная квартира в доме, - объяснила довольная риэлторша, - вам ее забронировать, под денежный залог?
Я согласился и на бронь, и на предварительный договор, и на все, что предлагали, - в моем воображении недостроенная коробка уже превращалась в уютное семейное гнездышко. Тут я вспомнил о супруге и встрепенулся:
- А если студия вдруг не понравится моей жене?
- Мы учтем это в предварительном договоре. Когда она приезжает?
- Через десять дней.
- Вот тогда и оформим все окончательно.
Я не заметил дороги в агентство недвижимости, так был взволнован.
Агентство находилось в самом престижном месте города, в торговой галерее. Называлось оно «Карат», и по богатству, действительно, могло соперничать с ювелирной фирмой: мраморные лестницы с золочеными перилами, широкие стеклянные двери, просторный холл с белой кожаной мебелью, приветливые молодые сотрудницы в одинаковой форме, дорогие низкие столики, на которых веером лежали буклеты и даже журнал «Карат» с подмигивающей Шараповой на обложке. « - Выбирай, не скупись!» - улыбчиво подбадривала теннисистка.
У меня взяли паспорт и попросили несколько минут подождать. Риэлторы Артем и Елена, - так звали черноглазую, - охраняли клиента, сидя с двух сторон в таких же мягких креслах.
Через десять минут у меня в руках уже был текст договора. Быстро пробежав глазами несколько печатных страниц с мелким шрифтом, я проверил свои данные, потом паспортные регалии продавца. К моему удивлению, продавцов оказалось трое: житель Дагестана, еще один гражданин Грузии и, по доверенности, гражданка России с грузинской фамилией...
- ???
Это для того, чтобы не платить лишние налоги, здесь все так делают, - успокоили меня Артем и Елена.
- Точно?
- Да-да, не пугайтесь, если что, у нас в штате есть свои профессиональные юристы.
Ответ впечатлил, и я со спокойной совестью поставил подпись под документом, отдав под залог несколько красных денежных купюр.
- Поздравляем, мы не сомневаемся, что вашей жене квартира понравится, - риэлторы явно были обрадованы. - Только, пожалуйста, дайте экземпляр договора, мы его сфотографируем для отчета.
Сообразив, что все прошедшие манипуляции были сделаны не за «бесплатно», я протянул свои сшитые и скрепленные печатью листы.
Я шел по торговой галерее и мысленно парил в эмпиреях: я уже почти сочинец! В пакете лежало драгоценное свидетельство успеха, и все вокруг казалось таким ярким и счастливым: и сверкающие витрины, и гуляющие отдыхающие, и даже озабоченные продавцы. Я не утерпел, достал сотовый и стал хвастаться жене, на все лады расхваливая и студию, и дом, и место, где он стоял, и предупредительных риэлторов, и достойное агентство «Карат», и все-все-все!
Жена меня поддержала, и дальнейший путь казался близким и таким же счастливым.
Но вдруг какой-то холодок тронул мое сердце - душу стали «терзать смутные сомнения»... Продавцы из Дагестана и Грузии, «свои» юристы, дешевая квартира... Я нашел свободную скамейку, сел и, наконец, прочел договор внимательно и не спеша. Так... «Покупатель обязуется в будущем купить и принять в собственность квартиру во второй половине следующего года»... Почему во второй? Они же говорили, что в первой... Дальше... «Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, например, землетрясение, наводнение, смерч, пожар и другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, массовые беспорядки, забастовки, запрещения, решения органов власти»... А если решения государством будут приняты?.. Сердце ухнуло вниз и заколотилось... «Помещение без внутренней отделки, с подведенными к нему электричеством, канализацией, холодной водой и газом»... Это что, трубы, батареи и котел устанавливать самому?.. Нервная судорога пробежала по телу. Я поднялся и стал ходить взад-вперед, лихорадочно соображая, что же делать.
«Свои юристы»... Нет, к ним соваться нельзя, надо искать человека со стороны. Схватив пакет, я большими шагами стал двигаться по улице, читая вывески слева и справа... «Независимое юридическое агентство»... Отлично! Проскочив несколько ступенек ввысь, я оказался на третьем этаже, у кабинета нотариуса. Постучал и вошел в простенькое помещение со столом и компьютером, у которого сидел молодой человек в темных брюках и в белой рубашке, но совсем не похожий на ровесников - в его лице просматривалось редко встречающееся сейчас деловое спокойствие.
Мы поздоровались, я достал из пакета договор и, путаясь в терминах, стал объяснять, в чем заключается мое дело.
Юрист, терпеливо выслушав дилетантскую речь, стал по абзацам проверять текст.
- Здесь нет точной даты передачи квартиры в собственность, - сказал он.
- И что это означает?
- Квартира будет построена, а документы на нее придут, если придут, через два-три года, а то и пять. Сходите или позвоните в агентство, выясните точную дату.
- Хорошо, я позвоню, - я совсем скис.
Нотариус поднял на меня все понимающие глаза:
- Вам предъявили хотя бы копии разрешения на строительство и кадастрового паспорта?
- Нет, а это важно?
- Дело в том, что в Сочи разрешение на индивидуальное жилищное строительство дается только на три этажа, а строят, кто пять, а кто и десять-двенадцать. Потом по суду все это ломают. Таких домов сейчас в городе свыше тысячи. Здесь так часто делается, много сомнительных фирм.
- А «Карат»?.. Это надежное агентство?
Молодой юрист помолчал и продолжил:
- Сходите в кадастровую палату, возьмите копии паспортов на дом и на землю, тогда и решайте.
Узнав адрес, я спросил:
- Сколько с меня?
- Нисколько. Консультации я даю совершенно бесплатно.
Потрясенный, я искренне и сильно пожал руку настоящему юристу и побежал по улице Навагинской к палате, в которой лежали ответы на мои самые больные и горячие вопросы. В окошке приняли квитанции, проверили паспорт и сообщили, что справки будут готовы через десять дней... «Как раз к приезду жены!» - поразился я.
Оставшиеся дни текли медленно, как речка за окном частной гостиницы, где я остановился. Воспоминания и размышления о происшедшем все более убеждали в том, что я влип, и влип основательно. «Квартиры точно не видать, да и залог не вернут, - мыслил я, - и что скажет жена?..» Картина скандала терзала сильнее всего остального.
Дождавшись даты, я ранним утром уже стоял у кабинета N 12-б сочинской кадастровой палаты. Предчувствия меня не обманули: разрешение на строительство было выдано только на три этажа, а земля и вовсе оказалась под арестом! Дальнейшие мои мытарства в агентстве «Карат» лучше не описывать - и сотрудники, и реакция на отказ от договора, и даже стены, переставшие блестеть, - все уже не казалось таким цивильным, как прежде. Правда, мне удалось выцыганить залог, но с каким боем!
Жену я встретил вечером, рассказал, как все было, и мы, погоревав немного, прыгнули в море - смыть мой позор.
Когда короткий отпуск закончился, мы сели в такси и поехали в аэропорт. «Деньги пригодятся и так, все в кризис дорожает, а часть суммы отнесу в храм», - думал я, посматривая на наезжавшие по сторонам рекламные щиты.
«Сдается жилье у моря! - зазывно кричали надписи. - Покупайте жилье у моря!»
Ну-ну...
***
ВИДЕНИЕ
Пономарь Преображенского храма Алексий с утра был сам не свой. Вчерашний вечер убил известием: тяжело ранен зять, майор, лежит в госпитале. Дочка чуть с ума не сошла, хотела сразу ехать, но отговорили. Надо все разузнать, а то в спешке можно наломать дров, время сейчас такое…
«… И Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков», — возгласил малую ектению отец Николай, настоятель, протоиерей, — строгий, иногда слишком, но, к счастью, отходчивый. Перед началом службы Алексий, подавая поручни, замешкался, и получил замечание. Теперь держи ухо востро…
«Ох уж эта война! — думал пономарь. — Поначалу патриотический угар: «Шапками закидаем!», «За три дня сомнем!» И вот уже не три дня, а третий год солдаты гибнут, мёрзнут и болеют в окопах и в блиндажах с крысами, а в столице богачи как с цепи сорвались, гудят по ресторанам, да по интересным заведениям. Ещё бы! Кому война, а кому мать родна… Снарядов не хватало в первый год, казенную мошну растрясли знатно. И воровство, и взяточничество огромное. Особенно банкиры жируют. Как же я ненавижу это ненасытное племя!..»
«Яко да под державою Твоею всегда храним…» — чуть не сипел отец Николай от воодушевления, а пономарь, хоть и не положено, тем более в алтаре, но никак не мог избавиться от беспокойных мыслей:
«Цены растут на всё. Дикая усталость на фронте, ропот в тылу. Особенно страдают жёны мобилизованных. А Государственная Дума не думает, а играет да красуется перед избирателями. И Верховный… говорит и говорит, всё у моря отдыхает, живёт в каком-то сказочном неведении, у него все хорошо. А у нас?..»
— Восстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу…
«Изо всех сил молимся, и днём, и ночью, мечтаем о ней! — затрепетал Алексий. — И когда она придёт, эта победа, доколе ждать её, Господи?..» Помянник убиенных воинов, который он читал каждую службу и на панихидах, рос как на дрожжах. И сейчас среди прихожан, заполнивших храм, — да так, что не помещались в притворе, толпились даже на паперти, — стояли казаки, скоро и им на фронт.
Из алтаря торжественно вынесли Чашу:
— … И причет церковный, братию святого храма сего, казачество, сестричество (сестрички в белоснежных фартуках с красными крестами на груди теснились тут же, в женской части храма), вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки веков.
Алексий молился у Престола, как никогда! Под громкий и густой бас дьякона: «Главы Ваша Господеви приклоните!» он наклонил голову и, выпрямившись, вдруг узрел в сиянии под главной иконой странную и невероятную картину в движении: пожары, взрывы, летящие самолёты, ползущие танки, сжимающиеся в страхе лица власть предержащих, и огонь, кругом огонь… А в центре видения — чей-то широко раскрытый окровавленный рот! И только укоризненный Лик Спасителя был недвижим…
Пономарь внезапно осознал, что скоро, совсем скоро, через несколько месяцев, в России грянет жестокая, небывалая смута…
— … Камилавку!
Алексий очнулся и с ужасом увидел мелко дрожащую от возмущения седую бороду протоиерея. Пономарь засуетился и подал убор… не той стороной.
— Это ещё что такое? — голос отца Николая зазвенел. — Алексий, человек Божий, что с тобой?!
— Простите, отче!
— Бог простит.
Шёл тысяча девятьсот шестнадцатый год…
Николай Устюжанин
_________________
174023
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 15.02.2025, 18:08 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 17.02.2025, 16:25 | Сообщение # 2904 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| О цветах и женщинах
Мы знали друг друга с младенчества. Его, как и нас, родители отправляли на лето в деревню, к бабушке и деду. Отличался от нас он только одним: он был слепой. Совсем слепой с самого рождения. Время от времени он гулял с нами, ходил на пруд и даже в клуб. На пруд особенно часто, он очень любил купаться.
В принципе, мы к нему неплохо относились. Правда, иногда кто-нибудь из нашей братвы, пользуясь его незрячестью, мог отвесить ему поджопник. Ни за что, просто так, для веселья. Он, надо отдать ему должное, не обижался, а со временем даже научился быстро реагировать на пинки и резко отвечать взмахом ноги. Периодически преуспевал, и известите об этом, вой обидчика пополам со смехом, доставляло ему самое искреннее удовольствие.
Дети вообще довольно жестокие зверушки, и насилие — одно из их любимейших развлечений.
К берегу я или кто-то другой подводили его за руку, дальше он справлялся сам. Плавал он замечательно, держался на воде, как поплавок. Видимо, тому помогало его телосложение, был он легок, тонкокостен, воздушен. А его слепота и беспомощность на суше даже усиливали это ощущение, придавали нашему другу свойства нездешние, почти небесные.
Он уплывал метров на пятьдесят — сто от берега, ловкие и уверенные движения его напоминали дельфиньи. Даже кожа его, мокрая и гладкая, тоже напоминала кожу дельфина.
Когда он хотел выйти на берег, то на всякий случай кричал нам: «Э-эй!» И мы отвечали ему: «Сюда!» Или, если было настроение: «Пошел отсюда! Не хрен делать, полы покрашены» Он, ориентируясь по звуку, легко ловил нужное направление и отыскивал пляж. Впрочем, бывали случаи, когда ребята, тоже плававшие в это время по пруду, кричали ему: «Сюда!» Он неплохо ориентировался в пространстве и чаще всего представлял, откуда приплыл, работал внутренний компас, и в таких случаях он замирал, а потом с неуверенностью плыл на ложный призыв. Иногда его могли так гонять по пруду минут десять, а то и больше. В итоге мы, смилостивившись, хором кричали с берега: «Хорош прикалываться, пацаны! Сюда! Мы здесь!» Хор голосов убеждал его в правдивости наших слов, и он уверенно плыл к нам.
Мы не сразу вмешивались в эти игры, давали желающим возможность поводить его за нос. Дети жестоки, я говорил.
Он не обижался. Он жил, радостно воспринимая то, что оставила ему жизнь, не отвлекаясь на то, что она у него отняла.
— Слушай, а как ты воспринимаешь цвета? — спросил я его, когда мы лежали на берегу, подставив лица и животы июльскому солнцу. — Цвета, это…
— Я слышал про цвета, — ответил он.
Он лежал с закрытыми глазами, лицо его, и без того всегда тонкое и даже чуточку бестелесное, как у ангела, сейчас было особенно далеким.
— Мне пытались объяснить, что это, но я… — Он расслабленно взмахнул кистью, похожей на плавник. — Я ничего не понял.
В пруду с брызгами и воплями бегали девчонки. Слышался визг, мокрое шлепанье мяча, крики «подавай», «принимай». Я наблюдал за ними. Мне было тринадцать. Я недавно открыл для себя, какой интерес могут представлять девичьи выпуклости и впадинки, и с увлечением ловил каждую деталь возни, каждый поворот юных юрких тел своих сверстниц.
— Как бы тебе объяснить… — рассеянно начал я.
Брызги летели веерами, взлетали высоко, тряпочки на бедрах и грудях девчонок натягивались, бугрились, шли интригующими складками…
— Вот ты что в жизни любишь? — спросил я, не отрываясь от игр на воде.
Присоединиться к девчонкам я не решался, я и тогда, да и сейчас остаюсь довольно робким в отношении противоположного пола, поэтому наблюдал, делая вид, что смотрю в сторону, на ток, обосновавшийся на противоположном берегу пруда, облака — растрепанную невесомую вату на синем фоне, кусты черемухи по соседству с пляжем.
— Я воду люблю, — сказал он.
— На море был? — спросил я.
— Был, два раза в санатории. Меня в Евпаторию по путевке отправляли.
— Синий — это море.
Я отвлекся от девичьих игр и задумался о том, что цвет моря не вполне синий, скорее сине-зеленый, но решил, что объяснять все эти тонкости — дело слишком сложное.
— Синий — это море.
— Соленое?
Я задумался, сочетаются ли у меня в голове понятия «соленый» и «синий», и решил, что скорее да, чем нет.
— Да, соленое.
Я уронил голову назад.
— Еще синий — это небо.
— Небо… — повторил он эхом.
— А зеленый? — спросил он.
— Зеленый — это наш пруд, — ответил я, глядя на зеленую гладь передо мной и вместе с тем удивляясь, что брызги, которые расшвыривают девчонки, не зеленые, а светлые, прозрачные.
— Еще зеленый — это цвет листьев, травы…
Он похлопал по траве своей рукой-ластом.
— Да, мне говорили.
— Белый… — начал я.
— Белый — это снег. — Он засмеялся, словно ученик, вспомнивший правильный ответ раньше, чем учитель успел задать вопрос.
— Но снег…
— Снег — это вода, — заявил он. — Физика, агрегатное состояние вещества.
Меня всегда смущало его знание физики, математики и остальных предметов, которые мы изучали в школе. Мне отчего-то казалось, что слепые должны изучать какие-то свои, отдельные, «слепые» науки, мало похожие на наши.
— Я тоже хожу в школу, — заверил он меня.
— Не, я в курсе… — попытался оправдаться я. — В общем, белый — это снег.
— Но снег, по ощущениям, вообще не вода.
— Так белый и не цвет. Белый — это отсутствие цвета.
— Но Ньютон, пропустив солнечный, белый луч через призму, разложил его на спектр.
— Тут сложно все, — согласился я. — Солнечный свет не белый. Солнце — желтое, теплое.
— Теплое…
— Желтый — теплый цвет. Тебе вот тепло сейчас?
— Да.
— Это желтый. Солнце желтое.
— Желтое…
— Да, ослепительно желтое, так что невозможно смотреть.
— Почему невозможно смотреть?
— Больно глазам.
— Это как?
— Ну что ты как ребенок? Элементарные вещи объяснять нужно.
Я разозлился. В принципе, я давно замечал, что при общении с ним раздражаюсь куда легче, чем со здоровыми.
— Да не злись ты так. — Он пошарил по траве, нашел мою руку, похлопал. — У нас в интернате говорят: «Кто злится, тот слился».
Странные его шуточки из обихода слепых раздражали едва ли не больше, чем его превосходство там, где мое зрение не могло дать мне преимущества.
— Кто слился? Я слился?
— Да хорош тебе.
Мы молчали минут пять.
— А что, девчонки, когда смотришь на них, интересные? — внезапно спросил он.
Хотя как «внезапно»… А куда я еще мог смотреть во время их возни у берега? Когда их тряпочки намокли и облепили все, что можно и нельзя видеть с непередаваемой очевидностью. Я некоторое время молчал, переводя взгляд от него к девчонкам и обратно.
— Офигенные, — приглушив голос, сказал я.
— Они и на ощупь офигенные, — улыбнувшись, ответил он.
— Да хорош! Откуда тебе знать?
В груди у меня заныло. Как мог он, калека, узнать что-то, чего я, молодой-здоровый, все еще не попробовал?
— У нас в интернате и парни, и девчонки учатся.
Задать следующий вопрос было равносильно признанию поражения.
— И что, у тебя было чего с ними?
— Целовались, — снова улыбнулся он.
— На ощупь? — мне было обидно, я съязвил.
— Когда целуешься, глаза не нужны, — не обидевшись, сказал он.
— И ты… Прям трогал ее?
— И она меня трогала.
— Что, везде?
— Везде.
— И сиськи трогал?
— И не только.
— И внизу?
— Ага.
— И как там?
Мне было ужасно стыдно, что я задаю такие вопросы, что признаю свою девственность, свое необщение с девушками.
— Там… Там тепло и влажно.
Мне прямо по лицу хлестнул резиновый мокрый мяч, и это произвело эффект взрыва. Я вскочил, заорал, выплеснул груз корявых неумелых матюков и ударом ноги отправил мяч куда-то прямо в ослепительно голубое с ярким шаром солнца в зените небо. Мяч летел, уменьшаясь в размерах, потом, словно устав, стал забирать ниже и, совсем обессилев, шлепнулся на середине пруда.
Выплеснув эмоции и отдышавшись, я снова лег на траву.
Он, услышав шевеление устраивающегося на земле тела, спросил:
— А красный? Красный какой?
— Красный — это злость, — ответил я. — Ярость.
— Ага…
— Еще красный — это кровь.
— Кровь… — эхом повторил он.
— Да, кровь. Я недавно с мопеда упал, вся нога…
Он приподнял кисть над травой.
— Мне недавно голову камнем пробили. Какой-то дебил кинул камень, попал мне по голове. Текло по лбу, глазам. Горячее, липкое. Кровь. Красное?
— Да, кровь, красное.
***
«Слышишь ли ты все это?»
Отыграли спектакль. «Тараса Бульбу». Поблагодарил актеров. Отсиделся у себя в кабинете, дождался, пока все разойдутся. Курил, курил… Руки дрожат, еле успокоил. Люблю эту постановку, но каждый раз, когда смотрю, обычно сверху, с балкона, у меня по венам словно металлические проволочки ходят. Тонкие, царапающие. После спектакля выхожу, будто меня изнутри с хлоркой вымыли — пустой, отравленный, но чистый. Сложно.
Сегодня было особенно сложно. Незнакомая женщина в ВК написала, что мой школьный приятель погиб на Украине, на Харьковском направлении. Прочитал и затрясся. Написала, что он всегда следил за моим «творческим путем», так и написала эту нелепую фразу — «творческим путем», ходил по возможности на все постановки, но ко мне подойти стеснялся. Только дарил актрисам цветы и аплодировал до последнего.
Я попытался вспомнить его. Лицо очень обычное, незапоминающееся. Глаза как глаза, нос как нос... Роста не высокого, не низкого, на физре всегда стоял где-то в середине строя. Учился с тройки на четверку. Не выделялся ничем. Класс у нас был жесткий, но он никогда никого не давил и его тоже не травили. Вспомнил, что на конкурсе строя и песни он ходил с таким целеустремленным видом, что об него, как о корпус корабля при спуске на воду, можно было разбивать бутылки с шампанским, и он, казалось, даже не заметил бы этого.
А в остальном ничего запоминающегося.
Хотя нет. Вспомнил, как в пятом классе, когда нас заставили учить наизусть отрывок из «Тараса Бульбы», он с каким-то совсем отчаянным выражением воскликнул у доски: «Батько! где ты? слышишь ли ты все это?» Меня мороз по коже тогда продрал. Очень отчаянно вышло у него: «Батько, слышишь ли ты все это?»
Плохо мне стало, когда вспомнил о нем.
Стал открывать ящики стола, пока не обнаружил в одном бутылку водки. Маленькую, чекушку. На выпуклом боку смайликом выгибалась металлическая рыбка.
Вышел на улицу и, чувствуя, что ноги не несут, сел на лавку прямо перед театром. Час поздний, вокруг никого. Сел, достал бутылочку, тру пальцем, осязая металлическую рыбку, смотрю бессмысленно в плитку под ногами.
Даже сидеть тяжело. Лег на лавку, лежу под ночным небом эмбрионом-переростком.
«Батько, слышишь ли ты все это?..»
Под «всем этим» у Гоголя подразумевается хруст костей, журчание ручейков крови, глухой стук топора, вонзившегося в дерево плахи, отрубившего руку, ногу, голову…
Вспоминаю тот давний урок литературы: как окатило холодом, как пошла наждачными мурашками кожа на затылке и шее…
«Батько!..»
Все во мне вспухает и не в состоянии уместиться внутри, выплескивается бугорками на коже.
«Слышишь ли ты…»
Волоски топорщатся по телу, будто на щетке, прямые, жесткие.
Я, двенадцатилетний, вдруг понимаю, как страшно может быть слово. Слово написанное и произнесенное.
Да, наверное, именно тогда я это и понял. Силу слова. Силу мысли, облаченной в слова и звуки голоса.
«Слышишь ли ты все это?..»
Вспоминаю, как услышал наяву хруст костей, чавканье топора, звук капель казацкой крови о камень.
Почему я только сегодня вспомнил и осознал это? Сошлось. Сегодня сошлось. Его смерть. Его монолог из «Тараса Бульбы». Спектакль.
На спектакль, к слову, ходят. Нерв, воспаленный уже двадцать лет, влечет зрителя к постановке.
Я лежу на лавке, смотрю в небо, там месяц, он изогнут, как рыбка на моей фляжке, как казацкая сабля Тараса Бульбы.
Не будь того монолога в пятом классе, я, может, и не стал бы режиссером, доходит до меня. Мурашки по затылку и вдоль позвоночника, животное распознавание правды, звериное познание мира.
Теперь тот, кто дал мне это понимание, зарыт в землю, если зарыт, на Харьковском направлении. Человек почти без свойств, от которого только и остался монолог в пятом классе.
Холодает. Месяц плывет над крышей театра. Очень тихо. И в этой тишине мысли звучат особенно громко.
Я быстро пью из фляжки.
Водка на пустой желудок ложится огнем, но боль тут же сменяется тоской и покоем.
Вот смотри, говорю я себе, отпуская фантазию, закрывая глаза и подтягивая колени ближе к подбородку, а вот если б он сейчас пришел сюда, с развороченной грудью или, может, со снесенной половиной черепа, а может, обгоревший до черноты, что бы ты сказал ему? Сказал бы что-то? Или в ужасе убежал?
Нет-нет, отвечаю я себе. Я бы пожал ему руку, пусть даже это будет не рука, а ошметки, пусть сожженную, но обязательно пожму и скажу, что я не стал бы никем, если б однажды на уроке литературы не услышал, как он читает отрывок из Гоголя. Тогда, на уроке, ничего не произошло, и, тем не менее, произошло все. И поэтому спасибо тебе.
Светает. Холодно. Месяц, белый, будто смертельно уставший, все еще висит над театром.
На афише — «Тарас Бульба», на стеклах роса.
***
Утро
Сквозь задернутые оранжевые шторы — солнце. В комнате солнечный полумрак. Я встаю, тихо одеваюсь, сын спит. Белые тонкие волосы его взлохмачены, маленькая пятерня лежит на подушке, рот полуоткрыт, на лбу чуть заметная испаринка. Я открываю окно, впускаю внутрь свежий воздух. Шторы оставляю задернутыми. Солнце скоро уйдет, но пока оно бьет прямо в окна. Смотрю на красный гвоздик градусника на бревенчатой стене. Шкала, отпечатанная на бумаге, выцвела, цифры и деления едва видны.
— Двадцать восемь, — говорю беззвучно и шире открываю окно за шторой.
Сквозь дверь просачивается запах жарящихся на кухне блинов. Моя мама уже вовсю готовит. Запах густой, очень узнаваемый, безошибочный. Ничто не пахнет так, как жарящиеся блины.
Печь блины, какие пекла моя бабушка, не могла ни одна из ее дочерей или внучек. Ни одна. Они спрашивали рецепт, следили, как она готовит эти самые, даже не блины, блинцы, блинами у нас в деревне называли толстые, дрожжевые лепешки, но никому, ни одной из дочерей и внучек не удалось повторить их удивительного вкуса, легкости, прозрачности. Ах, эти бабушкины блинцы! Тонкие, как тетрадный лист, поджаристые, с дырочками и хрустящей корочкой по краям, невероятно, неповторимо вкусные. Виной ли тому чугунная сковородка, поросшая коркой угольного цвета нагара, а может, местная вода, или яйца бабушкиных кур, неизвестно. Бабушка ничего не скрывала, показывала, объясняла, но нет, никто не повторил это чудо.
Впрочем, моя мама тоже замечательно печет блинцы. Тоже тонкие, с корочкой, дырочками, пахучие.
Их запах сейчас тихо-тихо и прокрадывается в нашу комнату.
Я хочу открыть дверь, но останавливаюсь. Смотрю на сына, его ладошку, пальчики с тонкими, как лепестки, ногтями, полуоткрытые губы, чуть вздрагивающие веки — очевидно, что-то снится, — лямку маечки, сползшую набок, сбившееся одеяло. Солнце — отчаянно яркий круг проступает на фоне штор. «Оранжевое солнце, оранжевое небо…», вспоминаются мне слова детской песни.
— А знаешь, — почти вслух говорю я сыну, — ничего лучше у тебя в жизни уже не будет. Поверь. Ты просыпаешься, за окном лето, сейчас каникулы, ты у бабушки, и она печет блины. Поверь, ничего лучше уже не будет…
-----------
Мне одиннадцать. Я просыпаюсь. Я в деревне. Комната залита светом из двух окон. Одно, рядом с бабушкиной кроватью, еще зашторено. Другое — открыто. Колька, мой двоюродный брат, сидит на подоконнике и читает. Мне одиннадцать, ему десять, мы обожаем Фенимора Купера. Он читает «Следопыта», а, может, «Пионеров». «Пионеры» — скучны, «Следопыт» — великолепен. Мы в восторге от Натти Бампо.
Я поворачиваюсь на скрипучей раскладушке — что за ирод сделал их такими шумными? — гляжу на Кольку. Он кидает на меня быстрый, очень серьезный взгляд и снова возвращается к книге. Ему не до меня.
По комнате плывет запах блинцов, что печет бабушка в горнице. Запах пробрался через сенцы, каким-то немыслимым образом преодолел прочно всаженную в створ, оббитую тряпками, а поверх них клеенкой дверь и проник сюда.
Я точно знаю, что Колька уже поел. Он деревенский, встает рано. А мы, я и мои двоюродные сестры Иринка и Оксанка, что спят в другом конце комнаты за занавесками, городские. Мы встаем поздно, капризничаем больше и охотней.
Я не знаю, какой мед самый светлый — липовый, акациевый, но сейчас, когда я вспоминаю те свои пробуждения, мне кажется, что комната была наполнена медом, светлым, сладким, в котором я хотел бы остаться, как мушка в янтаре. Как-то остановить время, сломать ход вещей, сделать что-то невозможное и остаться там, в солнечной комнате, где пахнет бабушкиными блинцами, где лето, впереди непрочитанный Фенимор Купер, через час мы пойдем купаться на Лягушачий пруд, вечером отправимся рыбачить на Коровий, поймаем на двоих с братом штук двадцать карасиков, бабушка пожарит их, и мы вчетвером с сестрами, под ее вздохи — «ой, жуйтя лучше», «ой, не подавитеся» — съедим, прожевав и не подавившись, этих мелких, с коричневой корочкой рыбешек, сочащихся сладким соком, с хрустящими хвостами и плавниками, потом будем играть в карты на терраске, потом смотреть фильм после программы «Время», потом настанет черед долгих разговоров и историй на наших раскладушках, каждый расскажет, что прочитал, или случай из жизни, и все это под сонные страдающие вздохи бабушки, «ох, когда ж вы уйметеся, когда ж угомонитеся», потом, когда все мы начнем зевать, а кто-то, обычно Оксанка, как самая младшая, даже уснет, разойдемся по кроватям и раскладушкам, чтобы утром снова все повторилось, и нет для нас большей радости, лишь бы крутилось это прекрасное колесо летних каникул, лишь бы мелькали дни, ловилась рыба, грело солнце и жарились бабушкины блинцы…
-------------
— Это самое счастливое время твоей жизни, поверь, — шепчу я, стоя у двери, моему спящему сыну.
Колька умер первым, бабушка пережила его на восемь лет. Бабушкин дом рушится. Кто-то разворотил заднюю стену, развалил печь, вытащил все железо.
Я часто вижу сны о доме, они мучают меня, дом пропадает.
И поэтому я смотрю на спящего сына и шепчу:
— Запомни, это самое счастливое время твоей жизни… Запомни, это самое счастливое время…
***
Она ничего не помнит и никогда не плачет
Дело было в пятидесятых годах двадцатого века.
Она работала уборщицей в сельской школе. Одевалась, как мужик. Ходила в кирзачах, штанах и рубахах. Курила «Беломор». Отсидела. Лицо грубое. В общем, из тех, кого называли баба-мужик.
Другая — директор нашей сельской школы. Вы знаете, что такое директор школы в селе в пятидесятые? Это та, при входе которой в класс даже у восьмиклассников, стоящих на учете в детской комнате милиции, сипло горло и холодели пальцы.
Одета строго. Юбка черная, до середины коленей. Пиджак. Под ним белая, так что больно глазам, блузка. Волосы забраны в тугой, как граната-лимонка, пучок на затылке. Идет по школе, печатая шаг, половицы отзываются гулом и скрипом. Все время хочется посмотреть, не оставляют ли ее туфли на невысоком толстом каблуке отпечатков на крепких дубовых досках.
И та, что в кирзачах с беломором в зубах, и та, что в туфлях, жили вместе, хотя родственницами не были. Слухи по селу шли, но покажите мне село без слухов.
Вечером субботы дама в штанах и рубахе шла в магазин, покупала бутылку водки, выпивала ее с мужиками за магазином, потом покупались еще и еще поллитры.
Раз в две-три недели парни нашего села грузились в ЗИЛ и ехали в Круглое или Золотуху бить местных.
Иногда удавалось, иногда — нет.
Иногда золотухинские или круглинские, вооружившись цепями и черенками лопат, приезжали к нам. Случалось, что в клубе наших бывало не так уж много, случалось и достаточно для отпора. Но в любом случае на следующей неделе к недругам отправлялась ответная делегация с цепями и колами.
Она, та, что с беломором, то и дело возвращалась домой среди ночи избитая. Иногда настолько, что потом несколько дней отлеживалась дома и ее обязанности по приказу директора брали на себя ученики.
— Ты хоть что-нибудь помнишь? — спрашивала директриса, присаживаясь на край постели уборщицы.
— Ничего, — отвечала та, ворочая разбитыми губами, но улыбаясь.
— Однажды тебя убьют.
— Здоровьица у них не хватя.
Мужики, ездившие вместе с ней в Круглое или Золотуху, выпивая на следующий день у магазина, мимоходом спрашивали друг друга:
— Как она?
— Привезли вроде живой.
— Живучая.
— Морду ей разбили сильно.
— Нечего было таскаться с нами.
— Нечего… Ты видел, как она машется? На моих глазах двоих положила.
— А потом, я видел, вся морда в кровянке.
— Плакала?
— Она никогда не плачет.
Через два-три дня уборщица возвращалась в школу. Топила печь, мыла полы, выносила мусор.
Но приходила суббота, и все повторялось. Чаще без последствий, но иногда она возвращалась, и лицо ее было словно обляпано раздавленной полевой земляникой.
— Что было? — привычно спрашивала директриса.
— Я не помню.
— Не помнишь… «Не жалею, не зову, не плачу».
— Не верь, не бойся, не проси.
— Нам надо уезжать. Однажды тебя убьют.
В глазах директрисы шевелился огромный страх.
Такой ученики и учителя не видели ее никогда.
— Нам нужно уезжать.
И вот однажды жарким летом, когда провода разогревались так, что провисали чуть не до земли, она показала уборщице в кирзачах письмо, сообщавшее, что ее готовы взять завучем в столичную школу.
— Как устроюсь, вызову тебя, приезжай, — приказала директриса.
В октябре уборщица, как была, в кирзовых сапогах, штанах и клетчатой рубахе, зажав в зубах окурок беломора, отправилась в Москву.
Впрочем, директриса напрасно надеялась, уборщица не прекратила драться и там.
Она лежит на нашем кладбище, и в селе ее знают как ту, что ничего не помнит и никогда не плачет.
***
Внучка приехала
Ночью на виноградник села стая скворцов, и утром ни одна птица не взлетела.
Никто не видел, как стая садилась, но утром вся земля меж рядами была устлана мертвыми птицами. Перья их, черно-радужные, в белую крапинку, словно осыпанные бриллиантами, играли под утренним солнцем, диссонируя с неподвижностью маленьких телец. Глаза птиц были открыты.
— Должно быть, стая где-то склевала ягоды, опрысканные ядохимикатами, — сказал Роальд, агроном.
— А сюда прилетели умирать? — мимоходом задал я вопрос.
— Нам просто не повезло, Андре. Прими это.
Я поднял за крыло одну птицу, и крыло широко развернулось, являя богатство оперения, позволявшее скворцу так прекрасно чувствовать себя в небе.
Большое небо Арденн разогревалось. Пот тек по моей спине.
«Надо худеть, — подумал я и тут же сам себе ответил: — Да какого черта? Мне жить осталось, может, полкалендаря, а я буду изводить себя диетами?»
Птица висела передо мной беспомощная и в то же время все еще несущая в себе гордость своего предназначения — полета, умения отрываться от земли, умения седлать ветра́.
Я снял шляпу, белую, легкую, с широкими полями, вытер лоб рукавом, зажав шляпу в зубах. Подумал, что, если б умел писать стихи, обязательно написал бы что-то о птице, которая, раскинув крылья, неподвижно висела сейчас передо мной.
Сквозь развернутые перья сквозил солнечный свет, переливаясь оттенками радуги.
— Красивая, — сказал я и бросил птицу на землю. — Скажи работникам, чтобы завтра, как вернутся из Реймса, убрали здесь все.
— Хорошо.
В кармане у меня завибрировал мобильник.
— Приехала Жюли с дочками, — радостно сообщила жена.
Я даже не сразу нашелся, что ответить.
— Почему они не предупредили?
— Хотели сделать сюрприз.
— Что ж, получилось.
Мы поспешили к дому.
Жюли, Аннет, Наташа… Внучка, правнучки. Что еще нужно старику?
Я таскал правнучек на руках, целовал их макушки. Шипел и фыркал в их крохотные ушки, щекотал усами. Я рассказывал им короткие, очень короткие сказки с неожиданными концовками, чтобы они не знали, как на них реагировать.
— Слушайте. Тут важно каждое слово, поэтому будьте очень внимательны.
Девочки смотрели на меня с интересом и готовностью ужасаться или восторгаться.
— Однажды Красная Шапочка пошла в лес, — я посмотрел на внучек и продолжил грозным голосом, — и загрызла волка железными зубами! А всё потому, что очень любила сладкое, и свои зубы у нее выпали, а вместо них ей вставили железные.
Правнучки захохотали, закричали:
— Мама, дед нас пугает, но он пугает нестрашно.
Я обнимал эти комочки теплой плоти, а внутри меня ворочалось что-то тяжелое и неприятное. Перед моими глазами лежали виноградники и земля, выстланная мертвыми птицами.
Младшая из правнучек, Наташа, отсмеявшись, спросила:
— Дед, ты куда смотришь?
— Я…
Я сделал значительное лицо.
— Я смотрю в завтра.
— Дед, там просто твои виноградники, из которых потом сделают вино, и ты опять будешь пьяный.
Наташа смеялась, а за ее смех я могу отдать все в этой жизни.
— Точно. Мои виноградники, — согласился я.
— Дед, а пойдем гулять в твои виноградники?
— Нет. Там недавно опрыскали листья химикатами. Приезжай через неделю, обязательно сходим. Приедешь?
Я приподнял ее, ткнулся своим круглым, заросшим редкими черными волосами носом ей в солнечное сплетение и принялся щекотать. Она завизжала, заискрила смехом.
— Дед, не надо!
— Я все время забываю сорт винограда, что там растет, — сказала внучка, указывая на виноградники.
— Мурведр, — ответил я.
— Мур-мур, — проинтонировала она. — Мурмурация, кстати, не имеет никакого отношения к кошкам. Ты знал?
Я неопределенно кивнул, удобнее устраивая правнучек на коленях.
Мурмурация — умение стаи совершать одновременные слаженные движения. Скворцы этим навыком владеют в совершенстве. Наверное, и та стая, что лежит сейчас в виноградниках, тоже знала толк в мурмурации.
Мне девяносто два. Я успел пообщаться с теми, кто выжил в битве на Сомме и Верденской мясорубке. С теми, чьи однополчане рассеяны меж рядов таких же виноградников.
Если верить деревенским сплетням, в тех изгибах холмов, что расчерчены сейчас рядами виноградников, тоже закопаны герои, погибшие на первой и второй мировых войнах.
Внучка обнимает меня сзади за шею, ее волосы скрывают расстилающийся вид.
— Дед, я так тебя люблю. Ты даже не знаешь.
— Знаю, — говорю я ей.
— Ты лучший дед на земле, — говорит она.
«И под землей», — хочу мрачно пошутить я, но молчу.
Аннет — скрытная, Наташа, она от второго мужа, русского, открытая до неприличия.
— Дед, а если надо будет спасти меня, ты убьешь человека? — трогая мою седую щетину (я не знал, что внучка приедет, а то обязательно бы побрился), спрашивает Наташа.
— Я за тебя половину Франции убью, — говорю я.
— Но только половину, не больше, — притворно хмуря брови, говорит она.
Наташа, Наташулька, Наташулечка весела и радостна.
— Как жаль, что твои виноградники сейчас опрысканы ядом, — говорит она, глядя на синеющие под уходящим за горизонт солнцем просторы.
Холмы плавно колыхали ровные линии гряд.
— Мне тоже очень жаль, солнышко.
— Но через неделю мы обязательно пойдем гулять в виноградники, да, дед?
— Обязательно, — обещаю я.
«Мы ведь наверняка к тому времени уберем птиц».
Мы смотрим с моей наполовину русской правнучкой в эти сине-зеленые дали и думаем, прижавшись виском к виску, о чем-то одном, о том, как прекрасен мир, доставшийся нам.
Игорь Малышев
_____________
174761
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 17.02.2025, 16:27 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 19.02.2025, 21:37 | Сообщение # 2905 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| и выпал снег, хорошая примета
для февраля – плодовым будет лето,
весна цветущей, осень затяжной,
как прежде, все народные прогнозы
сбылись и в год прошедший високосный,
еще вот место освобождено
от мин, гранат, снарядов, огнеметов,
передовая русская пехота
латала здесь разбитые пути,
растила жизнь – не прежнюю и будто
похожую на подлинное чудо,
вот дать ему бы только зацвести,
дозреть до ароматного налива,
и жизнь не жизнь – невиданное диво
распустится на матушке-земле,
где выпал снег сегодня, как и раньше
в Авдеевке, с того момента нашей,
сегодня мы уже в Новополе,
в Успеновке, в Разливе, в Часов Яре,
и повторится в точности сценарий
февральский прошлогодний, наравне
с ним будет снег, и мир под этим снегом,
рождающий по марту человека,
когда-то победившего в войне.
Ноша своя не тянет, но тянет лямку
Каждый, обороняя свою межу,
Кто-то, опережая, выходит в дамки,
Кто-то – к разоруженному рубежу,
Вшитому в дополнительные кадастры
Плана вне (он давно полетел к чертям)
В мире, где нескончаемы трёп и распри,
Именно потому что идут взатяг.
Мама не собиралась, но собирает
Сына в дорогу дальнюю, покрестив,
Раньше боялась ада, теперь – и рая,
Путь к нему минометный снаряд мостит.
Долго ли или коротко до союза
Или до параллели тридцать восьмой,
Мама не то Ивана, не то Иисуса
Верит, что сын вернется... Живым домой.
***
не говори худого про войну,
она сама себе уже не рада,
закончил вроде дед ее, но внук
опять в строю, работает из градов,
и вечен бой, стремителен накат,
шумят прифронтовые лесополки,
здесь каждый друг за друга, брат за брата –
от Колымы до Терека и Волги,
в одной коробке все на передке,
един состав, Отечество едино,
и видится уже невдалеке
отчетливая мирная картина,
там дома все, и некуда спешить,
глухая ночь баюкает границы,
не говори худого, но скажи,
что скоро все на свете примирится...
***
гори, звезда, моя ли, не моя ли,
для всех сегодня светишь ты одна
на стеганом небесном одеяле,
качают ночь гремящая война
да белый шум недолгого привала,
дрожащий свет тревожит вдалеке,
любовь тебе еще не написала,
она на первой замерла строке,
рифмуя жизнь и образные смыслы
пока что сыро, опыт невелик,
впору слова – но нет, сплошные числа,
и нет числа им, как ни подели.
она к тебе, да снова обступили
приказы да бытийная тщета,
тебя когда-нибудь любили, или
не встретилась единственная та?
ответишь по-солдатски, что не место
и вроде как не время для нее,
любовь/страна – одна другой тут вместо
по истинным заслугам воздает
и тянет за истертые подолы
к известному счастливому концу,
гори, звезда, пленительно и долго,
пока любовь откроется бойцу...
***
Ameno
как ты звучишь на негромком своем языке –
быстрым ручьем или долгим весенним закатом,
и по-особенному с исключительным кем,
по выходными воровски находящимся рядом?
кто ему ты? остановка без требований,
птица без брачных колец и колец с номерами,
пообещав, не исполнит и не позвонит –
будешь любить, / Latiremo-Interimo-Аmen/
будешь сама же весной февраля посреди,
желтой рудбекией, выросшей на бездорожье,
как ты звучишь в механической чьей-то груди,
больше никто никогда зазвучать в ней не сможет…
***
Женам наших бойцов посвящается...
Он пишет мне, что жив-здоров,
что скоро заартачит Львов
и станет командиром
отряда в сорок пять бойцов -
не мастаков, но удальцов,
а я в чужих квартирах
читаю письма в девять строк
и запасаюсь ими впрок
(а вдруг не будет связи?),
Он пишет бодро, без хандры,
что погнан враг в тартарары,
и выход безопасен,
что волноваться нет причин
за подготовленных мужчин,
что им еще атака?
момент рабочий - и всего,
Он пишет, что хранит его
Господь, а мне б все плакать
по береженому ему,
Он мне в неделю по письму,
я - в сутки по молитве,
Он пишет, что являлся Бог,
от смерти что его сберег
в еженедельной битве,
отвел нежданную беду
и по воздушному мосту
донес к родным пределам,
Он пишет мне, и я жива,
пока его ко мне слова
доходят раз в неделю...
***
п. с
правый тут кто, если каждый по-своему прав,
мается мысль, как крутящийся поисковик,
мимо проходит еще один бравый февраль,
будто отсмотренный очередной боевик
с добрым концом для героя и зрителя для
и с «продолжением следует» титрам вдогон
мимо еще одного ничьего февраля
с жизнью, поставленной на государственный кон,
переживи – неизбежное – перебори,
мир заведет далеко, мирный путая след,
мимо еще одного февраля двадцать три,
мимо весны, упакованной в бронежилет,
не привыкать нам и не досмотреть этот фильм,
автор сценария множит вселенскую грусть
мимо игры многолетней, доигранной в быль
кем-то вверху, заучившим ее наизусть…
***
весь вышел снег... и свет, сера Москва,
и ты в другой бессолнечной столице,
вернуться, распогодится едва,
пообещал и сразу же жениться
на девушке, которой лучше нет,
умна она, красива, добродушна,
уста ее – налившийся ранет,
глаза раскосы, сарафан воздушный,
пообещал, что к осени отцу
построишь баню, дров наколешь на год,
а матери – подержанный датсун,
какая-никакая колымага
возить на рынок тыкву и инжир,
они там раскупаются мгновенно,
пообещал обыкновенно жить,
ну а пока ты все еще военный,
и года дольше день твой, чутче сон,
худые мысли – вражие снаряды,
но выпал снег, и светел горизонт,
чист боевой и атмосферный фронт,
а значит, ты воротишься взаправду...
***
Ты вернешься во вторник, к началу рождественских святок,
Деревянный порог заскрипит, привечая главу,
И завертится мир под ногами уже не солдата,
А отца, наконец-то увиденного наяву,
Чудо-богатыря, кареглазого, крепкого парня,
Седина преждевременна, но, очевидно, идет,
Он такой же, как был, – наставляет мозаика-память
Неразумных родных, изменений ведущих подсчет:
Исхудал, заугрюмился, резче сухие морщины
Очертили лицо, угловатое с детства еще,
И ни слова о Ней – не таков настоящий мужчина,
Не на громких словах, а на важности дела взращен,
На плодущей земле и соленых янтарных притоках,
Их вода не вода – чудотворное снадобье точь,
Ты вернешься во вторник, и вторников радостных столько
Проживешь, воспитаешь почтительных сына и дочь,
И в сибирском селе, не приметном на контурных картах,
Проживешь добрый век и закончишь достойно его,
Ты вернешься, и я, по лирическим общим стандартам,
Напишу, что люблю – нелюбимое до – Рождество,
Зарифмую его с январем, заснежённой дорогой,
И глубокий подтекст обнаружит любая строка,
Ты вернешься во вторник посланником русского Бога –
Бога-домовладыки, а не Бога-фронтовика...
***
Напишешь пару строк – и затаишься,
А мне тебя, молчальника, дождаться б,
И я вода застывшая да тишь вся,
Детектор еле слышимых вибраций,
Ношу в себе предчувствие прилетов,
Замерзших ног и чертовых бессонниц,
Ты командир карательного взвода,
Я староста дежурящих покойниц
У окон и мобильных телефонов,
Заряженных всегда и под завязку,
Напишешь пару строк – и я спокойна,
Как можно быть спокойной по-донбасски,
Как можно ждать, не выдавая смуты,
Тревожность всяко на людях отринув,
Мне б пару строк и две еще минуты –
И я дышу, с тобой наполовину...
***
Как тает снег, рассыпавшись едва
На тонкий свет, просквоженное поле,
Так забывают данные слова
По воле люди или поневоле.
Как ставит мир солдата под ружье,
Отставив трудовые распорядки,
Кроит так время будущность и шьет
Не платья-пиджаки, а плащ-палатки.
Как ты меня издалече хранишь,
Невидимо, неслышимо, всечасно,
Так я тебе единственному лишь
Доверена и одному подвластна,
Как лету всходы и метель зиме,
А сплавам – плес от Колымы до Волги.
Так жизнь конечно подчиняет смерть,
Конечная далековато только...
***
Ты не проси особенных наград
у февраля – приземистого стража,
При нем отбит был город Сталинград
и замаячила победа наша
На всех фронтах советских, где крепчал
Сержант Мороз – штабная единица,
Не генерал еще, но сгоряча
по фрицам бил, худым и бледнолицым,
И поделом, чего щадить врага,
когда он сам три года беспощаден,
Оружие – глубокие снега
да русский дух – и для победы хватит,
Для жизни в отвоеванной стране,
где празднуют Сретение Господне
Все в тот же месяц, что и в той войне,
которую мы помним и сегодня...
***
И на конечной северной зимы
Сойдет война, ночная пассажирка,
Нема она, и мы уже не мы –
Герои все, как будто под копирку.
В нас страха нет, ползучий вышел весь
В земных боях за три прошедших года,
Но живы мы доныне, как Бог весть,
Случайные вояки из народа,
Случайные – когда-то доктора,
Юристы, инженеры, педагоги,
Писатели, таксисты, повара –
В коробочке на фронтовой дороге.
Маршрут ее задачам подчинен
Военно-стратегическим сугубо,
И мчится с незапамятных времен
Машина с боевой десантной группой
От остановки до передовой,
Равняя всех на общую победу,
Мы выйдем на конечной СВО
И в мир большой на мазике поедем.
***
М. А.
Под Соледаром зябко по-февральски,
снег неглубок, работают аккорды,
И все вокруг готовится к развязке
зимы, войны. Освобожденный город
Латает все пробитые каналы
тавровым швом, впечатывает в кромку,
Я тихо жду в Москве твои сигналы,
Ты шлешь их мне прерывисто и громко
По новостям – скупые репортажи
без лиц, имен и пламенных приветов,
Среди бойцов, прибившихся дворняжек
Ты в доску свой, и общая победа
Уже близка, у самого порога
Я сяду ждать, подкармливая птицу,
И ты придешь по фронтовым дорогам,
чтоб никогда в войну не возвратиться...
***
твои края болотисты и глухи,
о них давно дурные ходят слухи
в местах нетопких, родинах молвы,
а я ее не слушаю и крепну
запасливо к воскресному молебну –
понтону из Луганска до Москвы,
священному протяжному мосточку
до Бога в каждом слове, в каждой строчке,
услышит коль, тебя убережет
от пагубы, назойливой жилицы
войны, трехлетней притчи во языцех,
ее тут знают очень хорошо,
и я молюсь нескладно, как умею,
на Иерусалим и Иудею,
на Мекку и подоблачный Непал,
как будто множу шансы человечьи
на будущность его, а не на вечность –
она почти безмолвна и слепа,
как будто собираю воедино
псалмы буддиста и христианина,
и всех ведущих с Богом диалог,
твои края – мои больные руки,
что держат свет и заглушают звуки
так, чтобы ты любовь услышать смог...
***
Чудит февраль – то моросит, то греет,
А я к тебе бегу еще быстрее,
Чем мир к весне и океан к песку,
Холодному еще с прошедшей ночи,
Не по земле – по перевивам строчек,
К победному готовых марш-броску.
Бегу, в уме считая остановки
От Мелитополя до Юнаковки,
Несказанные нужные слова
Сплетая у проселочной дороги
В ромашково-фиалковые строки,
По-мартовски расцветшие едва.
Читать бы их вполголоса, вполуха
Прислушиваться к "таволгам" и "мухам",
Биение сердечное словив,
И думать о единственно хорошем
На свете настрадавшемся и божьем –
О вере, о надежде и любви,
О том, что по весне вернутся птицы,
И все вокруг опять переродится,
Взойдет, зазеленеет, зажурчит,
И я тебя по-родственному встречу,
Отмою, обниму, очеловечу
И буду слушать, как ты вслух молчишь...
***
ты в трех часах заветных от Донецка,
в счастливое впадающего детство
по редким бесприлетным вечерам,
когда вокруг ни отсверка, ни дроби –
единственно твой смех громоподобен
на том конце безмолвного Днепра,
текущего по заданному руслу,
и он, как и положено, по-русски
бой принимает, вспенивая плес,
не вижу я, но слышится как будто
за километры или за минуты
все то, что про себя ты произнес,
все то, что адресовано мне только,
пусть далеко и бесконечно долго,
пусть в этих трех часах нам не сойтись,
чем ближе ты, тем воля моя хлипче,
не место силы это пограничье –
не даст ему названия двагис
и прочие компьютерные карты,
ты в трех часах от мира и от марта,
они одновременны, ходит слух,
а значит, быть весне и быть победе,
и час идет уже, конечно, третий,
но дольше он закончившихся двух...
***
Верни его мне, Господи, живого,
Он каждое в моих молитвах слово,
Немеркнуще горящая свеча
На узком подоконнике из хвои,
Где до войны сидели обок двое
И дозревала лама-алыча,
С изогнутой сорвавшаяся ветки
На крышу металлической беседки,
Стропила – виноградная лоза –
Дворовость оживляющие кисти,
А мир вокруг, по-августовски чистый, –
То звон колоколов, а то азан
С высоких многогранных минаретов,
Лиловой предзакатностью прогретых,
Короны и стволы раскалены,
И я дышу не воздухом – надеждой,
Что скоро из-за острова на стрежень
Ты выплывешь из давешней войны.
И хорошо, раздумно все да ладно,
Молюсь и повторяюсь троекратно,
Срываю голос внутренний, хриплю,
Верни его мне, Господи, живого,
И я проговорю три божьих слова,
Три главных слова – “Я Тебя Люблю”...
***
Ты дальше горизонта, дольше века,
Сошедший с небиблейского ковчега
На землю заснеженную солдат,
Позиции срисовываешь вражьи,
А я смотрю прямые репортажи
Про твой разведывательный квадрат.
Глаза твои высматриваю зорко,
Мой неразоблаченный Рихард Зорге,
Задумчивые карие с дымком,
Но вновь не ты, другой душевладелец,
Рассказывает начерно о деле
Сугубо засекреченном, мужском.
Не слушаю, не слышу, не вникаю,
Да кто она, любимая такая,
Которая привета дождалась?
А мне опять надеяться, что скоро
Услышу я твой хрипловатый голос,
Увижу блеск твоих совиных глаз,
Расшторить окна, наблюдать запоем,
Как прорастает маковое поле,
Как солнце совершает оборот.
Ты дальше горизонта, дольше века,
Но нет роднее в мире человека,
И жду я третий... Нет, четвертый год.
***
Кому нужны стихи твои, поэт,
Когда и ни попить, и ни поесть
Спокойно не выходит у солдата?
Пока ты сочиняешь по полдня,
Вчерашняя уходит ребятня –
Кто в бой, кто в оборону, кто в засаду.
Вернутся, отвойнованы, не все,
Заполнят стратегический резерв
До нового казенного приказа,
Об этом ты напишешь пару строк,
Высвободившись, выйдешь на порог
Страны перед обстрелами Донбасса.
И что там, на незримом рубеже,
Спасенных сколько или сколько жертв,
Расскажут в новостях перед погодой,
И впишутся стихи в сухой эфир,
И рифма остановит целый мир,
Замкнувшийся в двух строчках для кого-то…
***
русская весна
когда в апреле снежится и множит
печаль миров беспорая пурга,
мы проклинаем снова бездорожье
ресурсами родного языка,
и, собирая гнев в большие горсти,
несем его по свету, аки глас
народа, насмотревшегося вдосталь
на внешнюю и внутреннюю грязь,
на дураками битые дороги
и солнце, протестующее зря,
у бога мы любимы, но убоги
у каждого законного царя,
у бога мы за пазухой таимся,
чего, как говорится, пальцы гнуть,
когда в апреле снежится, смирись и
прими такую русскую весну…
Динара Керимова https://t.me/s/dinarakerimova_dnk
___________________________________________
174934
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 19.02.2025, 21:38 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 22.02.2025, 12:24 | Сообщение # 2906 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Мой Север
звучит варганом,
мой Север
звучит варганом
в устах молодого бога,
который знаком шаманам,
который гудит в озёрах,
который в ущельях стонет,
который вершины сопок
срезает ребром ладони
и наземь
бросает камни,
и в них оживают руны,
и вьются
хвощи лесные
в тугие карельские струны.
Мой Север
стучит как бубен
мой Север
стучит как бубен
в руках молодого бога,
чей промысел многотруден,
чьё племя весь год кочует
с Чукотки до Белого моря,
толкает упряжки ветер
и с богом своим не спорит.
А он,
как хозяин стойбищ,
не прячется, ставит чумы,
посмотрит невест
и снова
бежит от огня и шума.
Никто про него
не знает,
когда и кем обернётся, —
быть может,
уйдёт оленем
и хариусом вернётся.
На травах,
на дивных травах
мой Север хитро настоян,
взрастают
на дивных травах
охотник, рыбак и воин.
И действуют
как заклятья
движения наших женщин,
и северный бог,
собратья,
конечно, в этом замешан.
Его ли аркан
затянут
вокруг моего запястья?
Не он ли идёт
за мною
как счастье или несчастье?
***
Мертвенным льдом
придавлена наша реченька.
Призраки здесь,
у проруби с чёрной водой.
Так и бросает их —
шелухой от семечек —
Ветер голодный,
опустошённый, злой.
Скользко. Ступени вверх.
Упластавшись до смерти,
Лягут, примёрзнут,
вёдер не донесут.
Вечность густа.
Поешь, не едавший досыта
Призрачный и прозрачный
блокадный люд.
Кто это встал и тенью
в проулок движется,
Словно по крошкам слов
и верёвкам строк?
Выменял он
стихов ленинградских книжицу,
Выпросил у соседки
за хлеба кусок.
***
Мы из гладкой берёзы наколем
Грубых, пряных, занозистых дров.
Станут алчные руки костров
К нам тянуться с озёр, через поле.
Но метаться ветрам огневым
И камлать на добычу — без толку.
Вынимая из кофты иголку,
Отдаю её глинам земным.
Ждёт восток замерзающим домом,
Где холодная печь и камин,
Где просыпан сентябрьский тмин
На предчувствие хлебной истомы.
Разжигаю. Тетрадь и урок,
На сто раз переписанный в школе,
Греет, кормит огнём поневоле,
И берёзы горит уголёк.
Хорошо. Время спит на подошве,
Прикипев островерхим листом,
Шелестя: "И у Бога есть дом.
Отогреть его надобно. Что ж вы?"
***
Если тело болит — хорошо.
Значит, жизнь удержал. Есть контакт.
Буду здесь или где-то ещё,
Где бессмертные кедры скрипят.
Буду здесь или дальше, в тайге,
На стволы опираясь плечом,
Восставать, как огонь в очаге,
По коре восходить горячо.
И пускай меня тащит река,
То в бедро ударяя, то в грудь.
Буду пить из неё облака,
Становясь белоглазым, как чудь.
За пороги уйду, до низин,
Где ни времени нет, ни тоски.
Буду жив, но останусь один.
Заберёшь ли меня из тайги?
***
Всё происходит в этот самый миг:
Взросление, решение и ранний
Уход через поступок, напрямик,
Рождение героев и преданий.
Всё происходит именно сейчас,
На том краю земли, где очень громко,
Где очень больно, в миллионный раз,
И снова бродит в облике ребёнка
Обстрелянный, оболганный Господь
И, глядя в души, мученикам встречным
Любви и сострадания ломоть
Кладёт в ладони
вместе с жизнью вечной.
***
Когда стою на краешке войны,
Она меня пытает, не калеча.
О, переклички! Перемиги. Сны.
Далёкий вой. Отложенная встреча.
Да, сердце, да! Живём во времена
Осколочных и грянувшего грома.
Возрадуйся, душа тебе верна
В своём долготерпении огромном.
Страна тебе верна в своей тоске,
В своём преображении чудесном.
Она, как ты, сейчас на волоске,
На жилке сострадания, над бездной.
Не бойся, сердце, бейся в берега.
Большая боль — большой любви предтеча.
И Русь явилась. Как она строга!
Далёкий вой. Отложенная встреча.
***
Синий вечер.
Стоит на пороге озябшая ель,
И смеются заливисто
через смолистые ветки
Краснощёкие лица
моих закадычных друзей.
— Да пусти уже в дом-то! —
доносится с лестничной клетки.
И влетают гурьбой,
вместе с ёлкой, пакетом конфет.
Размотав бесконечные шарфы,
обнимут морозно.
И под каждым ботинком
в прихожей — подтаявший след,
Из которого год уходящий
моргает нервозно.
А январь удалой,
надышавший на окна «Встречай!»,
Постучится. И снежные курицы
вздрогнут на крыше,
И варенье из шишек
нырнёт в облепиховый чай,
Вот тогда, на минуту,
мы станем смеяться потише.
До утра будут выжжены
двадцать бенгальских огней,
Пересказаны сотни
занятных историй и сказок,
И струна у гитары порвётся.
Но в жизни моей
Это будет — спасибо друзьям! —
самый радостный праздник.
***
Я спала до утра. И тяжёлые алые шторы
выплавляли металл, как бессонные печи Мартена,
и держали жемчужину в дёснах, и брали измором
заполярное солнце — его отпечаток несмелый.
Заторможенный ветер меня выводил в невесомость,
трубный голос метался за кадром:
— Спасайся, кто может!
Наше Солнце взорвётся, окончив душевную повесть
о земном человеке, который пытался. И всё же
забирай свою долю — несыгранный мятый билетик.
Завернись в одеяло, продолжи свою одиссею,
уходи, для тебя приготовлен нетронутый берег
под звездой, что моложе, и крови брусничной краснее.
Я ступала по воздуху над обречённой планетой,
шла над городом детства, текла над морщинами улиц,
над ощипанной тундрой, уже до предела нагретой,
и река, испаряясь, таинственно мне улыбнулась.
Там, над лапками ЛЭП, над рудою в копчёных вагонах,
над толпой изумлённых рабочих, чьи рваные вены
набухали сильнее, но люди стояли упорно,
не бросали земное, пока не окончится смена, —
там, опомнившись, я поняла, что укрыться — больнее,
что крепка пуповина и наше негласное братство.
Опусти меня, сон, до земли, я паду на колени,
как ребёнок, который при матери должен остаться.
***
Воздух — никель.
Металл застревает во рту.
Зверски холодно,
детские щёки жжёт.
Заполярный мой космос,
я уже на борту:
материнский корабль
толкает санки вперёд.
И рывками, со скрипом
мы пробираемся сквозь
вязь дворов, по отвалам
из металлических звёзд.
На ходу замерзают
путники: те, что врозь,
а таким караванам —
летучим, как наш — везёт.
Раздвигаем туманности, —
мама, смотри! — горит
первобытный маяк,
раскалённый медный завод.
Оторвётся от санок
северный царь. Бандит.
И хотел бы меня забрать,
да не заберёт.
***
Держись покрепче,
чистая душа,
Ты — девочка
с воздушными шарами,
Сегодня — здесь,
а завтра — за горами,
Со звёздами
из Малого Ковша
Творишь планеты,
раздуваешь пламя,
Разносишь свет
такой большой любви,
Которую
нельзя себе представить,
Раз повзрослев
и тем ослабив память,
А ты — ребёнок,
что ни говори.
Так оставайся!
Остаёшься,
да ведь?
Ты обернулась.
Кружатся вдали
Цветных шаров
запутанные нити,
Висит на холодильнике
магнитик —
Уменьшенная
копия Земли...
***
Ты слышишь, слышишь?
В ночь морозную,
раскрыв надмирный вечный рот, —
так совершенно! — невозможную,
и там, и здесь — везде! — поёт.
Почти уходит, возвращается, —
упрям! — протягивает звук.
Звук распускается, смыкается, —
смыкается, как пальцы рук.
Ткёт парус над старинным городом,
и парус бьёт со всех сторон,
по звёздам — бам-м! — и, снова молоды,
они под колокольный звон
ведут. И я на ткань упругую,
на этот звук скачу, лечу,
тяну тебя, а ты за вьюгою
кричишь: "Не слы-шу. Не хочу!"
***
Не ходит к людям белая лисица.
Посмотрит через бурю —
непонятно:
охотников изъеденные лица
или развалин охристые пятна, —
что там?
Дома с неясными чертами
осели в мерзлоту как мегалиты,
пробили лёд бетонными когтями
и будто жаром подземельным сыты.
Что там, лисица?
Влажен глаз песцовый,
срывает буря градины и слёзы.
Колонны там, чреда костей берцовых,
и нитяные карлики — берёзы,
громады-трубы и громады-крыши.
И Север воет, на плечах качая.
А зверь заходит в бурю, и не дышит,
и выйти из неё уже не чает.
Кто там, лисица?
Там живые люди.
Как стая, против ветра, — древний танец.
У них от этой бури не убудет.
У них от бури —
на щеках румянец.
***
Я глажу пса,
он держит мой рукав,
как человек.
А люди расстаются.
Пёс знает,
отчего они, предав,
сначала плачут,
а потом смеются.
В конце концов,
Ханс Кристиан был прав:
глаза собаки
велики, как блюдца,
в которых блик —
заветное окно.
На стёклах проступает
Божья влага.
"Не отпускай,
понятно?.." Всё равно
ты веришь в человека,
мой бродяга.
***
Будет свет, как много лет назад:
Духота, июль и дети в парке —
Хрупкие кузнечики — на танке,
Русский город защитить хотят.
И несутся, сидя на броне,
В день Победы, папкам подражая,
И горит машина боевая
В праздничном оранжевом огне.
Дети скачут, раздобыв мелки,
Пишут имена отцов на башне,
Звёзды зажигают, и не страшно.
Склеены столетий позвонки.
Молодые матери стоят,
Пожимая тонкие запястья,
Плачут, а от горя или счастья,
Спросишь — ничего не говорят.
***
Тихо молись о нём
в доме своём простом, —
утром ли, над едой,
ночью ли молодой.
Ночи самой сильней,
ты, до сих пор ничьей
не испытав любви,
любишь, — тогда моли.
Всюду молись о нём
так, чтобы в горле ком,
так, чтобы дрожь внутри, —
медленно говори.
Прочно смыкай слова —
латы степного льва, —
чтобы на ту броню
Ангел своё "Храню"
радостно набивал,
чтобы делить не стал
целое — дух и плоть —
русской земли Господь.
***
ЧЕТВЕРО
(бойцу с позывным "Сурок")
Парни сидят на позициях
без воды.
Жажда. Февральский снег
благословенный,
как неохотно
влагой становишься ты,
как опадаешь
в этой кружке железной.
Жизни друзей кончаются.
Что вода!
Четверо их,
прошитые в переделках.
Раньше, когда все вместе, —
бывало, да! —
в головы лезла
всякая белиберда,
смачно шутили...
Да хоть о пустых тарелках!
Четверо. Каждый думает:
"Не привыкай.
Так прикипишь —
потом потеря сломает".
И, поделив по-братски
блиндажный чай,
рядом садятся, греются.
Прикипают.
Горькому снегу — слава!
Он берега
наших окопов
сделал прочнее стали.
В ночь отлетала
шумная "Баба Яга".
Утро. По-прежнему четверо.
С Богом?
Встали.
***
Как могла, я старалась их уберечь от погибели, —
В осиянных стихах создавала для них обители,
Убеждала, молила: "Живите, родные, милые!
Не ходите туда, где сыра земля над могилами".
А они поднимались из строк: молодые, старые,
И земные, румяные, и неземные, бывалые,
И несли на себе шевроны и звёзды красные,
Улыбались в ответ на речи мои бессвязные.
А они уходили шагом чеканным, уверенным,
Вскинув плечи, навстречу судьбе уходили, намеренно.
И текла по дорогам на запад их сила былинная —
Непомерная, неудержимая и неделимая.
Там, где солнце заходит в редкие дни равноденствия,
Обещая излом времён и новые бедствия,
Льётся подлинный свет, какого давно не видели.
Там Господь посвящает воина во Спасители.
***
Пиши письмо из этих слов земных,
Я всё прочту и не пойму ни слова.
Но есть душа - её неверный штрих -
И мы похожи, так похожи снова.
И родина холодной синевой
Рисует нас по самому по краю,
И ты такой хороший и живой
Стоишь один, а я тебя не знаю.
И снег идёт укутывать волну,
И бьёт крылом невидимая птица.
Детёныш камня смотрит на луну,
Ему твой голос помнится и снится.
***
Мы вернёмся,
мы точно вернёмся сюда,
Разобьём эти зеркальца
тонкого льда
Там, где съёжилась
и побелела земля, —
Разобьём не злобиво,
а нежно любя.
Разминая суглинок
подошвой своей,
Мы затеем костёр,
обогреем людей,
Мы найдём этот пруд —
перевёрнутый лес,
Этот город. И сделаем так,
чтоб воскрес.
Чтобы истово цвёл —
мы устроим весну
Не по графику. Что ж,
и подряд не одну.
Птицы счастья под окнами,
песни и гвалт.
Выпрямляясь, росток
продырявит асфальт.
Наша новая жизнь.
И похоже на то,
Что у нас будет много работы.
Зато...
***
Не будет уступок и сделок.
Владимир пойдёт до конца.
Ни шансов, ни сорванных стрелок,
ни лжи, ни потери лица,
ни сдержанных рукопожатий
(от них по спине холодок),
ни веры гонцам "демократий"
не будет. Усвоен урок.
А если, на самую малость,
ошиблась — поправьте потом,
ведь главное, чтобы сбывалось.
Ведь главное, чтобы сбывалось
не в частностях, нет.
В основном.
***
Бесчисленные
петельки слогов
держу в уме.
Мои птенцы на спице.
Благословенный
утренний улов.
Карасики
из облачной водицы.
Живите здесь.
Вы все сопряжены
хитросплетеньем пряжи,
видно даже:
бранятся те,
а эти влюблены.
Я правлю здесь.
Великий груз вины
за все ошибки
мне на плечи ляжет.
Но вьётся нить
немыслимой длины
и радость —
из груди того,
кто вяжет.
***
Веришь? Сегодня такая ясность пришла под утро, —
Помню такое чувство из юности, будто
Мир — это платье Бога, шов неразрывной строчкой,
Есть темнота в карманах, а прочее — свет, и точка.
Веришь? И будто бы мы на самом свету застыли,
Выбравшись из карманов, злой наглотавшись пыли,
Будто бы наша суть — это теперь отвага,
Не безрассудная, нет, мы не лишились страха,
Только, в отличие от карманных врагов наших,
Не за себя боимся, а за детей и старших,
За незнакомых родных, за братские наши могилы, —
Веришь? — за русскую речь мы умереть могли бы.
Значит, отвага — это когда
в сердце любви много —
Несокрушимый свет на плече
у справедливого Бога.
Наталья Денисенко https://vk.com/denisenkonat
________________________________________
175245
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 22.02.2025, 12:25 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 24.02.2025, 11:46 | Сообщение # 2907 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Мне холодно в мире. Тепла бы немного
Немного реки и немного дороги,
Лесов говорливых, плескучих озёр.
И бабушкин на полотенце узор.
Немного бы песни, немного бы луга,
Да чтобы со мной говорила пичуга,
Ещё бы – калина и вишня в саду,
Кузнечик-травинка, карасик – в пруду.
Но холодно в мире, а надо немного:
Любимая чтобы ждала у порога.
***
Господи, ты меня видишь?
Я – атом в потоке Вселенной и поля родного.
Я – атом случайный, как жизнь и мерцание снега.
Пылинка, способная верить, дерзать, ненавидеть,
Способная каяться, петь, позабыв о себе.
Зачем мне, пылинке, косматое поле ржаное,
Гривастое море, гортанная песнь камнепада,
Когда по горам разлетаются демоны молний
И синими бивнями ливни трясут облака?
Зачем мне, пылинке ( слезинкой душа зародилась! )
Встречать на пути то разоры и пепел, то славу,
То дрожью любовь ощущать, как дождинки – по рёбрам,
Лететь, замирая, что ангел с тобою летит?
Так что ж мне, пылинке, так сладко на русском просторе
Любить наши рощи, лелеять родные могилы,
Детей обнимать, что щебечут весенние песни,
Жене не цветы, а цветение сердца дарить?
Так кто же я, Боже? Пылинка ли? Я и не знаю.
А хоть и пылинка. Но только оставь со мной, Боже,
И солнечный день, и метельный, и боль, и надежду,
И счастье любить, негасимое счастье любить…
***
Жизнь – обман с чарующей тоскою.
Сергей Есенин
Жизнь листвой роняет лес осенний,
И ледок затягивает пруд.
Без утрат и скорбных потрясений
Почему-то люди не живут.
Ждём чего-то. Разве счастья ищем?
Жизнь – сейчас, грядущее – во мгле.
Ходят, ходят люди по кладбищу,
Ищут своё место на земле.
Для себя желанных ждут и любят,
Потому и холодок в глазах.
На земле находят место люди,
Мало кто находит в небесах.
Жизнь – обман, волнующий и нежный.
Вот шумит, как под окошком клён.
То ударит в грудь метелью снежной,
То весенним плещется огнём.
Жизнь – обман. Но если состраданье
Поит душу, как луга – туман.
Значит близок ты к любви и тайне,
Не такой уж жизнь твоя обман.
***
Мы живём и не ведаем сами,
Покоряя житейскую гать:
Есть великая сила над нами,
Что научит любить и страдать.
Кормим чёрной икрою гордыню.
Зарастает родное полынью.
А туда ли мы тропы вершим?
То воруем, а то убиваем,
То чужую жену возжелаем,
За карьерой спешим, за трамваем,
За деньгою, за славой бежим.
Но прекрасны и ладны избёнки,
Что сошлись у дорог, как бабёнки.
Им бы семечек - по ведру!
И трепещут у дома пелёнки,
На хохочущем синем ветру.
Соловей - за коленцем коленце.
Заволнуешься – слёзы в глазах.
Так любовь зарождается в сердце,
Словно миро на образах.
***
Россия начинается с дороги,
С бурана, бурелома и берлоги,
С разбойников, узорочья берёз,
С молитвы светлой и горючих слёз.
Россия начинается с тревоги.
Кто наши не притаптывал пороги?
Ордынцы и тевтонцы - всё разбой.
… Узорный плат, наличники - резьбой.
Россия начинается с надежды.
То рядит европейские одежды,
А то китайский примеряет шёлк.
И - щёлкает клыком тамбовский волк.
Распевом красок инока Рублёва
Россия начинается со Слова.
Веди судьбу - душою не криви.
Россия начинается с любви.
С разгульной песни тракториста Сашки,
С горячего глотка из тёртой фляжки,
С горючей, горькой правды в мире лжи
И с васильков, мерцающих во ржи…
***
Мир любовью живёт. А иначе, зачем он, неистовый?
Плачут горько по-детски кудрявые волны в реке.
Осень греет дорогу последними рыжими листьями,
И она, согреваясь, в рассветном плывёт молоке.
Всё так дорого мне: и грачиные стаи над вязами,
И шаманская пляска костра в задремавшей ночи.
На росе ;; тишина. Морда месяца ;; над коновязями.
И стога на полях ;; куличи, куличи, куличи.
Все любовью живут. Даже чёрная жаба холодная,
Поседевший от инея серый мосток у реки.
На прохладной волне покачнётся звезда путеводная.
И на вёслах по лунной дорожке пойдут рыбаки.
Все любовью живут: золотые шмели и смородина,
Пьяный луг на меду, пескари у прибрежных осок...
И – никак без любви, потому, что – и воля, и родина,
Жаворонок веснушчатый и заревой колосок.
***
Вот оно – тёплое, захолустное…
Тихие блики ночных огней,
Лунные росы, грядки капустные,
Пьяные гривы ночных коней.
Как мы скакали – бесстрашно, радостно!
И не унять молодецкий пыл!
Тёплые гнёзда свивали аисты,
Множились холмья родных могил.
Жизнь моя, что же ты так обманчива?!
Радость и горе бок о бок трут.
Словно десантники, одуванчики
Белой пургой над землёй плывут.
Как я люблю тебя, жизнь, за радости!
Но и за боли ты снишься мне
Белым туманом, росою, аистом,
Тёплой слезой на моём окне.
***
От деда пахнет мёдом, туманом, огородом,
Рыбацкою лодчонкой, копчёным рюкзаком,
От бабушки – стогами, вареньем, пирогами,
От мамы то малиной, то тёплым молоком.
От бати – пот и порох, и дней тяжелый ворох.
Жена рассветом пахнет и щебетом детей.
Стоим и замираем, а в церкви пахнет раем,
А в церкви пахнет раем и родиной моей.
***
Всему свой час. Не раньше и не позже.
Да разве в годы детские мечтал,
Что стану я поэтом. Речка Вожа
Светила мне и алый краснотал.
Молочный дух от стойла, дед – с покоса.
Почтарь с велосипедом – будет весть.
Не ведал я, когда обнял берёзу,
Что это вот поэзия и есть.
Поправила она свой фартук белый
И побежала. Я – за ней, за ней!
И улыбалась бабушка и пела,
За мною наблюдая из сеней.
***
В родную речь вхожу, как в море,
Как в шумный лес,
а меж ветвей
Роятся облака и зори,
Родник поёт и соловей.
Я слышу всех, кто жил когда-то,
Любил и пел, как мы с тобой.
Гремят в литавры листопады
И вьюги белят травостой.
И все былые поколенья
Слились в единый зычный хор,
И стали ветром и сиренью,
Стожком, взошедшим на бугор.
Здесь все века родной державы:
Сражений жгучая картечь,
Московский Кремль, знамёна славы,
И звонкий благовест дубравы.
И, как волна у переправы,-
Плывёт, поёт родная речь.
***
Я родился, как всякий русский,
За рекою, за лесом – там
Облака голубой капустой
Плавно катятся по волнам.
Там у нас пузыри в кадушках,
И за плесами, за мостом
Мечет солнце икру по кружкам,
Бьет стерлядка косым хвостом.
Разойдись, расступись, столица!
В мире каждому ведом рай.
Дайте родиной насладиться,
Накружиться средь птичьих стай!
Там, за дальними небесами,
Где медведи пасут коров,
Я услышу хоры Рязани,
Словно гулкую в жилах кровь.
Что за песня? Пойду я следом
И прислышится невзначай:
Тихо бабушка шепчет деду:
– Люльку с мальчиком покачай. –
Это я там проснулся, что ли?
И закружится потолок,
И застонет в копытах поле,
И в глаза полетит песок.
Эта скачка на смерть похожа.
Жжет десницу звезда полей.
И – ножом по ухмыльной роже –
Пляшет во поле Челубей.
Мы такое не раз видали:
Луч у ворона на крыле
И рязанские свищут дали
На ордынской, дрожа, стреле.
Русь! Пора за себя, за брата
Постоять, разогнать чертей!
Эко пашня твоя разъята!
Эко мутен стал твой ручей!
Я кричу! Я вздымаю руки,
Поднимаюсь на смертный бой!
… Дед спросонья качает люльку,
Шепчет бабушка: – Спи, родной. –
Их любовь мне и рай, и лето.
Сердце бьется ровней, теплей.
Так спасибо, Господь, за это,
На душе мне теперь светлей.
Вот идут косари туманом,
Растворяют себе простор.
И татарник по злым бурьянам
Мертвый падает под бугор.
Время движет, снега несутся,
Рвут столетия, в прах круша.
Но не может душа проснуться,
Как не может уснуть душа.
В этом снеге француз и немец
Опочили в полях Руси.
Шепчет бабушка: – Спи, мой месяц.
От лихого тебя спаси. –
Я люблю этот край подсвешный,
Где на взгорок через луга
На молебен рядком неспешным,
Как монахи, идут стога.
Я люблю эту дымку, заводь,
Золотое урчанье пчел.
Грозной тучи ржаную память
Я по этим полям прочел.
Но и в зиму, где зори в дрожи
Глухариную алят бровь,
Повторяю: спасибо, Боже,
За дарованную любовь.
***
Спит провинция в букете лопухов,
Греет брюхо солнце мокрое в стогах,
И плывут себе сады у берегов,
Где туманы водят реку под бока.
Стадо теплое мычит у городьбы,
Тракторист опохмелился с утрева,
И огромный, как амбар, тяжелый бык
Спозаранку засучает рукава.
Нерасчесанного сена седина.
Точат шпоры молодые петухи.
И прозрачная, как яблоко, луна
Оседает на сырые лопухи.
Бородатый и не выспавшийся шмель,
Приворчовывая, кружит у плетня,
И звенит уже за тридевять земель
Домотканая провинция моя.
***
Родимая изба. Иду, а шаг не ровен.
Рукою проведу – бревно из сотен жил.
Плывёт моя душа по серым волнам брёвен
Сквозь судьбы тех людей, кто здесь когда-то жил.
Зашел мужик босой ;; прапрадед или прадед?
Усталые глаза, махрою пахнет пот.
Печной дымок в избе. И, словно на параде,
Притоптывает конь у выцветших ворот.
Иду в луга с косой ;; родня передо мною.
Окашивают луг и я не угонюсь.
И свадьбы, и помин ;; меж летом и зимою.
Меж азий и европ горит поленом Русь.
То реку завернёт петлёй, то воет волком,
То пряником ;; изба, то кренделем ;; судьба.
Поленышко пыхтит, урчит горячей смолкой,
Стреляет и поёт. Гудит огонь ; труба.
И согревает мир. И согревает души.
Выходит дед пахать и бабушка поёт.
А вот и я иду, их внук ;; Евгений Юшин,
И на коня сажусь у выцветших ворот.
***
Нет, умершие нас не покидают.
И дед, и прадед, и прапрадед мой,
Пока живу, за мною наблюдают,
Ежесекундно шествуя за мной.
Есть та волна в бушующем просторе,
Где души предков – кровь богов моих –
Разделят радость и спасут от горя,
Покуда сам я не забуду их.
***
Я думал, будет так всегда:
Рассвет, зари солома,
Реки певучая вода
И мать с отцом у дома.
И дед в фуфаечке рябой,
И бабушка у печки,
И дым – берёзкой над трубой,
И костерок ;; у речки.
Народ высокой жил мечтой.
Его ж как липку драли.
А те, кто правили страной,
Её же и предали.
И ни богатства, ни мечты
Не стало у народа,
А лишь торговые ряды
Да кислая свобода.
Я знал, любовью полня дни,
Пустое – канет в лету.
В душе зажжённые огни
Всю жизнь ведут по свету.
А мир и холоден и сер.
И в двадцать первом веке
Я всё живу в СССР
И верю в человека.
***
Родной деревни нет уже на свете.
Заборов перекошенных горбы.
В пустых сенях гуляет сиплый ветер
И выметает время из избы.
В морщинах бревен – пыль иного века.
Какие здесь гремели облака!
С войны вернувшись, гармонист-калека
Одной рукой растягивал меха.
И пел ведь, пел. И радости-печали
Любой избе хватало на судьбу:
И люльки, словно лодочки, качали,
И провожали ближнего в гробу.
И бабушка, и мама – молодые.
И песни – не удержит соловей.
Какие здесь черемухи льняные!
Какие искры на глазах коней!
Мы жили не богато, не убого.
И та, что улыбнулась мне тогда,
Так пристально смотрела на дорогу,
Которой уходил я навсегда.
И все ушли… Кто в города, кто в землю.
Нашли себе загаданный приют.
Все понимаю, но не все приемлю,
И страшно, что меня не узнают
Лужок гусиный около обрыва,
От тишины присевшие сады,
Калина и горячая крапива
У проходящей медленно воды.
Прости–прощай!
Мне страшно в новом мире,
Где по иному смотрят и поют.
И ветер все железнее и шире,
И все прохладней избранный приют.
***
Листья слетают с деревьев – свобода, свобода!!!
Остановилась… Покоя желает природа.
Оторопели, свиваются жёлтые листья,
Рыжим хвостом заметают дорогу по- лисьи.
Смотрит старуха. Глаза голубы, словно вёсны.
Чавкает под сапогами удрёмная осень.
Заговорила старуха : - Я всё уж видала.
Было и больно, и сладко, а всё-то мне мало.
-Хочешь пожить?
-А и как не хотеть-то? Весёло!
Эко скуласта картошка, укропны рассолы!
-Будет зима. Как прожить-то тебе в одиночку?
-В печке урчит огонёк, что мой котик в носочках.
Я напеку пирогов – по соседям, по дали…
Там и весна уж, а с солнышком - нету печали.
Так вот иду, и в пыли под стопою моею –
Скифский кафтан и потёртый колчан Челубея,
Ржавый палаш бородинского дымного ада,
И черепа уцелевших домов Сталинграда.
-Ну и куда ты идёшь по разбитой дороге?
-К Богу иду я, покуда шевелятся ноги.
***
Под окошком отцветает примула.
За дорогой – ветер и жнивьё.
Промелькнула звёздочка – и сгинула,
Словно бы и не было её.
А ведь долго над борами синими,
Плавала, ныряя в облака.
Никогда не звал её по имени,??
Любовался ей издалека.
Помню я: поутру над берёзами,
Побледнев при заревом огне,
Тая над туманами белёсыми,
Нежная, подмигивала мне.
Ах, не каждый добредёт до старости!
И не каждый прожитым богат
Мир не только для любви и радости,
Но ещё для боли и утрат.
И упала осень на осинники.
От избёнок потянулась тень.
Щучьи плёсы, сохлые малинники,
Топкие дороги деревень.
Я уеду скоро. Буду в городе
Вспоминать упавшую звезду.
Тычется луна туману в бороду,
Зябнет, золотая, на ветру.
***
Лет двадцать ещё поцарапать планету
Примятым литым каблуком,
А там уж отправиться к горнему свету
С потёртым своим рюкзаком.
В нём сложены зори, и песни, и радость,
Любовь и потери мои,
И всё, что по яростной жизни досталось:
Бураны, луга, соловьи.
Но в нём и грехи. Тяжела моя ноша…
С того ли, что в детстве грачонка я спас,
Мне светит в пути родниковая роща
И бабушкин иконостас.
И мама печёт «жаворонков» весенних.
Отец – ордена на пиджак.
Скребётся мышонок под ворохом сена,
Скрипит под сосною лешак.
Брусничные угли – у края болота.
Заря – костерком по реке.
И всё, что копил я от года до года –
В потёртом моём рюкзаке.
Сгорает в руке у отца папироса,
Как думы о счастье земном.
Хлопочут скворцы и трепещут стрекозы,
И сливы запахли вином.
И молится поле моё Куликово,
И молится Бородино
О всех, кто сберёг наше русское слово,
О каждом, ушедшем давно.
Гуляй! Под звездою ничто не возвратно!
Я тоже однажды уйду.
Ложатся заката родимые пятна
На вешние вишни в саду.
Былинка дрожит на ветру – затухает.
Лодчонка скользит по реке.
А прошлое кается, любит и тает
В потёртом моём рюкзаке.
***
И мы не простые, и жизнь не проста.
Иуда как прежде, целует Христа.
Иуда, как прежде, Христа предаёт,
Как прежде безмолвствует тихий народ.
.
Но всё-то не просто, и всё-то не так.
Шипит на Россию надменный поляк.
Братушка болгарин который уж год
Оружие нашим врагам подаёт.
А как целовали и в дружбе клялись!
К груди прижимались, но вот отреклись.
И речи пустые и очи пусты.
Славянское братство, да было ли ты?
Когда ж чёрный морок с братов опадёт.
Собой ужаснётся предавший народ
И с горькой слезою к России придут
Все те, кто с молитвой к Христу припадут?
А мы будем помнить, что жизнь не проста.
Иуда опять поцелует Христа.
***
Идёт братишка минным полем,
Дорогой хлюпкой, горевой.
А мы грехи его отмолим,
Чтоб воротился он домой.
И сквозь пожухлую дернину,
И пёрышки зелёных трав
Донской Димитрий мчит дружину,
За землю русскую восстав.
Они поддержат нашу песню–
Кутузов, Жуков…Жгучий год!
Они – пришли, они – воскресли,
Чтоб за собой вести народ.
И мы – готовы. Степь – былинна.
Зари пожара – не унять!
Идёт братишка полем минным,
Чтоб мог Суворов проскакать.
Война рванула взрывом – в ноги,
И – кровью в горло. Солона!
И дышит пепел на дороге,
И ходит полем седина.
И – ад вокруг, и – Рай в глазах,
И – мамка плачет в небесах!
***
У МОГИЛЫ СОЛДАТА
Он упал. И упала земля на него,
Словно мама ладонью прикрыла.
– Боже мой! И не будет уже ничего,–
Прошептала могила.
И заткнули ей рот, и поставили крест.
А ведь были бы дети.
По земле ходит много печальных невест –
Без любви, без ответа.
И кукушка, – ты слышишь? – рыдает: « Ку-ку»!
Словно годы листает.
Вот прикрыла глаза, всё сидит на суку
И – мечтает, мечтает…
***
Я не то, чтоб почуял, я видел: душа пролетает,
Пролетает молитвой живой, обогрев небеса.
Словно фрески над ней поколений полки проплывают,
И минувших баталий дымы разъедают глаза.
Но и светлое видится: прадед и потное поле,
Пра-пра- пра моя бабушка, тихих гераней уют.
Зреют яблоки. У косарей каменеют мозоли.
А ветра и просторы, и девушки – песни поют.
Пролетает душа надо всей нашей вольной отчизной!
Над трамваями, домнами, соснами, вросшими в мох.
Как над ладом людским, так над всей неустроенной жизнью
Перепутий вокзальных и синих усталых дорог.
Над метельною, сиплою песней и вольною Вожей,
Над могилою мамы моей и просёлком в пыли.
Пролетает душа и никак наглядеться не может
На подсохший малинник, на рыжую пряжу зари.
Пролетает душа и на сердце – светает, светает.
И мерцает роса на колосьях туманных полей.
И душа всё летит, и как облако плачет и тает,
Выпадая на землю любовью и болью своей.
***
Свобода пошлости и трёпа
То розова, то голуба.
Прощай, продажная Европа –
Американская раба.
Раба…Хоть сколько можешь злиться,
Иудин предрешен исход:
Тебе осталось удавиться,
Ты предала и свой народ.
Прощай! Нам путь иной известен,
Где нет ни злата, ни межи,
Где зреет поле волей песен
И взглядом васильков во ржи.
***
Ухмыляется Запад. Лукавый восток
Под усами улыбку таит.
А у нас под берёзой мерцающий сок
В золочёной кадушке стоит.
Знает каждый у нас, что весною опять,
Как глухарь воротится на ток,
По берёзовым венам, чтоб небо поднять,
Молодой поднимается сок.
И ручьи – серебром, малахитом – трава.
И сиренью – рассветный дымок.
Жадно Запад глядит на мои закрома,
Лижет губы лукавый Восток.
Но в России-то знает любой наизусть.
Что над ягодой – крыльями куст.
И под каждою елью то рыжик, то груздь,
А за полем и ворог и грусть.
...............
По лесам и дорогам пожары коптят.
По селениям мор и разруха.
То ли стрелы поют, то ли дроны летят,
То ли в ступе долблёной старуха.
И за каждым болотом – треклятый Кощей.
Реки – влажной косынкой и синью.
Ты налей мне, маманя, наваристых щей.
Я пойду постоять за Россию.
За мою молчаливую дымку зари
И за наших детей яснооких,
Чтобы знали они, как поют глухари
И росли на берёзовом соке.
***
В краю, где нивы, ивы и крапивы,
Где лопухи сидят, как глухари,
Растет по небу влажный, молчаливый,
Брусничный мох мороженой зари.
И месяц ржет, уткнувшись мордой в сено.
Горчит лугов сентябрьский посол.
Сосна сидит – колено на колено,
Отряхивая медный свой камзол.
И в этот час, когда вот-вот прольется
По рыжим далям синий пар снегов,
Так хочется услышать у колодца
Льняную песнь осенних петухов.
Они взойдут по жердочке заката
И прохрипят в седые небеса:
– Нам ничего, нам ничего не надо. –
И запрокинут влажные глаза.
***
Я поднимаю воду из колодца.
Она густа. Чем выше – тем ясней.
Я тороплюсь, ведро о стенки бьётся,
И вот уж губы тянутся за ней.
Я пью и пью, и не могу напиться.
И льётся – холодна! – на грудь мою.
Вот так и жизнь – то меркнет, то искрится,
То холодом обдаст, а я пою.
Пою о ней…
Об этой вот букашке,
Что не спеша по колышку ползёт,
Об этой вот улыбчивой ромашке,
Что ждёт меня часами у ворот.
Пою о милых мне глазах осенних,
О земляничных заревых губах,
Озёрах тучных, рощах песнопенных,
Как табуны гривастых ковылях.
Плеснул случайно – о сапог водица.
Стою и долго щурюсь в синеву.
Я воду пью и не могу напиться,
Всё не могу напиться. И – живу!
***
По нашей странной русской жизни,
Пирам лачуг, тоске дворцов
Не осознать любовь к Отчизне,
Любовь к себе, в конце концов.
Но познаю пчелы молитву
И васильковый взгляд в овсе,
Зарю, идущую на битву,
В петушьих перьях и росе,
Тоску разгульную полыни,
Впитавшей дым, впитавшей пот,
Колосья, русский дух над ними,
Сиротство стога у ворот,
Там ладят улья медвежата,
Лесовичиха мох прядет,
И месяц поит из ушата
Дымы русалочьих болот.
И надломив рассвета соты,
Прикрыв туманом синий взор,
Сама Россия входит в воду,
В блаженство женственных озер.
Гусей пролетных вереница,
Густых кувшинок невода…
И каждый миг
не повторится
Ни через год и никогда.
И никогда под небом сирым
Вот так же –
в славе и красе –
Заря не воспарит над миром
В петушьих перьях и росе.
И полетят другие гуси,
И песни новые вослед,
Но так же будут пахнуть Русью
Полынь
и этот белый свет.
***
Я уеду под сельские своды
В половодье Мещерской зари.
Запах леса, как запах свободы,
Принесут на крыле глухари.
Забузят, как бояре,
запляшут.
Токовище хмельно от любви!
Ох, - орешек в гортани заплачет!
Ах, - не сможете так, соловьи!
Я приеду и будет деревня
Под кочующий лай разливной
Собирать на распевку деревья,
Что пойдут по дороге со мной.
Здесь ты ближе и к людям, и к Богу.
И пока твой восторг не затих,
Вдруг, почувствуешь сердцем дорогу
Поколений несметных своих.
- Наконец-то,- скажу,- наконец-то
Всё желанное рядом со мной.-
Хорошо, если знаете место,
Где сливается поле с душой.
Всё тебе тут понятно и просто.
И вражда, и любовь – до конца,
До вечерней звезды над погостом,
До ветлы над могилой отца.
***
А когда я уйду вы, любимые, ждите
И тогда возвращусь я росой на раките,
И озёрной зарёй и волною плескучей,
Аржаными полями и пьяною тучей.
И когда ты увидишь лодчонку, берёзу,
Над полынью вспорхнут золотые стрекозы,
И туман о заре принесёт свою весть…
Это я тут и есть, это я тут и есть.
Юшин Евгений https://stihi.ru/avtor/yushin1
____________________________________
175630
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 24.02.2025, 11:51 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 25.02.2025, 23:54 | Сообщение # 2908 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА
(Повесть о долгой жизни)
Он был лифтёром в нашем подъезде дома на Беговой, и мы часто разговаривали. Говорили о разном. Точнее, говорил он, а я предпочитал послушать, поскольку было что. Но о чём бы он ни размышлял вслух, почти всегда в какой-то момент переходил на тот или иной эпизод войны и послевоенные судьбы ветеранов. Впрочем, это, наверное, характерно для всех фронтовиков. Для них война осталась главным, что было в жизни.
Он многое испытал, осмыслил и, что очень важно, в какой-то момент переосмыслил главное, сумев при этом рассказать о своём довоенном поколении победителей, перед которым мы всегда будем в долгу.
Его рассказы я потом записывал. Отрывочно, бессистемно, но после каждого разговора. А затем, когда сложил эти записи вместе, получилось нечто цельное и, думаю, поучительное, поскольку жизнь моего героя была долгой. …
***
Его первый бой был под Ельней в начале осени 41-го.
О нём вспоминал так: бежал вперёд с винтовкой и гранатой, подстёгиваемый мыслью о том, что не может отдать Наденьку, папу, если он ещё жив, Веру Васильевну, Серёжку и других друзей, и близких…
Это потом уже многое придумают поэты и журналисты. Это потом уже напишет великая Ахматова: «И мы сохраним свою русскую речь…». Всё это, конечно же, правильно. И оно наверняка сидело в голове любого бойца, но, вероятно, в виде каких-то дальних, хотя и конкретных образов.
А в мыслях тогда было другое – самые близкие. И ещё спонтанно ассоциировался с самыми близкими и с Отечеством в целом Сталин. Поэтому, когда шли в атаку, то призыв «за Родину, за Сталина» шёл из души каждого советского солдата – довоенное, военное и первое послевоенное поколение не мыслило нашу страну без Сталина.
Феде повезёт. Его даже не зацепит. Хотя, казалось, там – в бою такое невозможно было себе представить. Да и как могло иначе среди воя, скрежета, дыма, крика, взмывающих клочков земли, горящих танков, рвущихся гранат и стрекочущих выстрелов винтовок, автоматов...
Он тоже бежал и стрелял, падал и подымался, снова бежал и стрелял… Даже метнул гранату в танк, но промахнулся.
Пробежали какую-то деревушку, потом поле, подбежали к речке. Некоторые немцы стали бросать оружие и поднимать руки. Тех, кто не бросил, добивали уже в воде…
Потом вернулись в деревушку, которая называлась Смолкой. Её-то и надо было занять, потому что располагалась она хоть и на небольшой, но высоте, откуда хорошо просматривалась местность, и было удобно бить по, пытающимся возобновить наступление, немцам.
В одном из дворов на лавочке у сарая, глядя на догорающий дом, опершись на палку, сидел старик. Он ни о чём не говорил, да и с вопросами к нему подходить никто бы не решился – какие могли быть вопросы, когда недалеко от бывшего дома торчали два столба с натянутой между ними верёвкой. А на верёвке, ещё влажными, висели детское платьице, трусики и носочки. Старику принесли воды, хлеба и кусочек сахара.
Утром он сидел на том же месте, только не опершись на палку, а облокотившись спиной о стенку сарая. Палка лежала на земле. Вода и еда остались нетронутыми. Старику закрыли глаза и похоронили во дворе.
Именно там Федя – Фёдор Матвеев, попавший на фронт студентом Московского юридического института с полученным от родителей – адвоката и пианистки – знанием 3-х языков наяву – будто кожей, ощутит, что «чужого горя не бывает».
***
В живых из его батальона останется четырнадцать человек, которых тут же перебросят под Москву, где в середине октября наша оборона в районе Волоколамска «висела на волоске».
Их вольют в другой батальон, который уже трижды пополнится перед этим. И в течение 2-х суток – 15-го и 16-го бои будут идти беспрерывно. Люди будут гореть в своих танках, бросаться под немецкие, взрывая их сзади, идти врукопашную, бежать впереди танков…
Там Федя впервые почувствует, что значит убить. И не выстрелом, а сапёрной лопаткой, которую, оказывается можно вонзить в человека, как нож в масло. Именно так – «как нож в масло» – отметит он про себя, потому что рассуждать на эту тему сможет позже.
А тогда будет не до этого. Слишком много событий, и нужно держать «ухо востро», чтобы хоть как-то не напороться на нелепость. Хотя в таком бою, наверное, хранить может только случай, или ещё что-то, если оно существует. В общем, судьба.
И она его сохранила. Лишь слегка оглушило, когда что-то разорвалось неподалёку и швырнуло их, бежавших на Запад, словно котят. Как он успел сгруппироваться, объяснить себе потом не мог, но из этого полёта вышел на что-то вроде кувырка и приземлился довольно мягко. Как когда-то давно в спортивном зале. Это он тоже успел отметить.
А, когда встал, то происходящее вокруг ощутил, как в немом кино. И это «немое кино» длилось почти сутки. Потом появился шум в ушах, который какое-то время усиливался, после чего стал слышать отдельные слова, сказанные громко. А ещё через пару суток постепенно прошло. Только несколько дней болели уши.
Но обо всём этом он уже знал, поскольку сразу после боя его привёл в медсанбат командир отделения, и врач, осмотрев, написал на клочке бумаги, что и как будет происходить и что «до свадьбы заживёт». Врач был пожилым – ещё с Гражданской, и «сынки» вроде Феди ему казались детьми.
Уже много позже он узнает, что где-то близко – тут же под Волоколамском – будет и его друг Серёжка, который попадёт сюда добровольцем из ополчения, куда запишется в первые же дни войны.
Но Серёжке в одном из этих боёв оторвёт запястье левой руки, и вернётся он в свою мастерскую на Масловку хоть и с боевой наградой, но инвалидом. Что, впрочем, не помешает ему оставаться таким же «запойным» в работе и женщинах, как и до войны. Приспособится и рисовать, и лепить. Ну а всё остальное у него оставалось на месте.
А пока Федя отметит про себя, что в отличие от первого боя под Ельней, здесь, несмотря на не менее «жаркую» обстановку, не было в голове уже столько хаоса. И даже моментами, вроде, соображал и анализировал.
Да ещё не выходил из головы немец, в которого вонзил сапёрную лопатку. Не воспринимал он его теперь, как врага. Не было почему-то той злости, что в бою. А немец представлялся просто человеком, которого почему-то пришлось убить. Да ещё так – «как нож в масло». Если бы выстрелом, может и не думал бы сейчас о нём. А, может, и думал. Почему-то он теперь видел себя со стороны. Будто и не совсем он, а ещё кто-то сидел в нём там, где не так давно всё это происходило. И тот – «кто-то», доселе незнакомый так много диктовал ему там, а, может быть, и сохранил жизнь…
Размышления прервёт командир отделения, который скажет, что его ждёт командир полка. Федя удивится и сначала подумает – розыгрыш. Но это не был розыгрыш. В землянке сидел полковник и майор-особист, который спросил – правда ли он владеет немецким. Оказалось, разведчики взяли «языка», а переводчика контузило взрывной волной во время обстрела.
Немец был нерядовым, но и, очевидно, невысокого чина, поскольку постоянно повторял, что такими сведениями владеют офицеры не его, а более высокого ранга.
Но кое-что ценное, очевидно, сказал, потому что и полковник, и особист после этой беседы выглядели довольными, и командир полка сразу стал звонить комдиву, а Феде пожал руку и поблагодарил за службу, чем поначалу озадачил, поскольку разговор с немцем как службу не воспринял. Хотя услышать такое было приятно.
Вообще, он обратил внимание, что, как ни парадоксально, но начинает привыкать к какой-то нормальной и даже осмысленной жизни. Во всяком случае, уже понимал, что и зачем. А что дальше…
Он запретил себе размышлять на эту тему, поскольку даже за этот короткий срок понял, может быть, больше, чем за всю предшествующую жизнь.
***
А пока – короткая передышка. Прибывает очередное пополнение, к чему он тоже начинает привыкать. На сей раз из их отделения вообще остались лишь двое: кроме него ещё тот самый командир, что водил его в медсанбат. Зовут Володя. Он тоже москвич. Мастер спорта по стрельбе…
В третьем Федином бою на его глазах Володе оторвёт руку и тот прикажет ему взять командование на себя. Федя поднимет отделение и будет бежать впереди по снегу. И почему-то вспомнит Чапаева. А потом ничего не будет помнить и очнётся только в госпитале. Память на какой-то короткий срок отшибёт из-за контузии. А ранение будет «удачным» – под лёгким навылет. Удачным во всех отношениях: и остался жить, и не инвалидом, и комбат отметит храбрость в бою...
***
Дальше станет Ржев. То, что будет твориться там, по впечатлениям превзойдёт даже эмоции, испытанные в первом бою. Слов на это у него точно не хватит.
Тут что-то можно понять, наверное, читая Твардовского, которого он полюбил ещё с довоенных лет, потому что сразу почувствовал в его стихах какую-то простоту и одновременно силу убеждённости.
А потом, когда прочтёт «Я убит подо Ржевом…», то отметит, что именно так и было. И что лучше и точнее не скажешь. Потому что – «…Я зарыт без могилы… точно пропасть с обрыва… и ни дна, ни покрышки…» – так там и было. А дальше:
«…Где травинка к травинке –
Речка травы прядёт,
Там, куда на поминки
Даже мать не придёт…».
Можно ли сказать сильнее и убедительнее того, о чём в двух последних строчках…
Много лет спустя – уже в середине 70-х в ЦДЛ, куда довоенный приятель Борис – теперь уже знаменитый Борис Слуцкий – пригласит его на поэтический вечер тоже довоенного знакомого Дэзика, а теперь уже давно такого же знаменитого, как Слуцкий, Давида Самойлова, Федя в перерыве неожиданно встретит своего бывшего командира взвода, который в бою подо Ржевом, когда убили командира роты, принял командование на себя.
Фамилию он забыл, но имя помнил. Слава. И хотя с тех пор прошло больше 30-ти лет, очевидно, оба остались ещё узнаваемы друг для друга. К тому же Федя командовал под началом Славы одним из отделений. И хотя поэтический вечер был замечательным, однополчане так разговорились, что на второе отделение не пошли, а в полуподвальном помещении, где в ту пору располагалось знаменитое Кафе поэтов, просидели до закрытия Дома.
Через день Слава дал ему свою рукопись о тех событиях подо Ржевом. То была правда «из окопов».
Об этой же «правде из окопов» он уже читал и у Юрия Бондарева в «Тишине».
И вот теперь Федя чувствовал восхищение от глубины и силы изложенного в рукописи Славы, когда на фоне, казалось бы, частной истории можно столько сказать о внутренней силе советского человека.
И это написал человек, который раньше свои эмоции в основном выражал с помощью красок и кисти, поскольку работал художником-оформителем.
Уже потом мы узнаем, что в стране появился замечательный писатель Вячеслав Кондратьев, который дебютирует *повестью «Сашка». Той самой, какую одним из первых ещё в рукописи прочтёт Федя, и которая станет событием в литературной жизни страны.
Но пока до «события» ещё несколько лет и Слава рассказывает своему боевому товарищу, что рукопись побывала у Симонова, и тот дал хороший отзыв.
Потом она будет опубликована в журнале «Дружба народов», в феврале 79-го года. А дальше один из её персонажей будет последовательно переходить в другие повести Кондратьева: «Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению», после чего окажется в его романе «Красные ворота».
И в том персонаже по имени Володя, конечно же, будет виден сам автор. А точнее то, что он испытал и в войну, и особенно после неё, когда самое главное сделали: победили.
И теперь восстанавливали разрушенное за те годы народное хозяйство такими темпами, что на Западе завидовали, не понимая, откуда столько сил и самоотверженности у советского человека.
Вячеслав Кондратьев уйдёт их жизни в сентябре 93-го. Уйдёт с горечью в душе оттого, что стало с его страной в результате той варварской перестройки, которая разрушила ещё не так давно такой мощный Советский Союз. Проводят его немногочисленные, но верные друзья, среди которых будет и Федя
Но его произведения останутся и станут в один ряд с написанным такими же блистательными авторами, как Юрий Бондарев, Василь Быков, Виктор Некрасов, Борис Васильев…, тоже сказавшими правду о войне.
***
А пока до этого далеко. И подо Ржевом Федя получает очередное ранение. Оно в ногу. И опять ему везёт. Пуля проходит навылет.
Здесь же – в госпитале к нему подойдёт ладная девушка, чьи черты и особенно глаза покажутся очень знакомыми. (Позже он узнает, что она заходила за таблетками от головной боли).
– Не помните?
– Помню. Но где и когда?
– Мотоклуб.
– Неужели Марина?
– Изменилась?
– Конечно. Совсем ведь девочкой была. А теперь смотрю – взрослая. Красавица – глаз не оторвать. Поначалу подумал, что видел в кино.
– Ну, уж в кино. Но всё равно спасибо.
Марина приходилась племянницей Виктору Михайловичу, что работал сторожем в мотоклубе, где занимался Федя. Все его звали Михалыч. Наверное, от дяди перешла ей любовь к мотоциклам.
Дело в том, что Михалыч сам был в прошлом известным гонщиком Виктором Поморцевым, которому тяжёлая травма не позволила с какого-то момента садиться на мотоцикл. Из спорта пришлось уйти, но отойти от того, что было сопряжено с мотогонками, он не смог. Остался в клубе, но не только был сторожем.
Мало кто мог сравниться с ним в доскональном знании каждой машины, которая была в ведении клуба. Он обладал способностью по звуку работающего мотора безошибочно определять, в каком состоянии «питомец» и что нужно сделать, чтобы устранить неполадку, если таковую обнаруживал.
И любопытно, что его племяннице тоже перешла не только любовь к мотоциклу, но и умение его «слышать». Уже довольно скоро эта добровольная помощница своего дяди, к удивлению гонщиков и персонала клуба, включая и самого Михалыча, научилась также безошибочно определять состояние машины.
И ещё – девочке очень хотелось участвовать в гонках, и она мечтала о том дне, когда ей это будет позволено. Причём, соревноваться намеревалась и с мужчинами. Когда чуть подросла, Михалыч стал позволять ей иной раз прокатиться на «лёгком» мотоцикле. Остальное же время она проводила, помогая кому-нибудь из гонщиков.
Когда появился Федя, стала помогать и ему, но вскоре остальные обратили внимание, что в дни его тренировок – только ему. Это послужило поводом невинных шуток, которые нередко вызывали у девочки румянец смущения. В такие моменты Федя старался сгладить её неловкость репликами о том, что люди опытные и сами справятся, а ему – «сырому» новичку без квалифицированной помощи – никак …
За четыре года, что он занимался мотоспортом, девочка превратилась в очаровательную девушку-подростка, которая почему-то стала напоминать Феде образ Наташи Ростовой на её первом балу…
Такой он и запомнил ту Марину, что сейчас была перед ним в облике очаровательной молодой женщины.
Как ни странно, а может быть, при такой любви и не странно, кроме Наденьки за эти годы вне дома, ни о какой другой женщине он не думал. Но теперь, глядя на давнюю знакомую и всё ещё пытаясь соединить её довоенный облик с нынешним, ощутил, вдруг, что перед ним не просто женщина, а желанная…
Желания, видимо, совпали, потому что через несколько дней в землянке, где жили две её напарницы-радистки, те как-то дружно нашли неотложные дела, чтобы отлучиться до утра…
Марина потянулась к столу и взяла папиросу.
– Ты куришь?
– Второй раз. Первый был, когда я сменила Катеньку. Она вышла наружу, и её «снёс» снайпер…
– Прости меня, Мариш…
– За что? Я ведь там – в Москве о тебе мечтала. Всякий раз что-то воображала, хоть и понимала, что ты видишь только Надю. Я и завидовала тому, что у вас, как в кино, и хотела, чтобы ты когда-нибудь обратил на меня внимание… Ну, как мужчина, а не так – будто старший брат. Хотя и понимала, что тогда могла только насмешить этими мечтами…Кстати, как Надя?
– Пока не знаю.
Да и как тут узнаешь о том, что дома, когда дислокация нередко меняется. И к тому же такое творится, что и письма могут не доходить... Как она там без него?
Марина будто почувствовала его мысли, но поняла по-своему:
– Не кори себя. Я тут поняла, что на войне не бывает измен. Я многое здесь поняла. Гораздо больше, чем за всю предыдущую жизнь. Кто знает, как дальше сложится, а кусочек счастья мы друг другу подарили. Во всяком случае, ты мне – точно. Может, так хорошо уже никогда и не будет.
– Ну, зачем ты так?
– Прости. Размечталась что-то и разболталась. Но ты ведь мне, как родной. Ещё оттуда – из той жизни.
Она так трогательно держала его руку, на плече которой лежала её голова, и гладила ладошкой. И не было в тот момент ни войны, ни того, что ему завтра, точнее уже сегодня, в часть, а ей к рации – ничего, кроме этих двух, которые больше не соединятся.
Потому что через неделю рядом с той землянкой, где они сейчас дарят друг другу их первое и, как окажется, единственное свидание, разорвётся снаряд. А Марина в тот момент то ли выйдет из неё, то ли ещё не войдёт…
Много позже он напишет:
На войне не бывает измен –
Только встречи и только разлуки,
Потому что сплетённые руки
Так легко превращаются в тлен.
Оттого нет любовных интриг,
И приходит туда только данность.
Переходит она в благодарность –
Будто в вечность уносит тот миг.
Он поймёт это сам. Но первой, кто ему об этом скажет, останется та самая девочка, которая когда-то казалась ему так похожей на Наташу Ростову на первом балу, хотя он и не мог знать, какой была Наташа Ростова.
А тот «кусочек счастья» действительно там был, остался с ним на всю жизнь. Она и тут оказалась права.
***
Его последний бой будет летом 43-го под Курском. На той самой, в последствии знаменитой, «дуге», где было не менее жарко, чем подо Ржевом, но, где настроение было уже другим. В воздухе будто витало, что вот-вот немец иссякнет. А мы уже набрали достаточную силу, чтобы начинать его гнать повсеместно…
Но, всё равно, потери несли огромные, потому что немец цеплялся за каждый клочок нашей земли. К тому же ещё и оставлял за собой сожжённое жилье, уничтоженных мирных жителей, заминированные поля…
В этом бою ранит командира взвода, и тот прикажет Феде, как одному из командиров отделения, принять командование на себя. С этим взводом они возьмут назначенную высотку, и уже на ней он сам получит ранение, которое окажется серьёзным. Осколок попадёт в ногу и перебьёт голень. И хотя кость срастётся, ходить без палочки он уже не сможет. А ещё, поскольку та высотка окажется стратегически важной для последующих действий, его представят к высокой награде – Ордену Красной Звезды….
Но вместо того, чтобы отправиться в Москву, поедет совсем в другое место. Дело в том, что в одном из разговоров с ранеными однополчанами он выскажется о том, что Гитлер сумел обмануть Сталина после подписания в августе 1939 года пакта Молотова-Риббентропа и это, в конечном счёте, привело к нашей недостаточной подготовке к войне, приведшей в её начале к такому числу жертв. И этого оказалось достаточным, чтобы кто-то донёс, потому что наутро его вызовет майор-особист и заведёт дело по 58-й статье.
После этого ни о какой боевой награде речи идти не могло…
Из госпиталя он попадёт в инвалидный лагерь «Кача» – по названию реки или станции под Красноярском. И будет там валить лес лучковыми пилами – поскольку лагерь не имел статуса лесоповального, соответствующая для такой категории лагерей механизация в нём предусмотрена не была. Везти этот лес приходилось на коровах, так как соответствующий транспорт тоже по указанной причине не будет положен. А молочная ферма есть, и коров для этих целей дают.
Лес тот шёл на изготовление мебели.
Вот на таких работах приходилось трудиться.
Контингент был пёстрым и разнообразным. Настолько, что дальше, казалось бы, некуда. Тут тебе и недобитые кадеты, эсеры, монархисты, уклонисты… и коммунисты, которые, как Федя, верят, что относительно ошибочного пребывания здесь органы обязательно разберутся.
В общем, компания та ещё. Но что самое интересное – содержание разговоров здесь почему-то «не просачивается». Впрочем, может и просачивается, но куда ещё инвалидов приспособишь. А тратить патроны на осуждённых по 58-й, очевидно, разнарядки не поступало. Поэтому хоть и потихонечку – шёпотом, но языками «чесали».
А рассказать некоторым было о чём. Он узнает столько, что потом станет считать лагерь своей политической академией…
В общем, когда Федя окажется на свободе, ощутит себя человеком с совершенно иным кругозором.
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 25.02.2025, 23:55 | Сообщение # 2909 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Я ВЕРНУЛСЯ В МОЙ ГОРОД, ЗНАКОМЫЙ ДО СЛЁЗ…
В Москве он окажется лишь в 53-м – после того, как по распоряжению Берии органы, действительно, разберутся, кто попал в лагерь справедливо, а кто нет.
И сразу пойдёт к Наденькиной маме Вере Васильевне.
На его звонок откроет дверь красивая, совсем седая пожилая женщина с удивительно знакомыми чертами лица.
– Феденька.
Обнимет его и тихо заплачет. Потом будто очнётся.
– Ну, что же мы стоим.
Когда вошли в комнату, он увидел фотографию Наденьки. Она стояла в рамочке с чёрной ленточкой наискосок. Оказывается, они были где-то близко друг от друга – Надя с госпиталем тоже попала на Курскую дугу. И там в клуб, где находились раненые, во время её дежурства попал снаряд…
Похоронка пришла в том же 43-м, и Вера Васильевна «побелела» за ночь. Неизвестно, как бы на эту весть отреагировал организм, но он обязан был выдержать и выдержал.
Того, кому организм обязан был держаться, Федя увидит довольно скоро. Через полчаса раздастся звонок, и в комнату войдёт… Наденька, точнее, существо с явными очертаниями её фигуры: настолько явными, что даже «ямочки» на плечах будут обозначены. А лицом очень похожа на него. Этому существу, оказывается, уже 12 лет, поскольку появилось оно через несколько месяцев после того, как призвали Федю. В честь его мамы «существо» назовут Оленькой.
Оказывается, Надя знала, но Феде до поры решила не говорить из суеверия – у них, точнее, у неё долго с этим ничего не получалось. Решила, что, если всё будет благополучно, в какой-то момент сам увидит происходящие с ней изменения. И на этот раз действительно всё оказалось благополучно. Вот только Феде уже не могла сообщить.
А потом уже и Наденьки не стало… Она ушла на фронт в 42-м, оставив Оленьку с Верой Васильевной, которым на какое-то время пришлось эвакуироваться в Казань вместе с яслями и садиком, где работала Вера Васильевна. Так и остались они вдвоём.
О судьбе мамы девочка узнает случайно, услышав в садике разговор двух воспитательниц. И, когда спросит бабушку, та подтвердит.
А о судьбе папы, поскольку никто ничего не знал, Вера Васильевна сначала придумает легенду, будто он на особом задании…
И вот она входит в комнату и видит, хоть изменившуюся, но всё же узнаваемую «фотографию».
– Папа?..
Сказала она это не совсем уверенно – то ли утверждая, то ли удивляясь, то ли спрашивая его. Причём, спрашивая так, будто боялась получить отрицательный ответ.
Но откуда было взяться отрицательному ответу, когда они оба, глядя друг на друга, будто в немалой степени смотрели в зеркало. И не нужно им было много времени, чтобы к этому привыкнуть, хотя его ощущения продолжали раздваиваться, потому что настолько явным был Наденькин силуэт. Да и к тому же эти «ямочки», которые всегда сводили его с ума, и он думал, что они единственные на Земле.
Ей было проще. Как-никак, она его, всё же, в мечтах ждала. А он и не подозревал, что кроме Наденьки и Веры Васильевны, кто-то на этом свете может у него быть. И какая красавица. Скольких же эта девочка сведёт с ума, если уже не сводит.
И действительно, по словам Веры Васильевны, звонков «море», и в гости постоянно приходят одноклассники. «Позаниматься».
Вот и сейчас – звонок в дверь… Точно – один из «отстающих» нуждается в консультации. Но сегодня её не будет. Сегодня у неё папа. И дочь не может от него оторваться.
Нисколько не смущаясь тем, что уже «взрослая», усаживается к нему на колени. Как же там уютно. И ему удивительно хорошо, хотя и больно – будто и Наденька, и не она. Раздваивается что-то. Но как же смягчает эту боль нежданно появившееся в его жизни родное существо. И смягчает, и напоминает. Поэтому одновременно и «больно, и светло».
Прав был знаменитый поэт. Так может быть одновременно. Но не пережив такое, этого не поймёшь. Такое можно только почувствовать. А боль отдельно, от того, что Наденьки нет, останется на всю жизнь, как и отдельное место Наденьки в его душе.
А звонки продолжают идти. Да, выбор у девочки богатый…
Но Оленька предпочтёт Валерку – курсанта лётного училища, с которым через три года познакомится на танцах в парке культуры имени Горького и выйдет за него замуж 18-ти лет. Она посвятит себя его карьере и будет мотаться с ним по местам дислокаций во многом, по словам Валерки, сделав из молоденького лейтенанта, в конечном итоге, полковника, который лишь в этом звании в 81-м будет переведён на службу в Москву.
К тому времени их сыну Олегу будет уже 20. Он окончит то же училище, что и отец. И через несколько лет службы будет направлен в военно-воздушную академию в подмосковное Монино, после чего его оставят на преподавательской работе.
Тот период как раз совпадёт с этапом бурного развития перестройки, которая не лучшим образом отразится на военных. А у Олежки уже семья. И, чтобы её прокормить, в 92-м в чине подполковника он будет вынужден демобилизоваться и пойти охранником в один из коммерческих банков, подрабатывая ещё на одной из вырастающих в ту пору, как грибы, фирм. Благо, работа в режиме сутки – трое позволяла это совмещать и не бедствовать семье, в которой уже подрастали Феденька и Наденька – правнуки Феди – старшего.
В них он, конечно же, души не чаял. Впрочем, чувства были взаимными, и поход к прадедушке дети всегда ждали, как праздник…
В 70-м тихо во сне уйдёт Вера Васильевна, которая так любила своего Феденьку, ставшего ей сразу сыном. Да и он в ней чувствовал маму…
Но пока Вера Васильевна жива, и они втроём замечательно проводят вечер, так нежданно выпавший каждому из них. Вера Васильевна испекла пирог с яблоками, а Оленька то и дело «отшивает» очередного желающего позаниматься, или погулять.
***
Вторым, к кому он пойдёт в Москве, будет Серёжка. Его мастерская на Верхней Масловке мало чем изменится с довоенных времён. От неё сразу повеет чем-то родным. Даже тот единственный Наденькин портрет, который Серёжка тогда – как только написал – попросил на время оставить, потому что у него были ещё какие-то идеи, так и стоял на прежнем месте. И диван – ложе безумной любви довоенного студента и медсестры, из которого почему-то время от времени вылетала одна и та же крайняя нижняя пружина, также был на прежнем месте…
Вот только Серёжкина жена Наташа – тоже художница, с которой они вместе учились и поженились ещё на втором курсе, ушла перед самой войной.
– Прости меня, Серёжа. Ты очень хороший. Но я полюбила. Я, оказывается, не знала, что это такое. Прости меня, если можешь.
А что прощать, если полюбила. Это святое. Нельзя сказать, что известие стало для него совсем уж неожиданным. Какие-то мысли время от времени посещали. Но он их гнал, утешая себя тем, что в семье бывают разные периоды. Именно на эти «периоды» он и надеялся. А, может быть, за этими мыслями хотел спрятаться…
И остался он без Наташки и Леночки, которой в ту пору было два годика. А теперь уже 14. Барышня. Папу любит. Они с ней друзья. Часто к нему приходит. Ну а портретов любимой дочери – половина мастерской…
– Женщины? Их, как и до войны, вокруг много. И они замечательные. Но, оказывается, несмотря на все его «методы больших чисел», Наташка так и осталась особняком. Единственной, кто ему нужен постоянно. Когда было всё хорошо, об этом не думал. Понял лишь, потеряв её…
– Она счастлива. Там тоже девочка. И к нему приходит. Очень славная. Танечка. Вот портрет. Курносенькая в веснушках. Трогательная. На Мишку – её отца похожа. Ей уже 12.
– Комнату? Конечно. Живи в моей. А я здесь. Уже привык.
Вера Васильевна оставляла Федю у себя, пока не разберётся с жильём. После ареста его отобрали, и теперь предстояла бумажная волокита, чтобы его вернуть, предъявив справку-постановление о том, что ты полностью реабилитирован, и теперь государству положено вернуть твою собственную крышу над головой. Но оставаться у неё он счёл это неловким. Ведь у Веры Васильевны – лишь комната.
А Серёжка жил на той же Верхней Масловке рядом с мастерской. И его предложение оказалось для Феди, как нельзя кстати. Он-то шёл сюда попросить друга позволить ему ночевать в мастерской. Но, когда сидели, почувствовал, что больно будет оставаться здесь одному – так много в этих стенах связано с Наденькой…
На следующий день Вера Васильевна ждала в гости. Был как раз выходной, и Серёжка взял Леночку. Как ни странно, но он не успел до войны познакомиться с Наденькиной мамой, иначе знал бы обе новости не из Фединого рассказа…
Когда увидел копию своего друга, даже замер. Как же природа может распорядиться. Но, тут же, замер ещё раз, когда Оленька поздоровалась и подошла. Это действительно была Надя и по голосу, и по походке, и по многим остальным движениям, которые помнил цепкий глаз художника.
С Леночкой они сразу нашли общий язык, и к удовольствию их родителей между ними установится такая же близкая дружба…
Вечер пролетел незаметно, и расставаться никому не хотелось. Серёжка умудрился сделать настолько тёплый набросок портрета Веры Васильевны, что теплота его отношения к этой, – испытавшей такое горе женщине, чувствовалась едва ли ни физически. Это тронуло хозяйку, и она сказала, что у неё появился ещё один сын…
***
А этот «сын», какой уж год никак не мог забыть свою Наташку. И, наверное, от этого его фантазии по отношению к женщинам били ключом. Возлюбленными в основном были его модели, и он сразу же пришёл к выводу, что только написанные после «моментов истины» портреты, или ню, обретают истинную глубину и наполненность.
В своём увлечении дойти и в этом вопросе «до оснований, до корней, до сердцевины» Серёжка «кипел» настолько, что Федя как-то назвал его период «затянувшимся бабьим летом».
– Ты точно умрёшь на этом диване…
И всё бы хорошо, но вот без Наташки, которая столько раз прощала ему его «дежурные влюблённости», не мог. Тосковал даже среди такой бурной жизни. А может, она и была такой бурной, что тосковал и хотел это заглушить – сидела в его душе Наташка.
Так и осталась там единственной, ради кого он был готов отдать всё и, пожалуй, всех. Хотя Феде говорил, что его бы не отдал…
Женщины, которые, естественно, появлялись теперь и у Феди, были в основном, из подруг Серёжкиных подружек. Но никогда и ни с одной из них он не остался в мастерской. Он обнаружит, что это пространство для него так и останется принадлежать Наденьке...
***
Бумажная эпопея с получением жилья затягивалась, и тут подвернулся случай. Один из многочисленных знакомых Серёжки оказался управдомом, в ведении которого был готовый к сдаче дом на Беговой. Там требовались дворники и лифтёры, причём под эти должности давали комнаты. И Федя подумал – почему бы нет.
Дворником, конечно, не позволяла палочка, а лифтёром… После лесоповала очень даже комфортно в сравнении с теми условиями, какие выпали ему в последний десяток лет.
Комната, да ещё и работа рядом с ней. О чём большем можно мечтать в его положении. К тому же в отделе кадров ЖЭКа не смотрят на судимость. Это пока ещё состоится официальная реабилитация – о темпах работы официальных лиц в Хрущёвский период он уже получил представление, восстанавливая право на отобранное жилье.
***
Итак – лифтёром. Он и не думал, что это настолько хорошо. Жильцы дома – в основном люди приятные, интеллигентные. Хлопот почти нет, поэтому есть время читать, что он с детства любит, и чего, к счастью, не был лишён все эти годы, поскольку в лагере на Каче была хорошая библиотека. И он там прочитал всё, а что-то и по нескольку раз. Благо, срок позволял.
Но то, что удалось сохранить Наденьке из библиотеки его родителей разве сравнишь с ассортиментом Качи. К тому же здесь – на трёх языках. А он не забыл. Дело в том, что там – на Каче были ещё с 30-х и представители Коммунистического интернационала, и с ними Федя охотно поддерживал беседы на их языках. Особенно немецком и французском. В общем, всё складывается удачно. Жаль, только, без Наденьки…
И комната замечательная в удобной квартире. А квартира действительно хорошая. Недаром в такой же поселился архитектор этого дома, который строили пленные немцы. Федя прав – это пока ещё признают инвалидность, полученную на войне, пока восстановят боевую награду, пройдут годы. А тут он уже может позволить себе баловать Оленьку и Веру Васильевну, хоть и скромными, но, всё же, подарками.
И Серёжке отдать долг. Он хотел это сделать в первую очередь, поскольку до поступления на работу жил за его счёт. Но когда принёс тому деньги, услышал такое, что желание расплатиться с другом моментально отпало. Лекция о понятии «дружба», тут же вдохновенно прочитанная Серёжкой, будет настолько убедительной и яркой с образными комментариями и нередко «по латыни», что ему даже стыдно станет от своего побуждения…
***
Его соседом по 2-х комнатной квартире будет Валентин, который доводился племянником управдома. Он получит жильё тем же путём, что и Федя, и единственным между ними отличием в этой процедуре станут их должности – Валя устроится дворником…
Вечером 9-го мая после того, как Федя вернётся от Большого театра, где долго будет всматриваться в лица, надеясь, хоть кого-то, с кем был под Ельней, Москвой, Ржевом, или Курском, узнать, но не узнает, раздастся звонок в дверь. На пороге стоял Валя, а в руках у него было то, что, естественно, должно стоять на столе, за которым будут сидеть двое мужчин, да ещё в такой день.
Неторопливый разговор пойдёт до утра, настолько им найдётся, что друг другу сказать. Из этой беседы Федя узнает, что его сосед родом из Смоленска и в 41-м окончил Смоленское стрелково-пулемётное училище. Через год попал в окружение. Вышел. И хотя оружие и документы были при нём, чему-то не поверили. И в конечном счёте – штрафбат.
А в 43-м ранение, плен. Потом побег. И в «награду» знакомый Феде лесоповал только в другом месте.
В 53-м после приказа Берии разобраться, кто, действительно, предатель Родины, а кто осуждён по недоразумению, вернётся на свободу с полной реабилитацией. То есть, и тут всё сложилось так же, как у Феди.
В лагере Валя узнает, что никого из семьи в живых не осталось – в их дом в Смоленске попала бомба. Единственным из родни был дядя, который жил в Москве. Тот самый, что работал управдомом…
В общем, картина знакомая…
***
Запомнился Феде 1956 год. Запомнился подлым, секретно подготовленным для Хрущёва и его приспешниками докладе, сделанном Хрущёвым в последний день 20-го съезда КПСС на закрытом заседании ЦК КПСС.
Именно там – уже в узком кругу членов ЦК он подло оболгал Сталина, что, в конечном счёте, привело страну к расколу. Раскололась она на две части – верных Сталинцев: фронтовиков вместе с самоотверженными в Великую Отечественную войну работниками тыла, составляющими единое целое с фронтовиками, и того меньшинства, которое поверило Хрущёву. В основном это была легковерная молодёжь и конъюнктурщики.
Хрущёв же, решивший показать, что Сталин неправильно управлял страной, стал производить реформу за реформой. Однако, ему это вышло «боком – потерпел фиаско во всех аспектах.
Естественно, что его вредоносная деятельность, как во внутренней, так и во внешней политике длиться бесконечно не могла. И слава Богу, пока не загубил страну окончательно, был в1964 году изгнан из власти и отправлен на пенсию.
Убравшая его команда Брежнева, благодаря Алексею Николаевичу Косыгину начала активно восстанавливать заметно разрушенный Хрущёвым экономический потенциал страны. Однако, из-за аппаратных интриг тех чиновников, которые увидели угрозу для своего пребывания в тёплых креслах, этого сделать не сумела. Они поспособствовали тому, что Брежнев свернул давшие было серьёзный экономический эффект реформы Косыгина. И после этого страна продолжила катиться вниз…
А потом и вовсе с 90-х произошёл распад Советского Союза на его составные части, которые и по сей день, кроме Белоруссии, продолжают катиться в лоно сырьевых придатков Запада.
Постепенно стали открываться документы, которые не успел уничтожить Хрущёв, трусливо оболгавший Сталина. Они-то, вместе с историей послесталинского периода, и показали, насколько Сталин был выше всех, как глава государства. И насколько он был прав, как во внутренней, так и во внешней политике.
***
В 77-м в театре он встретит Ниночку – теперь уже Нину Даниловну – бывшую однокурсницу, тайно и безнадёжно в те далёкие годы в него влюблённую.
Да и кто тогда не был в него влюблён. Красавец, самый одарённый на курсе, с тремя языками, да ещё и мотогонщик. Разве тут устоишь.
Но всех постигало одно и то же огорчение. Потому что – Наденька. И кроме неё он никого не видел.
Ниночка входила в круг его друзей, поэтому с Надей была знакома. Они даже симпатизировали друг дружке, хотя, конечно же, втайне Нина ей завидовала. Но Федя узнает это только теперь – так хорошо она сумела тогда скрыть…
– Вышла замуж за однокурсника Витьку Коробова. Нет его уже. Почки… Два внука. Сама теперь – доцент. Читает на юрфаке МГУ «Государство и право». Ведёт семинары и факультатив. Серёжку помнит и будет рада видеть…
Впервые после Наденьки он ощутит, что в такой степени опять неравнодушен к женщине. Какие-то очень трепетные из, казалось бы, навсегда оставленного в прошлом, моменты вновь так неожиданно к нему вернутся.
Это – неправда, что у шестидесятилетних всё иначе, чем у молодых. Может быть, только глубже. И ценишь это больше. А эмоции, оказывается, те же.
И такое, неожиданно свалившееся на обоих счастье, будет длиться 12 лет.
К этому моменту у Феди была уже квартира. Валентин женился, пошли детки. После рождения второго Фёдор пошёл в военкомат, а оттуда в СОБЕС и как участник, и даже инвалид Великой Отечественной войны вскоре получил однокомнатную квартиру в одном из тогда активно строящихся домов на Карамышеской набережной.
На Карамышевской, как и в нашем доме, Федор Матвеевич стал работать лифтёром в своём подъезде…
В 89-м Ниночки не станет. И очень многое в его жизни погаснет. Потому что он, вдруг, обнаружит в себе то, о чём эти 12 лет не задумывался – потребность и её глазами видеть происходящее вокруг …
***
Но пока Ниночка жива. И они идут к Серёжке.
– Постой, постой… Неужели!?... А как с парашютом – попробовала хоть разок?
Дело в том, что Нина с детства очень боялась высоты. Она не могла смотреть вниз даже с 4-го этажа. Ей становилось дурно. А Серёжка в те далёкие 30-е, зная это, подтрунивал, советуя вышибать клин клином – прыгнуть разок с парашютом. И уверял, что после этого не только перестанет бояться, но и, напротив – полюбит высоту. Узнает другие – неведомые ей пока ощущения. И рассказывал в деталях всю процедуру подготовки к прыжку, самого полёта и приземления, отчего девушке становилось совсем дурно.
Надо сказать, что Серёжка знал все эти подробности не понаслышке, поскольку увлекался парашютным спортом ещё с 10-го класса, и к моменту таких разговоров с Ниной за его плечами было уже серьёзное число прыжков…
С этого дня они часто станут приходить к Серёжке вместе. Ниночка на 12 своих последних лет переедет к Феде…
***
Случится так, что самых близких ему людей он потеряет почти одновременно. Вслед за Ниной тремя месяцами позже в том же 89-м уйдёт и Серёжка.
В последние годы с ним случится довольно резкая перемена. Хотя внешне вроде бы останется таким же. «Источников вдохновения» у него, по-прежнему, будет много. И на любой вкус. Однажды – даже негритянка.
– Непередаваемо! А темперамент! А фантазия! Богиня!
Серёжка долго не мог прийти в себя от восхищения и даже на Федино: «Хорошо – не Клеопатра» никак не отреагировал. Не заметил, увлёкшись свежими воспоминаниями…
Но его портреты и ню уступят теперь место условным лицам. В основном лицам солдат. Все они будут в чём-то вроде будёновок с пятиконечной звездой.
Изображал он лица в виде пятиугольников. Одну половину, отделяемую от другой линией носа, чуть заметно смещал вниз – делал лёгкую вертикальную асимметричность. А потом слегка затенял смещённую часть. И создавалось впечатление того, что он называл знаменитой строчкой: «Это лёгкий переход в неизвестность от забот…».
Все, кто из его коллег бывали в мастерской, единодушно признавали, что такой эффект – Серёжкина находка.
А ещё в тот период он нередко рисовал следы уходящего человека, которые в каком-то месте раздваивались, потом ещё раз, ещё…, и один из следов обязательно возвращался. А возвратившись, топтался вокруг – будто что-то, или кого-то искал. Или ждал.
В его последнем рисунке эти следы не возвращались. Они уходили от двух перевёрнутых лодок. На дне одной из них зияла щель, причём, будто кто-то специально её сделал, расколотив доску…
Серёжка лежал на том самом – знаменитом диване. Рядом с диваном стоял этот рисунок. И скорая уже ничего не могла сделать…
Рисунок Леночка потом подарит Феде, а он в какой-то момент напишет, посвятив Серёжке, такие строчки:
«…Нас возвышающий обман…»
С вопросом – где мы, или кто мы,
Или на что порой готовы,
Найдя «пылинку дальних стран».
Но мы живём здесь и сейчас,
А не в заоблачном «когда-то»,
И лишь сверяем наши даты,
Которые глядят на нас
С улыбкой, или же в слезах –
Это зависит от причины…
Их расставляет время чинно,
Чтоб о себе нам рассказать.
А эпиграфом к нему возьмёт знаменитое: «…Но кто мы и откуда, /Когда от всех тех лет/Остались пересуды, /А нас на свете нет?»
…И ЛЕСА НЕТ – ОДНИ ДЕРЕВЬЯ…
Когда уйдёт и Серёжка, Федю в какой-то момент неожиданно потянет писать обо всём, что сохранила память. И это поможет ему уходить от того одиночества, которое он, вдруг, станет испытывать точно физически.
Чтение, конечно, тоже помогало. Перечитывал «Чевенгур» Платонова, «Фонвизин» Рассадина, у Булгакова «Белую гвардию», у Пушкина «Египетские ночи», рассказы Шукшина, «Живи и помни» В. Рапутина. А также, на его столе постоянно находились томики Блока, Гумилёва, Есенина, Твардовского, Дезика, Рубцова и Верлена (на французском) ...
Но к собственным воспоминаниям на бумаге тянуло теперь значительно сильнее. Он нередко так увлекался, что терял чувство времени, подтрунивая потом над собой по поводу сходства и различия между графоманом и граммофоном.
Но даты происходящего ставил. Поэтому и удалось из его записей составить представление о жизни этого человека в разные её периоды, начиная с детства, и об атмосфере времени, а точнее, времён, которые «не выбирают» – как он их чувствовал.
В его записях часто встречаются фрагменты собственных стихотворений. Их довольно много. Но он редко доводил те строчки до конца. Видимо, поэтические наброски в данном случае служили иной цели – они были помощниками в точной передаче определенного ощущения. И пользовался он ими тогда, когда говорил о чём-то самом интимном, а значит и главном. Где просто рассказ ничего не передаст, а поэтическая фраза способна на верную интонацию, глубину и неоднозначность пережитого. Ну, например, «Ты осталась весточкой оттуда, /Где всегда так долго длится день…». Или: «Догорает огарок свечи – /То ли след темноты, то ли слепок. /И, наверное, будет нелепым/Мне просить тебя: «Ты не молчи» …
Много рассуждает об искусстве как таковом – о его сути, основываясь на высказывании Ницше о том, что «искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». И опираясь на это высказывание, подробно говорит о стихотворении Блока «Балаганчик», особенно о его второй половине: «…Тащитесь траурные клячи! /Актёры, правьте ремесло, /Чтобы от истины ходячей/Всем стало больно и светло! /В тайник души проникла плесень, /Но надо плакать, петь, идти, /Чтоб в рай моих заморских песен/Открылись торные пути». В Блока он влюблён чуть не с пелёнок и именно от того, что его поэзия несёт в себе вот это «больно и светло» …
А вообще писал довольно сдержанно. В нескольких местах он приводит строчки, очевидно, одного из самых любимых стихотворений последних лет, написанных одним из самых любимых его поэтов –Дезиком: «Не торопи пережитого, /Утаивай его от глаз. /Для посторонних глухо слово/И утомителен рассказ. /А ежели назреет очень/И сдерживаться тяжело, /Скажи, как будто, между прочим/И не с тобой произошло…». Вот и говорил он «как будто, между прочим» о том, что довелось пережить…
Свою последнюю запись он тоже назвал строчкой Дезика: «…И леса нет – одни деревья…». После этого что-то написал и тщательно зачеркнул. Лишь конец фразы можно было хоть и с трудом, но разобрать: «…унывать – это грех». Потом следовало его стихотворение. На сей раз, похоже, написал он его полностью:
У исключений правил нет –
Они, как правило, случайны,
И тайна их первоначальна,
Как без предмета силуэт.
Или, как разовый билет
Туда, где, вдруг, объявлен праздник.
И не казённой в буднях фразой,
А той, что оставляет след.
Он может быть совсем не прост
В незарастающей тропинке –
Ведь даже память без запинки
Не отвечает на вопрос
О том куда был тот билет,
И где объявлен был тот праздник,
И почему иная фраза,
Вдруг, навсегда оставит след.
А дальше: «Похоже, права была одна старая женщина, которая как-то сказала: «На свете важно любить и быть любимым. Всё остальное не имеет смысла» …
В продолжение следует несколько слов по-французски, а потом совсем, казалось бы, неожиданное для его биографии: «И всё-таки, если посмотреть на прожитое и пережитое выше и шире собственной биографии – посмотреть в масштабах страны, – то как бы то ни было, убеждаешься, насколько прав в конечном счёте оказался Сталин. И насколько велика его роль создании нашей великой державы – Советского Союза, в нашей Победе над фашизмом, а потом и в восстановлении разрушенного войной. Причём, в такие короткие сроки, какие нигде на Западе и не снились… Но что и почему после Сталина пошло не так, пока непонятно… И всё равно – «самое дорогое у человека – это жизнь». Наверное, поэтому, несмотря ни на что, даже сейчас – в это смутное, вседозволенное в своей бездуховности и цинизме время жить нужно так, чтобы…».
Тут крючок последней буквы этого слова «поехал» вправо, и эта буква в таком необычном очертании оказалась последней, которую Федя – давно уже Фёдор Матвеевич – успел написать.
Было это 7-го ноября 99-го года. В тот день ему исполнилось 82.
Когда Оленька пришла его поздравить, он сидел за столом, и было такое впечатление, что заснул. Так и оказалось.
Но на сей раз уже навсегда.
_______________________
* Кондратьев В., повесть "Сашка"
Всем воевавшим подо Ржевом —
живым и мертвым —
посвящена эта повесть https://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00386501189949972128/page/1/
Григорий Блехман
_______________
175811
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 25.02.2025, 23:57 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 04.03.2025, 04:35 | Сообщение # 2910 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Дорожают хлеб и гречка,
Дешевеет человек.
И, свои расправив плечи,
Наступает грозно век.
Не железный он, пожалуй,
Но безжалостным он стал.
Дорожают хлеб и гречка,
Человек в цене упал.
Настроение
Сумасшедшие ветра
И тревожные метели
Мне сегодня надоели,
Хоть ждала я их вчера.
Если горько мне, - смеюсь.
Если радостно, - расплачусь…
Я свои глаза не прячу,
А в твои – взглянуть боюсь.
***
КОСНОЯЗЫЧЬЕ
Косноязычье детских лет,
Ты – боль моя, косноязычье.
Как в слово воплотить твой бред,
Невнятный лепет, щебет птичий?
Мы произносим : «Лепота!»
И – замираем. Слов – не надо.
Где та высокая черта,
Где та незримая преграда,
Что словеса пустые – вмиг ! –
Души ненужную полову
Отделит? И раздастся крик,
И, может быть, родится Слово?..
Косноязычье детских лет,
Тебя – боюсь, тебе я – рада.
Я б столько натворила бед,
Когда б ты не было преградой.
Но страшно мне – о, не спеши,
Найди единственное слово! –
Косноязычие души,
А не словесная полова.
***
КАРТОШКА
Перебираю картошку – хлеб второй,
Хотя и уродилась, но гниёт очень.
Перебираю клубни. Этот- сырой…
Но картошка- это так…Между прочим.
Не о картошке же в стихах говорить,
Да ещё и гнилой к тому же наполовину.
Ну, ничего. Вот эту можно ещё варить…
Нужно, пожалуй, встать и выпрямить спину.
Вы говорите : «Проза»? А я вам: «Поэзии суть».
И жизнь. И никуда от неё не убегаю.
Нужно просто немножечко передохнуть,
И не Америка, а Россия увидится раем.
Мне даже гнилая картошка милее окорочков.
Я её своими руками перебирала
Три целых дня, и всё - молчком…
Думаете, для поэзии этого мало?
***
Бабка сказала : «Грех-то какой!-
Праздник нынче. Нельзя работать».
Бабке с утра был неведом покой,
Всё-то хлопоты да заботы:
То накормит она цыплят,
То бельишко снимет с верёвки,
Всё-то ладно, всё-то впопад,
Всё-то вовремя так да ловко.
Бабке я говорю шутя:
«Грех, Семёновна. Праздник нынче».
Бабку слова мои не смутят,
Мне отвечает она привычно:
«Праздник нынче. Работать – грех,
А это…Какая же это работа? -
Людям да курицам разве на смех».
И утирает капельки пота.
***
КОРЫТО
После всех величайших открытий
Тащит бабка навоз на корыте.
Где-то в Космос ракету пустили,
А про старую бабку забыли.
Понимая полезность ракеты,
Я сейчас говорю не об этом.
Говорю, что ракета летает,
Бабка длинную грядку копает.
И болит у неё поясница,
И ночами всё чаще ей снится
Молодой, синеглазый… Убитый.
Тот, кому в этом самом корыте
Постирала однажды рубашку
Озорная девчонка Парашка.
НТР. Шум да грохот повсюду.
Не забудь, не забудь… Не забуду:
Тащит бабка, корыто грохочет…
Вот и всё, вот и всё между прочим.
***
Там, где вера святая ещё сохранилась,
Там стыдливо иконка в углу притаилась,
И лампадка по праздникам, знаю, горит,
И душа с небесами ещё говорит.
А у этих, не верящих, скорбные лики
Вопрошают со стен их убежищ безликих.
Здесь души не коснётся священный огонь,
Станет потной при виде иконы ладонь,
И начнутся подсчёты, разбушуются страсти
У тузов-королей сей невиданной масти.
…А деревни в России моей исчезают,
И мне страшно: погаснет лампадка простая.
***
И как случилось это, не пойму?
Стал человек не нужен никому.
Работал и детей своих растил,
И всем тогда он очень нужен был.
Был нужен детям. Те его любили,
Но выросли, разъехались. Забыли.
Он на работе всем был нужен очень,
Его ценили даже больше прочих.
Но старость в срок сурово постучала,
И пенсия работу увенчала.
Вот человек по улице бредёт.
Он жив ещё, но словно не живёт.
Он в одиночестве свой коротает век.
Скажите: вам не нужен человек?
***
Повыстудили душу сквозняки,
По русскому летящие раздолью,
И язвы на душе так глубоки,
Евангельской посыпанные солью.
Врачует душу колокольный звон
И где-то в поднебесье пропадает.
Так на Руси ведётся испокон:
Есть мёртвая вода и есть живая.
***
Очистится душа от суеты.
Желанный миг милее дней лукавых.
Душа чиста, и помыслы чисты,
И не томит тщеславия отрава.
И можно просто веровать и ждать
Стихов, любви, улыбок щедрых лета,
И на любовь – любовью отвечать,
И на приветы отвечать приветом.
Как ясен мир в любви и доброте,
Когда душа прозрела и созрела.
Пусть даже так - распятой на кресте, -
Но ввысь она летит голубкой белой.
***
На зимнего Николу иду я к дядьке в гости,
А дядька-алкоголик, он жизнь свою пропил.
Шагаю я по тропке, шагаю через мостик,
Ну, мостик – это громко: дощечка без перил.
У дядьки пусто в доме. Уехала старуха,
А нынче – именины, а душу чем согреть?
А нынче он , конечно, как и всегда, «под мухой»,
Некрасова прочтёт мне и песни будет петь.
Мне грустно и печально в его холодном доме,
И, если откровенно, не хочется идти,
Но думаю, что если…Ну, кто, скажите, кроме?
К нему одним пьянчужкам , конечно, по пути.
Несу ему гостинец: пирог с вареньем сладким,
Но жизнь его вареньем, увы, не подсластить.
Он скажет мне : «Вот видишь? Всё у меня в порядке,
А чаю не хочу я. Я водку буду пить.»
Мой дядька – дядька Коля – был, правда, алкоголик,
Но на его могилке весной цветы цветут.
И никуда не деться мне от сердечной боли…
Над ним кукушки плачут да иволги поют.
Поглажу кошку. Молча посижу.
Послушаю капели звон весенний.
О, как я этим мигом дорожу!
Шепну ему: «Остановись, мгновенье!»
Течёт река мгновений и минут.
Мурлычет кошка и звенят капели.
Мне кажется, что ангелы поют…
Великий пост. Последняя неделя.
***
В СТОЛОВОЙ
Учтив, старомоден, немножко нелеп
Он бережно держит насущный свой хлеб.
Он цену всему настоящую знает.
С ним рядом девица сидит молодая
И, выгнув красиво холёную бровь,
С подругой щебечет про секс – не любовь…
И шарик из хлеба катает она,
Касаясь его так небрежно, слегка,
И молча глядит тот старик, но рука
Заметно дрожит у того старика.
Увы! Вы его не услышите крик.
Он так старомоден, учтивый старик.
***
БЕДА
Стали руки болеть,
Сердце стало сдавать.
Всё пониже к земле
Наклоняется мать.
Муж на фронте пропал,
Сын-то водочку пьёт,
А внучонок-то мал
И далёко живёт.
А невестка весь год
Не напишет письма.
Терпеливая, ждёт.
«Вот поеду сама.
Я поеду туда,
Мне бы глянуть хоть раз.»
Ходит рядом беда.
Без прикрас, без прикрас.
***
СТРАХ
Боюсь глумления врагов,
Толпы. Отчаянья. Желаний…
Боюсь надменности снегов
В их ослепительном сиянье.
Мне страшен равнодушный взгляд.
Но с каждым годом всё страшнее
Подстриженных деревьев ряд,
Их молчаливая аллея.
***
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Пусть не со мною, это тоже было.
И ручка замерла в моей руке
Не потому, что высохли чернила.
Уже давно чернилами писать
Мы не хотим. Скорее, не умеем.
И не хочу я будущего знать,
Заглядывать туда уже не смею.
***
Что же нам в утешенье осталось
После горьких потерь и утрат?
Оглянусь: не такая и малость-
Небо, звёзды да сердца набат.
То он громче звучит, то он глуше,
Но умолкнуть не может уже.
Сердце русское, внемли и слушай:
На последнем стоим рубеже.
Не Москва – вся Россия за нами,
Весь страдающий русский народ,
Небо русское, русское знамя ,-
Всё, чем сердце отныне живёт.
***
Люблю помолчать под звёздами ночью
И о земле люблю подумать.
Люблю, когда филин дико хохочет-
Зловещий,таинственный и угрюмый.
Во тьме он зряч, а я и при свете
Слишком мало ещё разглядела.
Люблю холодный российский ветер,
Когда он горячее студит тело.
Люблю осеннее бездорожье
И бессонницы чёрную мету
Под глазами.
И до дрожи
Солёную горькую землю эту.
***
Конечно, не в меру пылка и наивна,
Конечно, конечно, скрывать не хочу.
Хлестали весенние гулкие ливни,
А юная Муза склонялась к плечу.
Конечно, конечно, нежна и лукава,
По-детски слегка угловата чуть-чуть.
Так верила искренне : празднична слава,
Так верила страстно, что радостен путь.
Ах, что-то приходит, а что-то уходит,
И шепчет мне Муза такие слова:
«Давно мы с тобой познакомились вроде,
Смотри: поседела твоя голова.
Чего же ты хочешь? По-прежнему славы?
Почёта, покоя иль звона монет?»
И так отвечаю я Музе лукавой:
«Ни денег, ни славы – не надобно. Нет.
Молю лишь – оставь мне высокое право
Любить с прежней силой и так же страдать.
Его ни за деньги, ни даже за славу -
Уже ни за что! – не могу я отдать.
***
Скупают самовары и иконы.
Скупают патефоны, ордена…
Скупают в магазине, всё законно.
Коробушка у них полным-полна:
Солдатская награда «За отвагу».
Почём она идёт у них сейчас?
Стоит старик, лицо - белей бумаги.
Солдат, он воевал за вас. За нас.
Он кровью расплатился за награду
И выжил для того ли он, ответь,
Чтоб в день священный горького парада
Подонок мог медаль его надеть?
Скупают ордена, а с ними души,
Но мёртвые они у них давно.
А то , что на крови, им не разрушить,
И никому на свете не дано.
Не плачь, отец. За это униженье,
За рыночный ли, прочий ли их «рай»
Они ответят. «Аз воздам отмщенье».
Ты только потерпи, не умирай!
***
Стучусь к глухим. Они не слышат.
Глазами смотрят и – не зрят.
Я поднимаю взор свой выше,
Где звёзды чистые горят.
Без стука Он молитве внемлет,
И, грешница, о том молюсь,
Чтоб не оставил эту землю,
Чтоб сохранил Святую Русь.
Она жива ещё и дышит.
Воскрес Христос, хоть был распят.
Стучусь к глухим, – они не слышат.
Глазами смотрят,- и не зрят.
***
Манер утончённость, изысканность позы,
Желанье «казаться» и мужество – «быть»
Меняю на будни трагической прозы,
На боль - эту землю святую любить.
Любить беззащитно, пусть пошлость ликует,
Любить бескорыстно, открыто, взахлёб
Вот эту – до боли, до муки родную,
До пули смертельной в открытый мой лоб.
Ну, можно ль так просто, ну, можно ль так прямо?
Но, Боже, помилуй её и спаси!
Не дай им закончить кровавую драму,
Вновь крови пролиться не дай на Руси!
Не дай им, в актёрском кривляясь экстазе,
Любить не любя, но с ухмылкой у рта
И, гримом лицо человечье замазав,
Шабаш свой справлять у Святого креста!
***
Уходя, оглянусь: свет в окошках горит,
Раным-рано затопятся русские печи.
А погода-то нынче дурит и дурит,
И швыряет, шутя, мне сугробы на плечи.
Уезжаю и - вновь возвращаюсь сюда.
Слава Богу, что есть мне, куда возвращаться,
Где и горе – не горе, беда – не беда,
И где сны золотые по-прежнему снятся.
Уходя, оглянусь. И увидятся мне
Эти вешки у тропки да мгла ледяная,
В семь домов деревушка на малом холме.
Сердце бьётся : «Живая!
Живая!
Живая!»…
Елена Львовна Балашова
_____________________
176281
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 04.03.2025, 04:36 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 17.03.2025, 12:13 | Сообщение # 2911 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Конь с крылышками
Вот так все и случилось…
Свой 55-летний юбилей поэт Степан Черный-Привокзальский решил отпраздновать широко...
Когда-то мы вместе начинали свой путь в литературу. Не забыл – прислал и мне приглашение: «Дорогой друг, Вася! Официально приглашаю тебя отпраздновать день рождения. Приезжай. Буду рад тебя видеть на моем юбилее!»
Степан Черный-Привокзальский жил в Задонье. После выпуска своей первой книги стихов - он купил себе дом и прочно обосновался на Задонской земле. Свою скандальную известность Степан Черный-Привокзальский приобрел не благодаря поэтическому творчеству, а скорее знакомству с такими людьми, как Мадуро – наследник Хуго Чавеса, братом Фиделя Кастро и Беларусским батькой. Встретился он с ними в Москве у Красной площади, где подрабатывал в свое время, позируя для иностранных фотографов. Дело в том, что внешность Степана Черного-Привокзальского была просто поразительна. Представьте себе – огромный лысый детина с ярко красной бородой. На голове - красная буденовка с синей звездой, на плечи накинута синяя шинель, на ногах – обмотки. Поверьте, эффектное зрелище.
На своей избе, в Задонье – он написал крупно: «Последний оплот коммунизма», а ниже, не мудрствуя лукаво, чуть мельче – «Мы, на зло, козлам-буржуям мировой пожар раздуем!» Вначале, Черного-Привокзальского хотели в психушку упрятать, а затем губернатор и глава Задонья порешили, мол, в политику и во власть – не лезет, пускай себе – дуркует! Опять же, польза! Во-первых, друг товарища ЧП (так стали называть Черного-Привокзальского по аналогии с товарищем Ч – Че Геваро!) – Мадуро, стал бесплатно поставлять дизельное топливо для фермеров. С другой стороны – брат Фиделя Кастро – Рауль распорядился в Задонье присылать кубинские сигары, а вот Белорусский – батька, для Задонья поставил десять новеньких МАЗов, тракторов МТЗ, а так же холодильников «Атлант». И все в поддержку «нашего товарища ЧП»! В общем, от проживания Черного-Призокзальского в Задонье – даже не вред, а польза самая, что ни на есть – настоящая и действенная! Причем, для всех, включая губернатора и главу Задонья.
Вот такой – наш товарищ ЧП, пригласил меня на свой юбилей.
Естественно – с пустыми руками в гости не поедешь. Заказал знакомому скульптору Рутченко – коня с крылышками, то есть – Пегаса (в древнегреческой мифологии – конь Зевса, от удара копытами которого забил чудесный источник, дающий вдохновение поэтам).
Коня изготовили. Не слишком уродлив, но – однако тяжелый...
Упаковал так, чтобы на спине мог переносить, и отправился в Ростов. Думал, легче оттуда в Задонье добраться.
Первое «попадалово» случилось, когда решил испить кваса. В кармане всего 600 рублей. Две купюры: 100 и 500. Думаю, разменяю «Пятихатку». Приметил баночку в холодильнике за 40 рублей. Протягиваю деньги. Продавщица дает сдачу 60 рублей. Затем, ляляля-траляля, мозги мне закомпоссировала, сразу не попросил 400 рублей. А когда кинулся, оказалось, что кваску испил за 440 рублей. Такая вот арифметика. Кинулся назад, а продавщица мне в ответ – и знать ничего не знаю, и вас здесь вообще не стояло. Все ясно! Ага! Лохов надо учить, в смысле – вот таких, как я! Обидно, конечно. А что делать?
Осталось у меня всего 160 рублей. Думаю, ладно – поеду к другу на Западный, займу денег и на следующий день отправлюсь в Задонье на юбилей Черного-Привокзальского.
Мой друг – Алексей Дермантинов – не бедный человек. Живет в приличном доме на улице Модаяна. Жена проживает в трехкомнатной квартире отдельно. Еще – две двухкомнатные квартиры сдают в наем…
Леха встретил радостно. Чаем с коньком напоил. Денег дал. Вот я и решил с утра пораньше отправиться в Задонье...
Когда утром встал, хозяина уже в доме не было. Попытался выйти на улицу, а там кавказская овчарка Наур на меня конкретно: «Р-р-р-!» - не выпускает. Так целый день у телевизора просидел в ожидании хозяина.
Получилось так, что на юбилей безвозвратно опоздал. Коня с крылышками так и не вручил. А тащить назад, ну – оч-ч-чень обременительно. Решил подарить Лехе Дермантинову. Мы коня на крыше дома установили. У кого флюгеры или антенны, а здесь – конь с крылышками! Прикольно получилось...
Уехал я назад в свою любимую Богураевку. Товарища Черного-Привокзальского поздравил с юбилеем телеграммой, думаю, он не обиделся. Но вот история с конем получила неожиданную развязку!
Леха Дермантинов бросил бизнес. Развелся с женой. Начал писать стихи. Картины. А недавно прислал письмо.
«Здравствуй, дорогой Вася! У меня в жизни кардинальные изменения. При разводе жена у меня отобрала всю антикварную мебель, но дом остался. Я повесил над входом вывеску «Приют одинокого странника» Теперь у меня живут художники и поэты. Пьем вино. Спорим о литературе и искусстве! Иногда голодаем, в смысле – не за что купить булку хлеба. Но это все – ерунда! Главное – какое счастье жить полной жизнью! Не деньги – основное мерило... Главное, Вася, любовь! Познание... Какой я был идиот, когда «горбатил» в бизнесе – крутил, кроил, обижал людей.
Сейчас у меня в душе покой и умиротворение. Я счастлив! Истинно говорю...»
Вот такое письмецо. Богатый человек Леха Дермантинов, лишившись денег – обрел счастье!
Ну, да... Конь с крылышками – оказался Троянским конем? Ну, не знаю...
***
Брызги шампанского и сухари
Часы заскрипели, словно уключины старой лодки. Дверца отворилась и из домика высунулась кукушка. Она некоторое время молчала, как будто раздумывала; опомнилась – пора! И семь раз: «Ку-ку!»
Хрипло. Надсадно. Зло.
Вползла назад. Дверца щелкнула. Время!
Старуха сидела за деревянным струганным столом. На столе два граненых стакана. Булка белого хлеба. Палка копченой колбасы. Коробка шоколадных конфет. Откупоренная пузатая бутылка шампанского в черной фольге. В стаканах пенилась янтарная жидкость. Пузырьки весело лопались. И крошечные брызги разлетались и опадали на крышку стола. Старуха крючковатым пальцем растирала брызги… Растирала…
Щуплая. Сгорбленная.
– Пей, мать! Французское шампанское. Дорогое.
Она, словно не слышала. Спросила:
– Насовсем пришел, чи нет?
Сыну за шестьдесят. Крепкий в кости. Кулаки – кувалды. Короткие волосы. Шишковатый череп. Глубоко посаженные глаза.
– Пятнадцать лет от звонка до звонка…
Он выпил шампанское крупными глотками.
– Убивец, – скупо обронила старуха.
Сын дернулся, как от удара. Замер. По-мужски тихо заплакал.
– Прости, мать.
Она поднялась. Тяжело обошла стол. Гладила сухой рукой по редким коротким волосам. Два старых человека – мать и сын.
– Неужто, на воле хуже, чем в тюрьме?
– Я волю, мать, боюсь. Я в этом мире жить не умею. Вышел за ворота, а здесь все другое. Люди другие. «Мерседесы», прилавки ломятся от товаров. Деньги – другие. Лимоны! Арбузы! Молодняк – борзой. У бритоголовых пушки. Кажется, на другую планету попал.
За окном просигналила машина. Грубый голос позвал:
– Черный! Пахан ждет!
– Степа, погостюй у матери, – жалобно попросила старуха. – Всю жизнь у меня не было помощника и заботника. Без внуков оставил…
Сын встал.
– Не могу, мать. Люди ждали меня, встречу организовали, – усмехнулся, – Я общественный человек.
Он достал из кармана две тугих пачки. Положил на стол.
– Я тебе деньги привез. Здесь много… Купи себе чего-либо.
– Степа, нашто мне деньги? Мне сын нужен. Кто глаза закроет, когда помру…
Сын ничего не сказал. Поклонился. Хлопнула дверь. От старенького покосившегося домика отъехал белоснежный «Мерседес».
Старуха долго сидела за столом. Она не плакала. Потом она порезала булку хлеба и разложила на подоконник сушить сухари. Чистой тряпочкой вытерла брызги шампанского. К деньгам не прикоснулась.
Помолилась и легла спать.
Ночью старуха умерла.
Соседи нашли на столе две пачки денег. Палку «Московской» копченой колбасы. Коробку конфет «Сказки Пушкина». Под матрацем тысячу рублей мелкими купюрами. А в сенцах – восемь мешков сухарей.
Соседка, баба Нюра сказала:
– Наголодалась за всю жизнь. Сухарики присушивала на «черный день». Все сына ждала. Дождалась…
Соседи старуху похоронили.
***
Соло для одинокого гармониста
1.
Бывает – тоска схватит за глотку. Уцепится. Прильнет. Поднимет над суетой и явит мир серым, грязным и мерзким. В такие вот минуты выть хочется от безнадеги и отчаяния. Кажется, что жизнь подарена в насмешку над человеком. И одиночество – тайная тропа безрассудства, единственное убежище.
Ничто не веселит. Не радует. Исчезают желания и надежды. Душа томится в темнице безверия. И тоска является в эти минуты слабости. И бросается человек в бездонную пропасть мытарств духа и плоти – в пьянство. И уже после первой рюмки летит в пропасть и рождается незамысловатая мелодия, словно одинокий гармонист в лунной ночи наигрывает бесхитростную мелодию…
И все уже безразлично. Все «до лампочки». Все «до фени». И не думает никто, что каждая пропасть заканчивается дном и можно удариться больно. Очень больно.
Сергей Иванович Недвигин был очень талантливый человек, мастер на все руки. Но – запойный пьяница. Жил бы он благополучно, безбедно и даже где-то процветал, если бы не его болезнь.
Трижды был женат. Дважды разведен. Приспело время третьего развода с женой Зоей.
На кухне Сергей Иванович с Зоей вели строгий, занудный и злой разговор.
– Все. Надоело. Ты можешь понять: мне надоело выносить твою пьяную рожу, – Зоя говорила резким истерическим голосом. – Забирай вещички и уматывай к своей маме!
– Ну, что ты так сразу – уматывай. Три года жили и ничего…
Сергей Иванович был с похмелья, и затуманенный мозг не находил для ответственного разговора правильных слов. Чтобы он не сказал сейчас, все звучало как неумелая и жалкая попытка оправдаться.
– Уходи к своим дружкам и шалавам. Пей, хоть утони в этой водке. Я тебе говорю окончательно и бесповоротно – с тобой я жить больше не буду. Все. Точка. На-до-ело!
Зоя выкрикивала все это свистящим шепотом.
2.
Не было причин сомневаться, что свое решение она приняла «окончательно и бесповоротно». Сергей Иванович это понял. И – смирился.
Он сказал:
– Послушай, отдай гостиный гарнитур…
– Что?! Ч! Ч-то!? Чт-о-о-о!!!!…
Надо сказать, что Сергею Ивановичу один знакомый фирмач за эту стенку предлагал пять тысяч долларов. Фирмач этот знал толк в дереве, знал истинную стоимость и зря бы такие деньги не стал предлагать.
Знала об этом предложении и Зоя.
Два года Сергей Иванович собственными руками делал эту стенку. Он использовал кедр, ясень, бук, березу, дуб. Каждую деталь шлифовал и доводил до того мерцающего ласкового блеска, который свойствен только дереву. И в конце покрывал воском со скипидаром.
Когда мебель делается мастером с душой, живет в ней некая теплота и уют, создает она настроение праздничное и радостное.
Стенку Сергей Иванович делал с очень большой душой…
Зеркальные и стеклянные витражи дополняли красоту шкафов.
– Что ж ты меня без копейки выгоняешь? Сколько я тебе денег давал? Какую я тебе квартиру сделал – паркет на полу, потолки стеклянные и зеркальные – мозаикой, спальный гарнитур – натуральное дерево, «прихожку» кожей обтянул. И ты меня вот так запросто выгоняешь?… Слышь, отдай «гостинку»…
Все это Сергей Иванович проговорил тусклым глухим голосом.
– А вот тебе! – Зоя сунула ему под нос кукиш. – А кто мне заплатит за нервы, которые я на тебя извела!? За то, что безропотно сносила все твои запои?…
– Так я стенку еще не закончил, вот ты и сносила…– вставил Сергей Иванович.
– Бессонные ночи, когда ты не ночевал дома… Эту твою присказку – Змея Особо Ядовитая – то есть я…
3.
– Так ты не отдашь? – спросил подрагивающим голосом Сергей Иванович.
Зоя визгливо расхохоталась.
– Конечно же, нет. И никаким судом ты у меня ее не отсудишь!
– Ну-ну, – сказал Сергей Иванович.
Он взял разделочный топорик из кухонного набора и пошел в гостиную.
Он бил стекла у шкафов. Рубил дерево…
Через двадцать минут гарнитур превратился в груду досок, обильно осыпанных стеклом и битым зеркалом. Сергей Иванович в работе даже вспотел. Зоя словно окаменела. Она стояла на пороге безмолвно, прижав к груди ладони.
Сергей Иванович отер руки о штаны. Бросил топорик под ноги Зое…
– Вот так.
Он вышел из квартиры и хлопнул за собой дверью. Как был в штанах и рубашке – ушел в мартовскую ночь.
Шел по ночному городу, куда глаза глядят. В груди ширилась и росла боль. Соло для одинокого гармониста и бесхитростный мотив: «Чижик-пыжик, где ты был?…»
Тоска…
Александр Кравченко (Белая Калитва Ростовской обл.)
______________________________________________
177465
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 17.03.2025, 12:15 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 29.03.2025, 23:13 | Сообщение # 2912 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Там, где ночь интереснее сна,
Там, где свет интереснее тьмы,
В космах ивы сияет звезда,
В колтунах её - соловьи.
Тёмный сом по водице хлыстом
Испугает воздушную тварь,
Прошлогодним прозрачным листом
Нам помашет лесной календарь.
Сон мой стал, как святой водомер:
Наяву сторожу тишину,
По канату своих полумер,
Как по берегу речки - хожу.
Пар Медведицы - сонной реки -
Спеленает своих малышей,
И пока в колтунах соловьи,
Мы исчезнем из мира вещей:
Я устала от пения звёзд,
Сладкой пыткой - сияние птиц -
Отражение ангельских слёз,
Ускользание ангельских лиц.
***
Бабушка кашляет, рвётся подмышкой её ночнушка,
Белокочанная ночка висит над моей старушкой,
Бабушка кашляет, под кроватью сидят две тыквы,
Меткими спицами чёрный овечий клубок утыкан.
В горле застряли таблетки белые - целые нотки,
Мыши таскают таблетки белые в чёрные норки,
Тыква не станет каретой, не станут конями мыши,
Золушка на колёсах, ей мыши платками машут.
Бабушка кашляет, лёгкие рвутся последние путы,
Утром наступит девятое мая, напишет Путин;
Мир, словно ниточка, лёгкому нищему благодарен;
Мир, словно облачко, крылышком машет весёлый Гагарин.
***
За тонкой паутиной смерти
Всё состоит из мелочей:
Стоит, качаясь, молочай,
Обочины герой, ничей,
А значит - мой, цветок, любимый!
Обочина... У самых ног
Вспорхнёт, как охнет, птичья стая,
Пух тополиный вдохновляя
Немного поиграть у ног —
Всего лишь миг! Такая мелочь
Летит — и лечит на лету!
За тонкой паутиной лени
Звенит, зовёт Господне Лето
Пчелой дрожать и красоту
Собрать в густых тяжёлых каплях,
Бояться не успеть: до кашля,
Дрожа от счастья, пить и знать!
И сердце я в себе ношу -
Речной далёкий лёгкий воздух,
Росой умытый чистый слух.
Здесь только князи, только знать —
Обителей у Бога много,
Откуда эта благодать -
Вдруг, у обочины убогой
Такую высоту обнять!?
О, это счастье — наполнять
Церковного устава соты,
О, нежные мои высоты,
Хранящие живой росток!
Источник Жизни бесконечный!
Я, молочай, и воробьи,
Мы беззаветно — все — Твои,
И в сердце лёгком лишь одно:
Эфхаристо! Эфхаристо!
***
Над пустынным полустанком серый ветер в синий парус, вечереет, холодает, трепыхается, болит;
Скоро будет стук железный; и телеги, и копыта, а пока на полустанке только я да инвалид.
У него глаза как блёсны, и крючков зрачки острее, в бороде насмешки, крошки, папироска на губе,
Разве он похож на брата? у него под лавкой голубь, в спину серый ветер-гопник всё наглее, всё грубей,
Я не жалобная книга - негоревшее полено, умирающее поле, неприкаянный мешок,
Благородные порывы, перепуганные рыла, переломанные копья, замечательный стишок.
Над пустынным полустанком серый ветер затихает, синий парус, опускаясь, накрывает с головой
И меня, и инвалида. Приближающийся грохот. «Ты, сестра, его не бойся, ты не бойся, Бог с тобой».
***
Гвозди сидят в заборе тихо, как партизаны,
Звезды пылятся в небе молча и одиноко,
Где-то в селе Париже – нищие парижане,
Плачет над ними месяц тучно и сребророго.
Папа ведет машину. Тащится «запорожец»
По задонецким дырам, шолоховским станицам.
Словно зверьем, с дороги содрана сажа-кожа,
Крепким питьем и солнцем разворотило лица:
«Кто у вас у Парижу? Да, кругаля вы дали
Знатного. Вам на Вёшку? Вот же она, дорога!
Это мои внучата. Это мои медали.
Сколько на наши дали за вашего носорога?»
Фары просветят насквозь травы кривых обочин,
Пыльной полыни кости как на рентгене видно,
Сонное в травах царство жаворонков и прочих
Охнет, вспорхнет и гаснет, сыпясь метеоритно.
Звезды засели в небе крепко, как партизаны,
Русские звезды знают, только сказать не могут:
Ждут парижан хиджабы, тихие рамазаны…
И полумесяц плачет тучно и сребророго.
***
Иуда
"Егда славнии ученицы…"
В тот самый день, в тот изумленный вечер,
В тот страшный миг при омовенье ног
Один из них тяжелые увечья
Понес, как будто вынести не смог
Его Любви, что так давно ловила
И так, и эдак, и из-за угла
И вот сошла внезапно, как лавина,
И вдруг вся разом под ноги легла…
Не знавший с детства ласкового слова
(Расчеты серебром предпочитал),
Что вдруг простят, полюбят – злого, злого! —
Не ожидал, никак не ожидал.
Ему Учитель ноги омывает,
Все тайны мира отдает за так,
А в нем душа от страха остывает,
Отстукивает сердце свой затакт.
Он встал, он побежал, он обезумел,
Он темноту неистово глотал,
Он не хотел. Но так привычно – умер.
Вернулся. Побледнел… Поцеловал.
***
Льётся свет, и сер, и свят
В битое окошко.
Бредит раненый солдат.
Потерпи немножко,
Так-то, братец, всё всерьёз.
В полосе вполсилы
В серой зоне воет пёс
Да скрипит осина.
И прекрасно, и легко,
Трезво и жестоко
То, что больно далеко
Светлое далëко.
То что зверь - ПТСР
Напрочь сносит башню,
То что воздух светло-сер
Словно бинт вчерашний.
Осень мокрый клеит лист
На капот дырявый.
Перекрестит атеист
Путь-дорогу правой
И налево повернёт -
Может так успеет:
Над УАЗом - хоровод
Ангельский белеет
***
СОНЕТ (номер ноль)
Всё вспоминая, как перед концом,
В окно вмерзая, наблюдаю фоном,
Как месяц с расцарапанным лицом
Сквозь ветки за моим бежит вагоном.
Обратной перемоткой - от руин
До высоченной радости шелковиц:
Так остывает жизнь в любой крови,
Так заставляет светлое припомнить.
Зачем? о месяц мой, забудь, забей,
Не месяц май, а запредельный холод -
Когда луна земли моей теплей.
Но ты роди подснежники, земля,
Натужив оборвавшиеся жилы.
Ты покажи: мы здесь. И все мы - живы.
***
До весны остались сутки
Мне лучом нагрело ухо
Я твои запомню руки
Плечи запахи и звуки
Дай недолго здесь погреюсь
Нос подмышку, хвост под лавку
В уравнении погрешность
Всё, зима, готовь удавку.
Мир красив, как перед казнью:
Луч, сугроб, сосна кривая
Быт, как пластырь отрывая
Перечитываю сказки
Береги меня, Россия
Как шелковицу под снегом
Корка сахарная сверху
Не ломай, сама растает.
***
Маленькая ручка на стекле
Пальчиками дырку прикрывает.
«Мамочка, не плачь, прошло уже,
Ведь почти сегодня не стреляют».
Маленькие пальчики тук-тук...
По стеклу стучали, звали кошку.
Только вот играть нам не дают
Ни в саду, ни под окном с Серёжкой.
Мама говорит мне часто:
«Гром,
Что ещё чуть-чуть и будет тихо».
Плачет вечерами лишь тайком,
Мамочка моя, во всем трусиха.
Папа наш давно не приходил,
Мама говорит, он на работе,
Что плохие дядьки за окном,
А у папы сложные заботы.
Он нас защищает от врагов,
Бабушка соседке говорила,
А ещё, что был над домом дрон,
И что у соседей окна выбил.
Маленькая ручка на стекле
Пальчиками дырку прикрывала
От осколков, бьющих по судьбе.
Сложно объяснить – понять нас надо.
***
Приезжаешь с войны, а тут такая война, в тысячу раз подлее
Ну вот, не пустили через Шереметьево мать участника СВО, которая на Донбассе референдум организовывала.
Парень ополченец родом из Днепропетровска, воюет с 14 года, я о нем делала спецреп и большое интервью.
Он ещё в 15 году потерял ногу при освобождении Марьинки, а в 22 это не помешало ему подписать контракт и стать снова штурмовиком. То что он умел уже делать.
При штурме Водяного он спас от смерти 15 человек.
И вот его мать, которая родом из Селидово, не пускают к сыну https://t.me/pikta1/15321
***
«Я боюсь, что себя потеряю» https://rutube.ru/video/ff9c192fdc96f7a38ea9ae0c78315671/
***
Брехня, мой друг, однажды рухнет,
Пугая слух, разбудит слог.
Хотите, я скажу по-русски?
(Избави и помилуй Бог!)
Пока присматривалась гордо
И говорила не о том,
Горел на горизонте город,
Чернела роща за окном.
Тьма искры звёзды извергая,
Шалела, веселила, жгла,
Её оскала избегая,
Я околесицу несла.
Теперь скажу Вам напрямую,
О том, что Вы… о том что я…
О том как славно - Аллилуйя!
Зелёная звенит земля.)
И будет день, и будет вечер
Как будто заново, с нуля -
Надежды, свечи, речи, встречи
Щенячьи! Счастливо скуля,
По-русски говорить свободно!
Дышать не только по средАм!
Писать стихи, писать полотна!
И даже пить за милых дам…
Редела мгла седела темень
И пела Пелагея мне,
Мол, в это б золотое время
Неплохо б умереть во сне.
Ну вот, пишу, чего же боле,
Что я могу ещё сказать!
Не умножай ужасной боли,
Не говори. Терпи, казак.
Светлана Пикта
_____________
178208
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 29.03.2025, 23:15 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 02.04.2025, 20:28 | Сообщение # 2913 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Я русский – это значит «рашен»,
и ход событий мне не страшен.
Не унесёт река времён
меня во вражеский полон.
Я смесь кровей из анекдота:
и немец, и поляк, и кто-то
ещё, кого здесь больше нет –
обычный русский винегрет.
Я думал о себе так много:
и бог, и царь, и шут, и вор.
А оказалось, вот дорога
и вот дорожный разговор.
У нас с собой запасы браги,
мои попутчики – варяги,
бритоголовый Едигей,
поэт из бывших хиппарей.
И важный чин из Петербурга,
и кандидаты всех наук.
И нас уносит Сивка-бурка,
переходя на гиперзвук.
***
Меня интересует современность,
вся эта мутность, временность и бренность,
сиюминутность, шаткость, суета,
на шестерной законных два виста.
Конечно, есть и вечные красоты,
сияющие горние высоты,
невозмутимый звёздный небосвод,
но вновь поручик карты раздаёт.
Вот современность в лермонтовском духе:
летают пули, глупые свистухи,
а офицеры разливают грог,
пока судьба им отмеряет срок.
Любуюсь тем, что завтра станет прахом,
викторией, что обернётся крахом
и вновь восстанет, где её не ждут,
благословляя лёгкий бег минут.
***
Я побывал в Новокузнецке,
где я ни разу не бывал,
и о нелепом человечке,
как о себе, переживал.
Во все века здесь были кузни
и до сих пор не снесены.
Отсюда можно место казни
увидеть через полстраны.
И от Семёновского плаца
дорога долгая лежит
туда, где доменное пламя
сжигает кокс и антрацит.
На свете есть ли что смешнее,
чем этот вывих головы,
чем человечек с хрупкой шеей,
твердящий о своей любви?
И что для унтер-офицера
нетрудно прокормить семью.
И что всего важнее вера
в судьбу и в избранность свою.
Как это жалко и убого:
провинциальный город К.
встречает тайного пророка
как пожилого жениха.
Неумолима эта чаша,
отрава в свадебном вине.
Но этот мир и эта Маша
почти на нашей стороне.
***
Я очень скучаю по городу,
который ничем не хорош,
зато его жители гордые
и каждый второй – молодёжь.
Сплошные панельки да сталинки,
и очень большая река,
и плотные снежные валики
у каждого парадняка.
И снега, как тёплого хлебушка,
хочу я от белого дня.
В том городе ждёт меня девушка,
а может быть, ждёт не меня.
А может быть, старая женщина
стоит у хмельного ларька
и с небом беседует жестами,
как очень большая река.
***
Я назвался твоим человеком
и уже не уйду никуда.
И вернусь не весною, так летом,
когда станет из снега вода.
Когда тлеющих звёзд сигареты
разгорятся в большие костры
и деревьями станут скелеты,
что на холоде машут костьми.
Не колеблем ни веком, ни ветром,
я для важного дела храним
с той минуты, как вороном, вепрем –
кем, не помню – назвался твоим.
***
На войне убивают.
Раз, и нету бойца.
А в тылу умирают
просто так, без конца.
От какой-то истомы,
от предвестья беды.
От лимфомы, саркомы,
в общем, от ерунды.
Умирают нагими
на соседской жене.
На войне только гибель,
смерти нет на войне.
Смерть заводится в тёмных
и прохладных местах.
Обитателя комнат
соблазняет в мечтах.
Заползает по-змейски
обречённому в рот.
И бывает, от смерти
убегают на фронт.
Где стальные богини,
огневая страда.
Где зерно, что погибнет,
не умрёт никогда.
***
Хорошо жить в провинции, папа.
Хорошо жить в провинции, мать.
Никуда не взлетать и не падать,
ни на что не претендовать.
Пить с друзьями, ходить на поминки,
верховодить в районном ЛИТО.
Обсуждать с мужиками на рынке
недостатки китайских авто.
Провоцировать долгие толки
о своей незаконной любви.
Вся провинция наша на Волге
и немного ещё на Оби.
Кто в провинции глыба и личность,
тот в Москве неприметный пигмей.
Ломоносовых губит столичность
и вдобавок лишает корней.
Я, москвич, перед ними невинен.
В город мой, сквозь леса и поля,
ковыляют Пожарский и Минин
и никак не дойдут до Кремля.
***
Москва не любит рыцарских турниров,
не слышит зов сигнального рожка.
Железным человечкам на шарнирах
здесь выдавали званье дурака.
Москва не ценит слуг прекрасной дамы
и рыцарям не платит, се ля ви.
Зато она усердно строит храмы,
замешивая известь на крови.
Москва мощна не сталью, а мошною,
в её руке не меч, а колбаса.
Она лелеет слабое, земное,
с молитвой обращаясь в небеса.
Москве присущи квас и кулебяка,
а гордое упрямство не к лицу.
Какой блестящий рыцарь был Шемяка,
но проиграл бессильному слепцу.
Нет, город мой не славен прямотою
ни замыслов, ни улиц, ни речей.
Да я и сам его, наверно, стою,
незлобный балабол и книгочей.
Я научился гнуться, не ломаясь,
побаиваюсь нищих и ментов.
Ложусь пораньше, рано поднимаюсь,
люблю собак, боготворю котов.
Не шевалье, не викинг, не охотник
живую тварь лупить по голове.
Какой ни есть, укромный соработник,
принадлежащий издавна Москве.
Она - мои растоптанные тапки,
в быту строга, на стогнах весела
и никогда не будет делать ставки
на рыцарей Артурова стола.
***
Даниил Александрович здесь,
он сидит за соседним столом.
Ни к чему нынче княжья спесь,
он не будет лезть напролом.
Надо бы накопить сил:
больше денег, земель, людей.
За столом сидит Даниил,
у него завтра трудный день.
Место бойкое тут, однако.
Бармен работает за двоих.
Скидка солидная для баскака,
но не обижен и мних.
Рядом компания празднует:
видно, нездешний люд.
Перед входом привязан
их двугорбый верблюд.
У каждого бритая голова,
хоть кием её катай.
В разговоре мелькают слова:
Каракорум, Сарай.
Москва-городок не так уж мал,
если прибавить леса, луга.
Не так уж больно его пинал
носок татарского сапога.
Вот и тянутся в эту глушь
гончары, хамовники, скорняки.
Телеги плещут грязью из луж,
лодки движутся вдоль реки.
А ещё не все ведь пустились в путь,
на подходе менеджер и дизайнер.
Как бы Москву-то нам растянуть?
Тут нужно княжеское дерзанье.
Пить, грешить да с роднёй собачиться,
вот и всё веселие на Руси.
Даниил за пиво расплачивается
и вызывает яндекс-такси.
И пока он под съёмный кров
едет в железном плену,
перед ним встают семь веков,
прозрачны на всю глубину.
Башни из золота и стекла,
как водоросли на дне,
и лифты, будто колокола,
качаются на струне.
Облака прошил самолёт,
сработанный из ковра.
Тут ещё столько произойдёт,
событий летит гора.
Тут будет и третий, и пятый Рим -
что ты знаешь о первых двух?
А слово дивное "Когалым"
знакомо тебе на слух?
Мы пролетим Живописный мост,
мы крылом взмахнём над рекой.
Перед нами подробная карта звёзд,
не клеймённая ханской тамгой.
Даниил Александрович спит,
ему снится бегущая лань.
У него неприютный быт
и на службе опять дедлайн.
Будущее работает в нём
ночь за ночью и день за днём.
Будущее полыхает огнём
за окном.
***
Аптека, ночь, опять аптека -
ни улицы, ни фонаря.
Не разглядели человека
бояре доброго царя.
У них и планы, и проекты,
и резюме, и кипиай.
А человек - он смутный некто,
ему Психею подавай.
И я иду с моей Психеей,
что называется, сам-друг,
и по-хорошему фигею,
как изменилась жизнь вокруг.
Я расскажу, я помню ночку,
когда тут не было аптек,
и чёрную радиоточку,
и весь как есть двадцатый век.
И как заморских коммунистов
возили стайками на съезд,
и как эксгибиционистов
не допускали к нам в подъезд.
Видать, я вырос кем-то вроде
того задохлика в пальто.
Зазря читали на природе
мне и Чукошу, и Барто,
и на экране КВНа
показывали КВН.
Одна прекрасная Елена
была мне мудрости взамен.
Одно видение, не теле,
одолевало вместо сна,
и новогодняя неделя
была в него погружена.
Забиты бронхи и трахеи:
когда успел и где простыл?
То дуновение Психеи,
размах её бесплотных крыл.
С тех пор она на всех экранах,
как в зеркалах, отражена,
и на страницах всех романов,
везде присутствует она.
Она на сцене белопенной
изображает лебедей.
Она в таинственной пельменной
приносит порцию сельдей.
Она подобием цыганки
раскидывает юбок шёлк.
Она и танк, и тот, кто в танке.
Она - артиллерийский полк.
О, эти древние поверья
и легендарные шелка...
И вот, перед чиновной дверью
она мне говорит: "Пока!
По этим чутким коридорам
тебе сопутствовать не след,
не буду я тебе сапёром
в опасном кружеве бесед.
Попробуй выдать без запинки,
какого тут тебе рожна...
А я пошляюсь по Ильинке
и выпью белого вина".
И в самом деле, я немею
там, где о власти разговор;
наговорю себе на шею
когда не петлю, так топор.
Хотя зачем кошмарить лоха?
"Я вас услышал" - и гуляй.
Благословенная эпоха:
проекты, планы, кипиай.
Но у аптечного порога
Психея скажет: "Не психуй"
и из несчастного далёка
пошлёт воздушный поцелуй.
***
Всё это я. Это скверик у школы,
на постаменте великий немой.
Это на выборы с песней весёлой
и с бутербродом обратно домой.
Это фотограф не очень умелый,
в честь юбилея немножечко пьян,
фотографирует с веткой омелы
подслеповатую Фанни Каплан.
Фанни, беги! У столовой завода -
толпы, восставшие с левой ноги.
Пеной квасной заливает свобода
площадь и улицу. Фанни, беги!
Бальдур, беги! Осиянный, кудрявый
отрок, в которого верили мы.
Дело ли - плавать в окрошке кровавой
перед лицом великанской зимы?
Прежде, чем вылетит птичка на волю -
Феникс ли, Феликс ли, не разберу.
Прежде, чем в нашей единственной школе
хриплый звонок позовёт на физру.
***
Мы уяснили с детства, что писательство -
нелёгкое святое ремесло.
Но есть отдельный жанр - союзписательство,
где главное - не слово, а число.
Пока писатель трудится над повестью,
продумывает пьесу и роман,
союзписатель пишет сумму прописью
и часть её кладёт себе в карман.
Писатели в погоне за сюжетами
спешат на фронт, в пампасы, в мокрый док!
Союзписатель кормится бюджетами
и далее Ильинки не ходок.
Порой они встречаются на форумах,
здороваются, шляпы приподняв,
у стендов, привлекательно оформленных,
на пушкинских и лермонтовских днях.
Как отличить их, по какому ГОСТУ?
Я ошибиться всякий раз боюсь.
Кто вон из тех двоих - писатель просто,
а кто - с лукавым префиксом "союз"?
***
Старый папа умирает в Риме,
никому до папы дела нет.
Все на свете заняты своими
списками лишений и побед.
Здесь одним дожить бы до зарплаты,
а другим - понтовые часы.
А кому-то - доползти до хаты,
дотянуть до лесополосы.
Старый папа харкает грехами,
позабыл священную латынь.
Где-то высоко над облаками
пролетает звёздочка-полынь.
Он за посох держится упрямо,
но судьба отсчитывает дни.
На кого, зачем ты, мама лама,
бросила меня, савахфани?
Доктор не поймёт по-арамейски.
За окном пылает эмпирей.
Тополя дрожат в Красноармейске,
слыша гром родимых батарей.
Проглотив лечебную отраву,
Старый папа мечется в жару.
Ледяным дыханием конклава
подступает смерть к его одру.
***
Под кусточком, под мосточком,
посреди лесных болот,
под осиновым листочком
дело Ленина живёт.
Не гремит, не побеждает
гидру, мать её лерней.
Втихаря пережидает,
потому что так верней.
Ходят кони, едут танки,
слышен с неба птичий крик.
Дело Ленина в землянке
зреет, словно трутовик.
Вроде скромное такое,
не припомнится на дню,
но рассыплется трухою
и от искры - быть огню.
Ты в краю заледенелом
не веди учёт обид,
а займись-ка лучше делом,
что само себя творит.
В понедельник ждёт засада,
но суббота к нам добра.
Это - дело Александра,
тут - Ивана, там - Петра.
Кончен век, зарыто тело,
прах развеян, дух утёк.
Сохранится только дело,
как закладка, между строк.
Ты, оставивший пацанство
ради щебета в груди,
руку вытяни в пространство,
покопайся - и найди.
***
За эту книгу чернокнижника
не расплатиться никогда.
В отваре вереска и грыжника
земная кроется беда.
А если хочется небесного,
то пригодится ёж-трава.
Наваришь пива полупресного
и сладковатого едва.
Ведёт тропинка от околицы
через поваленный забор
туда, где в небо дыроколется
давно манящий тёмный бор.
Не в этом ли и суть учения,
чтоб затеряться и пропасть,
переплавляя отречение
в неотменяемую власть?
Чтобы на свадьбе, на покосе ли
в каком-нибудь из дальних сёл
твои слова невольно бросили,
как травы, в песенный котёл.
***
В годы красного террора
расстреляли дирижёра.
В годы красного террора
укокошили певца.
Для апостола в кожанке
много счастья у цыганки.
В годы красного террора
будем смертны до конца.
Время красного террора
предстоит ещё не скоро.
Покорила Терпсихора
просвещённые сердца.
Остроносые ботинки
и "Щелкунчик" в Мариинке.
В печке обер-прокурора
на крови взойдёт маца.
В мире страшном и прекрасном
мы задумались о красном.
Цвет победы и позора
мы продумаем насквозь.
Больше царского кармина
в облаченье Арлекина,
и на пальцах балерины
больше крови запеклось.
Нотный лист поля накроет,
белый юнкер хрипнет "прозит",
белых шариков из крови
тьма на теннисном столе.
Звездочёт читает знаки,
но не фарес и не текел -
красный луч и красный факел
колобродят по стране.
***
Больше жизни, больше бестолковой
суеты под новые года.
Вот мы едем в город за обновой,
вот мы умираем, как вода.
То есть - нет, не полностью, отчасти,
на какой-то отведённый срок.
Вот мы были - горести и страсти,
вот мы стали - белый порошок.
Вот мы исчезаем в разговорах,
свежим темам место уступив.
Главное, мы превратились в порох.
Стало быть, однажды будет взрыв.
***
Мы не достигли целей СВО,
империя увязла в лесополках.
"Один за всех и все за одного"
мы пишем на шевронах и футболках.
Как будто кровь и слёзы пролились
не за приём в Георгиевском зале,
а за истёртый пафосный девиз
дворовых псов с подбитыми глазами.
Сжигали хлеб и рушили дома
не за лукавство мирных договоров -
за прописные истины Дюма,
картонные фигурки мушкетёров.
Не так уж это мало, оцени,
не медный грош, а целое богатство:
из глины снова сделаться людьми
и не предать нечаянного братства.
***
Мы не можем быть ассирийцами
больше, чем сами ассирийцы,
чем их цари и царицы
с бронзовыми лицами.
Наш гуталин полирует кожу
хуже, чем их пустынная вакса,
так что покрепче держись за вожжи,
въезжая в пригороды Дамаска.
Мы люди огромной густой идеи,
читали Дугина и Проханова,
а они - кто они? Звездочёты, халдеи,
им это как-то альдебараново.
У них на столе - звёздная карта,
на ней они расписывают пулю.
У них каждая женщина - Астарта:
сожрать сожрёт, а выплюнуть - дулю.
Они в детстве не слушали "Арабески",
им вообще мало что слышно,
но знание трёх слов по-арамейски
в их кругу никогда не бывает лишним.
***
Это Аист. У него перебито крыло.
В остальном ему, считай, повезло:
всё в порядке и всё на месте.
А Седой - он был совсем молодой,
просто у него позывной "Седой" -
тот на днях оказался двести.
Двести - это означает лишь,
что с ним больше не поговоришь,
не покроешь погоду матом.
Это не диагноз и не порок,
это на том свете наш номерок,
чтобы все по своим палатам.
Аиста пускают в аэроплан,
хотя он вообще-то заметно пьян
и крылом едва волочит поклажу.
Он знает одно: ему надо в Читу.
И таких, как он, на этом борту
каждый пятый или четвёртый даже.
Вот они летят над ночной страной,
называют друг другу свой позывной.
Не заметишь, как ночь растает.
И какой тут сон? Так, бред наяву.
Аист кричит: я там всех порву.
Сам порвусь, но и их не станет.
Много чего высказав сгоряча,
он сопит возле моего плеча,
я пишу о нём в телефоне.
Нам ещё рановато в солдатский рай,
нас с тобою, друг, Забайкальский край
принимает в свои ладони.
Игорь Караулов https://vk.com/id598443814
_____________________________________
178428
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 02.04.2025, 20:29 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 15:22 | Сообщение # 2914 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Детьми и внуками забыт,
Давно не чёсан и не брит
Старик Лещёв.
Он ходит к речке за водой,
Он с нею делится бедой,
А с кем ещё?
Дом на боку, забора нет.
Живёт последних двадцать лет
Вчерашним днём.
И только верный пёс Мирон,
Такой же старый, как и он,
Всегда при нём.
А в доме копоть от свечи
И век, почивший на печи,
И дух пивной.
И от порога до реки
Сухой камыш, да сорняки
Стоят стеной.
И каждый шаг, ох как не прост.
Сходить к старухе на погост
Не даст гора.
И долог день, и ночь пуста,
И шепчут бледные уста:
«Пора, пора…».
Лещёв, голубчик, нос утри!
Смотри, и в восемьдесят три
Живут мечтой.
Соседка Поля – вот где нрав!
С утра заварит чай из трав
И хоть бы что.
Рисунок в рамке с Ильичём,
Картошка в сенцах и ни в чём
Заботы нет.
Живёт одна, всегда в одном,
Одна коза и под окном
Растёт ранет.
Что дочь на юге – не беда.
Хозяин строг, но иногда
Готов помочь.
Деньжат подбросить и харчей,
Примчит Наталья из «сочей» –
На то и дочь!
Заскочит дальняя родня,
Всплакнут, а как же! И обняв,
Шасть за порог.
Они поймут, не новички.
Кряхтят, но терпят старички,
Спасай их Бог.
Застыли чёрные кряжи.
За ними, быстрая, бежит
Битюг-река.
Давно деревни прежней нет,
Но в двух окошках поздний свет
Горит, пока.
***
Не наложу, конечно, руки.
Умом не тронусь от потуг,
Но, часто, творческие муки
Куда серьезней, чем недуг.
Спросил поэт: «Как отзовется?»
А слово, знай, не воробей.
Свербит во мне, но не сдается,
Три дня, задумка, хоть убей.
А в голове шумит, как в роще.
Хотел рывком, на кураже,
Слегка вильнуть – писать попроще,
Чтобы разделаться уже.
Но не выходит, не дается!
И Тютчев, будто бы, грозит.
«Как слово наше отзовется» -
Меня все время тормозит.
Конец один – пойду к сороке,
С лесной всезнайкой потрещу.
И видит бог, я эти строки,
Что не давались – отыщу.
***
СКАЗКА
О Народе и Ненароде
Поучительная, в некотором роде.
Над широкою рекою
Облака плывут грядою.
В роще иволга поет,
День над царством восстает.
Под церковный перезвон
Восстает не только он.
И станичный, и столичный,
К делу всякому привычный,
Преисполненный забот,
Поднимается Народ.
Русый, смуглый – словом разный,
Трудовой Народ, не праздный.
Сеет лен и нефть качает,
Что ни попадя тачает.
Хлеб печет, детей сечет,
Одним словом, не скучает -
Жизнь обычную влачет.
То погонится за квочкой,
То рыбачит на блесну.
Пополняет, с проволочкой,
Государеву казну.
Во дворце, под сводом алым,
Девки бегают по залам.
Слуги мордами трясут –
Блюда с явствами несут.
Царь беседует с царицей.
Разговор все горячей.
Разрумянились их лица
От мадер и куличей.
Ненарод для них поет
И коленца выдает.
Извивается, юлит,
Ярко стразами горит.
ЦАРИЦА:
- Посмотри, мой дорогой,
Как он любит нас с тобой!
Все дела решает споро,
Служит нам который год.
Трону царскому опора –
Разлюбезный Ненарод.
В этот час благословенный
Входит в зал министр военный.
Царь к министру повернулся,
Антрекотом поперхнулся.
ЦАРЬ:
- Ты чего пришел в мундире,
Али что случилось в мире?
Ты замашки эти брось,
Ты- ж гражданский аж насквозь.
Ты зачем вот так оделся?
Отвечай мне, не молчи.
Олениною объелся,
Али сверзился с печи?
От такого маскарада
В рот не лезут калачи.
МИНИСТР:
- Ты, опора, не дури.
Невесть что, не говори.
Не едим, не спим, худеем –
Об Отечестве радеем.
Месяц, как не ошибиться,
Прискакал гонец с границы.
Наш сосед, наш кровный брат,
Дружбе прежней уж не рад.
Лает, брызжется слюной
И грозит тебе войной.
Стали злы и хамоваты!
К ним еще примкнули Наты.
Всюду стон и грабежи.
Нарушают, супостаты,
Наши, с вами, рубежи.
Свою линию подлянки
Продолжают ловко гнуть,
А от англицкой овсянки
У границ не продохнуть.
ЦАРЬ:
- А чего желают Наты
И заморские магнаты?
Соизвольте доложить.
МИНИСТР:
- Злит их, что живем богато,
Оттого на наше злато
Мыслят лапу наложить.
ЦАРЬ:
- А сосед чего озлился,
Чем сей аспид раздражён?
МИНИСТР:
- Табаками обкурился,
И, как есть, кругом должон.
Ненарод как то услышал,
Шапку в горсть и задом вышел.
Сиганул через порог –
То-то царь чертами строг.
ЦАРЬ:
- Разродился, промычал…
Три декады что ж молчал?
Вот же скверная порода…
Звать, позвать мне Ненарода!
Побежали, засвистали –
Ненарода не застали.
СЛУГИ:
Нет нигде его, хоть тресни.
Да к тому- же слух таков,
Он теперь иные песни
Распевает для врагов.
Розыск шел весьма упорно,
Но, однако, смог утечь,
Чтобы в банках забугорных,
Свои денежки сберечь.
И не медля, без раскачки,
В заграничном том «раю»,
Ради жрачки и подачки
Хает родину свою.
ЦАРЬ:
- Ненарод - подлец отпетый!
В этом есть моя вина…
Лишь вчера, скотине этой,
Подцеплял я ордена.
Кое-как живем, не строго.
Все у нас, то врозь, то вкось…
ЦАРИЦА:
- Не вини напрасно Бога,
Так с Адама повелось.
ЦАРЬ:
- Что же делать, как нам быть,
Как нам царство охранить?
Сам, признаюсь, дело это,
Я никак не разжую.
Предоставьте для совета
Штатную ворожею.
ВОРОЖЕЯ:
- Рано, рано по утру
Дуну, плюну, разотру.
С понталыку, с куражу,
Что увижу – расскажу.
За околицей, за рощей,
Круто влево от ворот,
В двух шагах, сказать попроще,
Проживает твой Народ.
Русый, смуглый – словом, разный.
Трудовой Народ, не праздный.
Делу всякому горазд.
Не обидит, не предаст.
Все Народу по плечу…
ЦАРЬ:
- Стоп! Ко мне его не медля…
Потрепаться с ним хочу.
МИНИСТР:
- Все устрою сей же миг !
Дожидаются за дверью,
По народному поверью,
Я, как знал, привел двоих.
А пред тем сидел за сметой.
Все решал, как дать всем в дых.
Подключил к работе этой
Ребятишек продувных.
Есть у нас мыслишка некта…
Сбережем мы твой венец.
Днями преют над проектом
Подмастерье и Кузнец.
ЦАРЬ:
- Не томи. Чего надумал?
МИНИСТР:
- Нужен меч нам – Кладенец.
Но не тот, чтоб просто сечь,
А особый – Нано-меч.
Нам с волшебным тем мечом,
Наты будут нипочем!
Иноземцев проклятущих
И соседей победим.
Станет край, допреж цветущий,
Не обжит и нелюдим.
ЦАРЬ:
- Что- ж, согласен! Примечаю,
Здесь успех наш налицо.
Пригласите к нам до чаю
Этих самых удальцов.
Входят Подмастерье и Кузнец.
ЦАРЬ:
- Просветите, только вкратце,
На каком этапе, братцы?
Вы, ребята, не серчайте
Из-за царского словца.
Как хотите, выручайте
От скандального конца.
ПОДМАСТЕРЬЕ:
- Мы готовы царь-отец,
Меч тот сделать, наконец.
Головах, так о шести,
Чтобы ворога смести.
Есть уже макет похожий.
Предоставим и чертеж,
Потому, как с битой рожей
Нам ходить уж невтерпеж.
КУЗНЕЦ:
- Но в делах сплошная мука!
Ведь кругом одно ворье ж.
А такую важну штуку
С голых рук не соберешь.
Никакого инструмента,
Кроме лома и клещей.
В кузне мрак, а стерлядь эта,
Только знай, что бьет взашей.
ЦАРЬ:
- Ах ты, ирод, ах злодей!
Что ж ты мучаешь людей?
МИНИСТР:
- Да какие ж это люди,
Если нету в них идей.
ЦАРЬ:
- Что попросят – все что б было,
От приборов, до паев…
Распродал, собачье рыло,
Достояние мое!
Не задерживаю боле…
ПОДМАСТЕРЬЕ:
- Коль обидели – забудь.
Уж такая наша доля -
Сочиним чего-нибудь.
КУЗНЕЦ:
- И не надо нам награды,
Коли выпала стезя.
Мы и сами сделать рады,
То, что выдумать нельзя.
Натам всем наставим шишек,
Победим любую рать.
Только прежде меж людишек
Злость желательно убрать…
Кланяются и выходят.
ЦАРЬ:
- Говорят довольно веско.
Рубят истину с плеча,
Но поглядывают дерзко.
Я, признаться, осерчал.
Ты, министр, имей ввиду –
Не ведись на поводу.
Я ж, как сан повелевает,
Эту смуту изведу.
Мы ребят пока не тронем,
Но как выполнят заказ,
В кандалы, чтоб в царском доме,
И покуда я на троне,
Не трепались на заказ!
ВОРОЖЕЯ:
- Как я вижу, у царей
Недостаточно идей.
Основная их идея –
Изводить своих людей.
Как война, так к ним бежать,
И любовь изображать.
А кончаются походы,
Так Народ долой из моды.
Зря устроили галдеж.
Вам поближе бы к Народу,
С ним вовек не пропадешь.
ЦАРЬ:
- Зацепила за живое!
Кликнуть что-ли палачей?
Твое место, ролевое,
Меж горшков и рогачей.
Ненарода не прощу
И к дворцу не подпущу.
Но тебе, министр, сознаюсь,
Что порой о нем грущу.
Ведь Народ сапог не лижет,
Не заглядывает в рот,
Потому-то мне и ближе,
И приятней Ненарод.
ВОРОЖЕЯ:
- Видно слушал ты в пол уха…
ЦАРЬ:
- Ой уймись! Уймись, старуха…
* * *
Говори не говори -
Сказки есть, а в них цари.
И другие персонажи.
Так идет с седых времен.
Кто получше, кто погаже,
Кто с глупинкой, кто умен.
Только это и не сказка,
Не совет и не подсказка.
Не полезней, не вредней.
Пусть другие разберутся,
Ведь другим всегда видней:
Что нам делать, как нам быть,
Чтобы царство сохранить!
***
Ты царь и бог. Ты крут и в «теме».
Твой взгляд рассеян, шаг упруг…
Так и живёшь, покуда в темя
Не клюнет жареный петух.
Тогда, с безумными глазами,
Держа свечу наперевес,
Перед святыми образами
Ждёшь искупительных чудес.
Но непомерно расстоянье!
Что биться лбом и рвать меха?
Есть в простодушном покаянье
Приметы нового греха.
Чему не быть – тому не сбыться.
От осознанья до кончин
Нет бань таких, чтоб враз отмыться
От роковых первопричин.
Свой прежний опыт обнуляя,
Пойми, что люди не враги.
Другую щеку подставляя,
Их полюбить превозмоги!
Ведь жизнь – она намного проще,
Когда без пафоса и лжи.
Стань на колени в белой роще
И ей всю правду расскажи.
Она поймёт и не осудит
За выстрел тот, не холостой.
Лишь лоб, пылающий остудит
Своей холодной берестой.
И прочь иди, где мох не тронут,
Где ветер вторит бубенцу…
Сорви и брось свою корону –
Картон скитальцу не к лицу.
Анатолий Павлович Смышников
__________________________
178639
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 06.04.2025, 15:24 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 08.04.2025, 07:32 | Сообщение # 2915 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| На дощечке дети лупою
выжгли Бога своего —
словно дети сердце глупое
хочет сразу и всего.
И опять душа-скиталица
меж созвездий и миров —
по другой душе печалится,
ищет с нею общий кров.
В человечьем теле тесно ей
и светиться и звучать —
но земное и небесное
без него не повенчать.
Все твои и все мои они
эти шрамы на воде —
чтоб назвать любовь по имени
с той дощечки на суде.
***
Каждый раз, проезжая
мимо вашего дома
свою память сужаю
до прожитого тома.
Книги светлой, печальной,
век назад сочинённой
о любви изначальной
и на долг разделённой.
Где вопрос без ответа,
тьма, халдейское иго.
Где со смертью поэта
обрывается книга.
За окошком трамвая
снег, хрустальные дети.
И наверно бывает
по другому на свете.
И наверно бывает
жизнь спокойной и длинной
где герой засыпает
в пледе возле камина.
Где случается это
от тепла и уюта.
И такие сюжеты
выпадают кому-то.
***
Когда одна на берегу
ты в снег легла, ища ответы,
как камень, замерший в снегу,
сияньем северным согретый...
Я не решался сделать шаг,
я в землю врос, я вмёрз в тот берег,
и билась глупая душа
в продрогшем теле.
Но ты, среди других камней —
казалась мне звездой, кометой,
и расцветала тьма во мне
забытым светом.
Потом был снегопад кругом —
и сквозь тот снег, как сквозь столетья,
мы взявшись за руки бегом
бежали по небу, как дети.
***
Я не стал ни компасом, ни опорой,
ни звездою, ни фонарем —
я застыл шиповником у забора
на тернистом пути твоём.
Разве может куст заключить в объятья,
отогреть, уберечь, спасти? —
Но когда обняв, ты порвала платье —
научила меня цвести.
***
Ладно дыши сказала —
серце забилось вновь...
Ландыши у вокзала —
срезанная любовь.
Где-то на белом свете
истины не видны...
Тот, кто за всё в ответе
выше твоей вины.
Выше твоих метаний
тот, кто тебя простил...
Сердце страдать устанет
и поугаснет пыл.
Знаешь, стихи не гречка —
ими не проживешь.
Не размышляй о вечном —
может чего поймёшь.
Просто целуй и кайся,
или не кайся [смех].
Просто руки касайся —
это ещё не грех.
***
Эта сказка, как жизнь стара —
я опять согрешил, и опять
Бог послал ко мне комара,
чтобы тот не давал мне спать.
Чтоб вертелся я с бока на бок,
и всю ночь чтоб мне снилась война
подослал комара мне Бог —
кровожадного пискуна.
Был бы рядом допустим Блок —
мы бы выпили с ним вина.
Я его подтолкнул бы в бок
и сказал бы — давай до дна.
Или Месяц бы был со мной —
спели б вместе про сердолик,
мы допили коньяк бы «Ной»
и к грузинам гулять пошли.
Но ни Блока ни Месяца нет,
с комаром посидим, погудим.
Он ведь тоже летит на свет,
он ведь тоже совсем один.
***
Бледнолицый плывёт не в своём каноэ,
потому и не слышит дыхания рек.
Очень мало любви, очень много гноя, —
говорил, воскрешавший меня Человек.
Человек растирал мои лимфы маслом
и поил отваром полынь-травы...
Три недели солнце цвело и гасло,
три недели сон мой терзали львы.
Три недели я продирался к морю.
А открыл глаза — и увидел снег.
— Бледнолицый скоро познает волю —
повторял воскрешавший меня Человек.
Явь гуляет по полю слепа и раздета,
реки вен кормит память сияющих лиц —
говорил Человек.
И крошились от света
и стирались границы его глазниц.
***
Врёт четвёртая струна,
скоро видимо порвется.
Вдалеке гремит война,
рядом женщина смеется.
Слезы кончились давно —
больше года медсестрою.
Льется свет через окно —
что-то вечное, простое...
Ой не то, не то, не то,
пропою я виновато.
Средь повязок и бинтов
виден свет в глазах солдата...
Ой не то не то не то —
когда брат идёт на брата.
Чудо женщины простой—
исцеление солдата.
Мне от этой простоты
никуда уже не скрыться.
Эти белые бинты.
Эти солнечные лица.
Я прошу тебя спаси,
защити их, добрый Боже.
Если там — на Небеси
у Тебя воюют тоже.
Ой не то, не то, не то,
пропою я виновато.
Средь повязок и бинтов
виден свет в глазах солдата...
Ой не то не то не то —
все закончится когда-то.
Чудо женщины простой—
воскрешение солдата.
***
Зачем тебе вся эта чепуха,
раз ты прикован намертво к печали
святым союзом света и греха
ещё в начале.
Зачем тебе они, когда она
уже тебя заметила на свете,
и появились звёзды и луна
и ветер.
Зачем, зачем — вопрос, ещё вопрос —
я слишком долго говорил словами,
и в это небо, словно в землю врос,
как солнце, что у нас над головами.
***
Не видящая разницы
меж мертвым и живым —
хохочет, словно дразнится
порезом ножевым.
Ползёт упрямо трещина
по выцветшей стене,
спокойно смотрит женщина
в глаза моей вине.
Упругая, как деревце
в ночнушке из листвы.
И ей ещё не верится,
что мы уже мертвы.
Что даже если голову
на грудь мне положить,
то белого безмолвия
нам с ней не пережить.
И вместо мыслей гул —
лица коснешься невпопад.
Легла на спину улица
и рухнул снегопад.
***
Белые-белые ангелы в белые-белые
трубы трубят.
Что же я делаю? Что же я делаю —
в этой глуши без тебя?
Память неспелую, душу ли, тело ли —
всё тебе, Боже, отдам.
Что же я делаю? Что же я делаю —
здесь, если ты где-то там?
Крепко мы выпили. Выпили, выбели —
чёрную душу мою!
Звезды с небес, словно запонки выпали.
Чем нам укрыться в раю?..
***
Везя на фронт гуманитарку
с Диманом, Лехой — понял вдруг,
что я попал в роман Ремарка,
где ключевое слово — друг.
Так я поймал себя на слове —
и это слово не любовь.
И сколько было тех любовей —
на три зимовки хватит дров.
В ночи змеей дорога вьется,
и будь уверен — впереди
не дом, где женщина смеется
и виснет на твоей груди.
Там сердце выплюнет тревогу
и разгорится до конца.
Ну а теперь поспи немного —
тебе с утра играть бойцам.
После концерта санитарка
попросит:
— книжку подари.
Я ей отдам роман Ремарка,
где на обложке цифра три.
***
Мой свет, моя благая весть,
я упрощаюсь, упрощаюсь —
но продолжаю пить и есть
и с миром этим не прощаюсь...
Но ты, цветущая в снегу,
всем вопреки земным законам —
махни рукой на берегу,
останься колокольным звоном.
Мне нечего отдать тебе —
я всё отдал жене и детям.
Я ничего не взял себе
на этом свете.
***
Мой хороший, не надо
говорить о грехе —
больше рая и ада
нету в этом стихе.
Расскажи мне о чуде
и случится оно,
что подумают люди
чудесам всё равно.
Нам с тобою ютиться
между светом и тьмой —
что подумают птицы
мне важней, ангел мой.
Снег, как белые перья
к нам из мрака летит,
и не вижу теперь я
здесь другого пути.
***
Не печалься — грех печалиться,
утру радуйся дружок.
Видишь? — молодость кончается,
заживает твой ожог.
Я тебе не про прикольчики —
не пластмассовый стендап.
Слушай сердца колокольчики —
ну прислушайся хотя б.
И какая в целом разница,
что тебе не все и враз,
раз любовь — не грудь и задница,
а морщинка возле глаз...
Слышишь? — облако колышется,
ангел дует в свой рожок.
Из любви ведь — легче дышится,
легче пишется, дружок.
***
Разорвалась цепочка,
крест забрала волна.
Пора поставить точку
там где нужна она.
Там где и я и ты и
где вечность под откос,
в тире и запятые
я слишком крепко врос.
Меня давно не стало
живого во плоти —
смотри, как ты устала
на холоде цвести.
Я знаю что случится —
я разглядел вполне,
как бьётся и лучится
мой крестик в той волне.
Как он остаться хочет
и тянется к руке.
И как над ним хохочет
та чайка вдалеке.
***
И всё кажется, что там —
у неё в глазах
вечность ходит по пятам
за тобой в слезах.
Вечность — голая, как тьма,
хрупкая, как свет,
норовит на всё сама
дать простой ответ.
И всё сыплются с небес
белые цветы
и спускаются на лес
реки и мосты.
И кому теперь важны
очертания их?
Если звёзды так нежны
в волосах твоих.
И куда из этих мест
Бог погонит нас?
Если родинка и крест
станут ближе глаз.
***
Мир вокруг рушится,
мир вокруг рушится —
вдребезги рушится мир.
Атомы кружатся,
атомы кружатся —
тёплых уютных квартир.
Навзничь упавшие
листья опавшие —
срочники общей вины.
Вечность не спавшие
курят уставшие
чёрные боги войны.
Тонкая веточка,
платьице в клеточку —
скомканы в точку века.
Плачьте, моя
одинокая деточка,
можете плакать пока.
Воска горение,
тихое пение,
лица — иконы пиши.
Вашей любви
не коснеся забвение —
грех не поранит души.
***
Зачем тебе вся эта чепуха,
раз ты прикован намертво к печали
святым союзом света и греха
ещё в начале.
Зачем тебе они, когда она
уже тебя заметила на свете,
и появились звёзды и луна
и ветер.
Зачем, зачем — вопрос, ещё вопрос —
я слишком долго говорил словами,
и в это небо, словно в землю врос,
как солнце, что у нас над головами.
***
До деревни в которую ты —
не приеду к тебе я.
Не увижу у дома цветы
и на грядках навоз.
У тебя будут звезды светлей,
небеса голубее.
Пятистенок сосновый и печь
и крещенский мороз.
Будет дым из трубы
по хозяйски стелиться над полем,
во дворе мерный стук топора,
детский смех из дверей.
Я к тебе не приеду.
Бескрайнее чёрное море
не отпустит меня
на твой север
в страну снегирей.
***
Скурены фантики, рюмки разбиты
в мраке дорога петляет опять.
Девочки любят солдат и бандитов —
просто прими, не пытайся понять.
Старая кухня, зачатки рассвета
намертво взгляд зацепился за взгляд.
Девочки любят солдат и поэтов,
но всё равно чуть сильнее солдат.
Клюкевеным соком хохочет рубаха,
но на миру веселей без рубах.
Девочки любят солдат и монахов,
девочке снится солдат и монах.
***
Ни разлуки, ни горя
не случится у нас —
будет домик у моря,
тихий свет твоих глаз.
Я не знаю откуда
это знанье во мне —
будет нежность, как чудо
солнца луч на стене.
Будут смех и объятья,
а потом на плече
твоё белое платье
растворится в луче.
Колыхнется от ветра
тюль в раскрытом окне
и прольёт столько света,
сколько нет на земле.
И в том свете не будет
даже примеси тьмы —
лишь сплетение судеб,
только вечные мы.
***
Передали по рации
что пора на покой.
Увезли декорации —
помаши мне рукой.
Сладко пахнет акация
в светлом райском саду —
и так тянет остаться здесь,
но я все же сойду
На разбомбленной станции —
где мои кореша,
где до неба дистанцию
ощутила душа.
***
Облако, зачатое в трубе
городской центральной теплостанции,
чем-то там покажется тебе
по дороге на тусовку с танцами.
Что-то в нём такое промелькнет —
женщина с ребёнком, море, смех её.
А потом видение пройдёт,
и водитель скажет — всё, приехали.
Вылезешь, поднимешь вверх зрачки
только дым, где раньше было облако.
У ворот апостолы качки
перепивших устраняют волоком.
Здесь должна быть светлая строка,
но она подкурена и брошена.
Улыбнись, взгляни на облака —
что ещё ты видел здесь хорошего?
***
Если пусто внутри
говори о простом —
о любви говори,
о звезде над мостом.
Не считай, не юли —
пусть твой путь будет прост
словно свет от любви,
как звезда или мост.
Пусть плывут фонари
к речке, к церкви с крестом —
не сгорай, но гори,
как звезда над мостом.
Вниз с моста посмотри
где чернеет вода.
И пойми, что внутри —
тот же мост и звезда.
***
Погибшие на третьей мировой
проснулись утром полевой травой.
А над травой уставший часовой
курил такой красивый и живой.
И падал, исчезая навсегда
окурок в траву будто бы звезда.
А люди в городах смотрели сны,
как будто бы и не было войны.
И тех, кто убивал и тех, кто нет
один и тот же поднимал рассвет.
Одни и те же звезды плыли вслед
и тем, кто умирал и тем, кто нет.
И я хочу, чтоб выжил часовой —
такой красивый и такой живой,
такой нездешний и навечно свой,
как солнце, что горит над головой.
***
Иран ещё не пал
под огненным дождём.
Ты слишком долго спал,
мой ангел белоснежный.
Смотри — на нас с небес
наш вечный смотрит дом
и наши души в нём
светлы и безмятежны.
Когда восстанет храм
из пепла и руин
что б снова обратить
всё в пепел и руины
на вызженой земле
одной из украин —
мы будем белых птиц
лепить из Божьей глины.
Мы заперты с тобой
в голодные тела
и лишь осколки снов
нам намекают кто мы.
Бери мою любовь —
она всегда была.
И помаши рукой
самой себе из дома.
***
Вверху созвездия качались,
я их руками обнимал —
и не было светлей печали,
чем та, что я чертовски мал.
Чем та, что этот глупый вечер
едва ли сможет отогреть
твои нетронутые плечи
и листьев бронзовую медь.
Чем та, которая со мною
уже живёт десятки лет —
поэт положенный в каноэ
индейцем выплывет на свет.
И я плыву и вижу звезды,
и звезды ждут меня домой —
прошу тебя, пока не поздно,
забудь печали, ангел мой.
Алексей Шмелев https://stihi.ru/avtor/romeo23
_______________________________________
178684
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 08.04.2025, 07:34 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 18.04.2025, 10:20 | Сообщение # 2916 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Марии Алексеевне Пушкиной-Ганнибал,
бабушке А.С.Пушкина,
который до трёх лет умел говорить только по-французски
О, как же мы порой самонадеянны!
О Пушкине всё знаем! Хвастовство!
Не бабушка ль Мария Алексеевна
Поэтом русским сделала его,
Когда внучонка папеньку и маменьку
Она взяла сурово в оборот:
«Не в том беда, что смуглый да курчавенькой,
А в том, что Сашка нерусью растёт!
По-нашему – ни слова! Что ж, вы, ироды,
Из пострелёнка лепите мусью?
Клоповью дурь из вас я всю повыведу!
Французничать охоту отобью!
Ах, деточки, за тучами дремучими
Не проглядите русскую зарю.
А чтоб вконец мальчонку не замучили,
Арину в няньки чадушке дарю!
Пускай играет с ним по-русски в ладушки,
Пускай по-русски говорят вокруг!»
...Кто знает, если бы не воля бабушки,
Кем стал бы непоседливый барчук…
Как просто всё: не пахано – не сеяно,
Не знаешь слов – не прочитаешь строк.
Дражайшая Мария Алексеевна,
Спаси Вас Бог за давний тот урок
Всем нынешним родителям и бабушкам,
Которые, как много лет назад,
Своим любимым ненаглядным чадушкам
По-русски говорить и жить велят!
Чтобы гордились Пушкинской Державою –
Страной добра, основой из основ
И тем, кто русской памятью и славою
Пребудет до скончания веков!
***
ИЗ «ВЕНКА ЛЕРМОНТОВУ»
1.
Дубовый* кряж покоится в Тарханах –
То Лермонтова дерево. Оно
Повалено когда-то ураганом.
Хоть пережить поэта суждено
Ему на полтора столетья было,
А всё ж судьба его не сберегла.
Табличкою означена могила
Могучего покойного ствола…
С лёгкой руки великого поэта
Здесь саженец за годом год взрослел.
Одна беда: как прежде, без ответа
Гуляют ураганы по земле
И с корнем выворачивают годы,
Спеша переиначить, умертвить,
Маня народы призраком свободы,
Меж временами обрывая нить.
Чтобы прорехи в памяти зияли,
И бывшей плоти мёртвые куски
Лежали на музейном пьедестале –
Обрубки, кряжи, кости, черепки…
Но мёртвою водой их поливая,
Какой же русский в сердце не сберёг,
Что есть ещё у нас вода живая –
Бессмертная душа заветных строк!
Родовичи мои, ещё нас много
На том пути, где вечность впереди,
Где «выхожу один я на дорогу»,
И понимаю: вовсе не один!
О, как же эту истину не просто
Постичь от мирозданья сквозь года:
По Лермонтову братья мы и сёстры.
Вчера. Сегодня. Завтра. Навсегда.
________________
*Дуб, по преданию, посаженный Михаилом Лермонтовым в Тарханах, погиб от урагана 11 июня 1995 года.
2.
На терренкуровой тропе
Железноводского портала
Дивлюсь: «Как много он успел!
Ах, Боже мой, как это мало!»
Навстречу радостно спешат,
Как старые знакомцы, стелы:
«Бородино» и «Маскарад».
Что впереди: «Три пальмы»? «Бэла»?
Синицы мне наперебой
Щебечут имя по секрету.
Ах, милые, сейчас с собой
Ни семечек, ни крошек нету.
Мы завтра свидимся опять,
Забывчивость простите другу.
Как вы, летать бы – не шагать
По этому святому кругу!
За поворотом поворот.
Ночные отступают тени.
И щедро золотит восход
Созвездье слов – «Наш современник».
3.
Он сдвинул исписанный лист.
«Прощай, глинобитный мой терем!
А, впрочем, я кто? Фаталист!
Куда подаваться? Проверим*!
О, жребия звонкий пятак,
Решенье сейчас за тобою:
Отправиться в полк или так
И плыть пятигорской судьбою.
Орёл или решка? Опять
Сраженья иль эта рутина,
Где только одно – наблюдать,
Как злится от шуток Мартынов.
Приелось уже и оно –
Невинное то развлеченье.
Увы, но сарказма вино
Давно не даёт наслажденья…
А тут ещё эта жара –
Июля дурная примета.
Ну, Лермонтов, право, пора!»
...И гений подбросил монету.
__________
*Решение ехать в Пятигорск Михаил Лермонтов принял, бросив монету на жребий.
4.
Как деловито обсуждали
Три говорящих головы
Дуэли памятной детали
В телеэкране.
– Быть живым, –
Сказал хозяин первой глотки, –
Никак не дали бы ему!
Заказ на Лермонтова чёткий
Проплачен. Только не пойму,
Зачем какого-то кретина
К дуэли пристегнули?
– Ну, –
Вступил второй, –
Стреляли б в спину!
И на абреков – всю вину!
А третий – ласковый мужчина –
Сочувственно причмокнул:
– Да!
Мне, кажется, что был Мартынов
Несчастной жертвой, господа!
– А мне, – то первый снова, – ясно,
Как дважды два, таков расклад:
Что в гибели своей напрасной
Сам убиенный виноват!
– Когда на властные вершины, –
Второй поддакнул, – прёт поэт,
Всегда отыщется Мартынов,
Верней, послушный пистолет…
– О, как же тяжко слыть убийцей! –
Вмешался третий в разговор, –
Из-за того, в ком зло амбиций,
Носить пожизненный позор!
...Я слушал этот спор лукавый,
Где лишь неискренность в цене,
Взывая молча: «Боже правый,
Скажи, что это снится мне!
Что бесы здесь случайно вместе,
Что грянет снова над Москвой:
«Погиб поэт, невольник чести.
Пал, оклеветанный молвой...»
Что зло вселенское осилив
В своём неведомом пути,
Моя «немытая Россия»
Поэта гибель не простит…
Что в пробудившейся державе
У времени – один исход:
Лишь тот народом будет править,
В ком Лермонтова дух живёт!
***
Страна неотвратимых потрясений,
Полузабытых, проданных побед,
Страна неокончательных решений,
Страна былых надежд, страна Совет…
Страна, где становиться на колени –
И мода, и обычай, и завет,
И грех, и крест для новых поколений,
И на вопрос единственный ответ:
Что впереди, за чередой мгновений,
Где борются за душу тьма и свет?
Страна моих падений и прозрений,
Другой не будет, не было и нет.
***
Кончается время застолий
И пустопорожних речей.
Язык, что и впрямь без мозолей,
Ленивей стал и тяжелей.
Уходит моё поколенье
В пределы, где времени нет,
Нарушив былое равненье
На знамя отцовских побед.
Не то чтобы предков забыли,
За сладким куском колеся.
Родной поклониться могиле –
Не вся ещё память, не вся…
Становится прошлое зыбким,
Прозренья рождая ручьи:
Отечества злые ошибки,
Ровесник, – мои и твои.
Стираются краски и звуки,
Но с каждой минутой ясней,
Что главное в том, чтобы внуки
Родили горластых детей.
Им – наши последние силы
И наши закатные дни,
И вера, что нашу Россию
Должны полюбить и они...
***
Калмыцкий друг*, ты помнишь этот миг,
Когда в июльский зной под Хулхутою
Ты вдруг сказал: «Я вижу штурмовик,
Горящий штурмовик над полем боя...»
Бесцветным было небо от жары
Над нашими с тобою головами.
«Он падает, и раздаётся взрыв,
А дальше только пламя, только пламя...»
Наверно, время разомкнуло круг –
Иного объясненья просто нету,
Как мог увидеть ты, старинный друг,
Сорок второго огненное лето.
Буддисты знают, что душа живёт,
Телесное обличие теряя.
На вражьи танки бросил самолёт
Военный лётчик Всеволод Ширяев.
И вздрогнула в испуге Хулхута
В далёкий день от жертвенного взрыва.
Тот, у кого своя душа пуста,
Не понимает этого порыва.
«О, Будда, да не будет воскрешён
Такой делец твоею волей скорой,
Когда умрёт за свой автосалон,
На улице Ширяева который…»
Мой мудрый друг, не зря в твоей судьбе
Тогда случилось вещее виденье.
По воле Будды, может быть, в тебе –
Души героя нынче воплощенье…
_____________
*Одна из улиц Астрахани носит имя капитана Всеволода Ширяева,
направившего свой горящий штурмовик на вражеские танки
в бою под Хулхутой в Калмыкии в 1942-м.
***
22 ИЮНЯ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ
И снова день – на загляденье!
Наверно, лучше нет поры,
Чем это время лип цветенья
Здесь, у Железной у горы.
Но, будто взрывом, аромата
Встряхнуло сладкую струю…
«Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью...» –
Над заповедной благодатью
Тем, в ком душа ещё жива,
Открыли горькие объятья
Непозабытые слова.
А с ними в небесах незримо
Плывут минувшие года.
И льётся не в стаканы – мимо
Вдруг минеральная вода.
Ах, стать бы ей живой водою,
Чтоб наконец-то заросли
Те, что оставлены войною,
Раненья в памяти земли!
Притихли дети и старушки,
Умолк толпы курортной гам.
«И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам...»
***
«Артиллеристы, Сталин дал приказ!» –
Хрипел отец за чаркою до пота.
Пел, как умел, фальшивя всякий раз,
Он, командир зенитного расчёта.
И некому помочь и подтянуть
Ему в застольной песенной кручине –
Его расчёт земной окончил путь
Под Сталинградом и в днепровской стыни.
Не трижды ли сержанта обошла
По кругу поведённой смертной чашей
Судьба – хозяйка бражного стола,
Где вместе за столом и наши, и не наши…
Отец, прости, что в прежние года
Я не болел твоей заветной болью.
Казалось мне, что это навсегда –
Твой слёзный хрип в негаснущем застолье.
Наверно, время делает мудрей,
Вдруг возвращая главный смысл понятьям.
«Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей,
За нашу Родину! Огонь!»
Ты слышишь, батя?
***
«Трансваль, Трансваль, земля моя,
Ты вся горишь в огне!» –
Откуда дед мой это взял,
Что пел когда-то мне?
Пел с настоящею слезой
Он много лет назад.
Его украинской весной
Вишнёвый слушал сад.
Он останавливался вдруг,
Рукой чертил в пыли:
– Вон там, где хутор Балайчук,
Людей фашисты жгли!
Дрожала дедова рука,
Дрожал его фальцет:
– Злодейство это на века
Запомнил белый свет!
А я запомнил майский сад,
Как недопитый сон,
Как облака над ним летят
К Одессе на поклон…
С тех прошло полсотни лет,
И снова мир во зле.
Стоит по-прежнему село,
Но на чужой земле.
Гляжу в экран, и худо мне,
Я опускаю взгляд –
Там люди вовсе не во сне,
А наяву горят!
Опять беда одна на всех
И общая вина
За этот неизбывный грех:
СС. «Галичина».
И слышу снова деда я
В душевной глубине:
«Трансваль, Трансваль, земля моя,
Ты вся горишь в огне!»
Нет, Новороссия жива!
Земля моя в бою!
И эти дедовы слова
Я внуку пропою!
Малыш, скорее подрастай
Для радости земли!
Чтобы назвать победным май
С тобою мы смогли!
***
Лихие времена –
Что водка без закуски.
Расхристанной душе
Ядрёный хмель – во зло.
Прости меня, земля,
Что я остался русским,
Что нам с тобой вдвоём
Вот так не повезло.
Что горький жребий наш –
Нерусская удача,
Что пропили свою,
Которой – грош цена,
Что незачем мостить
Нам, грешным, Стену Плача –
Готова ею стать
Не каждая ль стена!
Прости меня, земля,
Что я не стал героем,
Что память занесёт
Забвения песком…
А только день пришёл –
И раскопали Трою.
О, дай мне стать твоим
Последним черепком!
Чтоб кто-нибудь ожёг
Его прищуром узким,
И, отыскав ответ
На каверзный вопрос,
Над этим черепком
Одно лишь слово:
«Русский?»
Когда-нибудь ещё
С надеждой произнёс.
***
Угрюмо вторили колёса
Тому, кто в забытьи хмельном,
Упрямо мучился вопросом:
«Как мы живём?»
Жи-вём. Жи-вём.
Служивый выпивал по-русски:
За окнами глухая темь,
И так – без тостов и закуски –
Тоскливое: «Зачем?»
Чем? Чем?
Примчались из степи метели
На запах крепкого вина.
И ордена его звенели:
«Что за страна!»
Стран-на. Стран-на.
О, вечное России горе
И от ума, и от питья!
«Живёшь ты в блуде и позоре!
Ты самая…»
Моя. Моя.
***
Человек, пришедший неспроста,
Молвил, не нарушивши обычай:
А у вас красивые места!»
Только мне послышалось:
«Добыча»…
Ты побудь, заезжий человек,
Гостем наших низовских окраин.
Он ответил: «Гостем? Хоть навек!»
Только мне послышалось:
«Хозяин»…
Выбирай подарок по нутру –
Я заветы предков не нарушу!
Он ответил: «Разве что икру!»
Только мне послышалось:
«А душу?»
***
Наливаюсь ратною отвагой,
Прикипают руки к топору –
Над моей разгульною ватагой
Реет чернокрылая хоругвь.
Бабники, пропойцы, сквернословы,
Вовсе непотребные шиши –
Вышли мы на поле Куликово
Нынче для спасения души!
Гей, гряди на битву беззаботней,
Самый крепкий, самый чёрный люд!
Что с того, что завтра чёрной сотней
Нас потомки вражьи нарекут!
Ведает заступник с выси горней:
Оттого те чёрные слова,
Что от крови нашей стала чёрной
Поля богатырского трава!
И, когда отринувши земное,
Родина потребует ответ,
Я готов – в одном ряду со мною
Чёрной сотни инок Пересвет!
***
Засадный полк. Заветная дубрава.
Свершилось чудо в заповедный срок.
Но почему-то сразу доброй славы
Не получил его творец Боброк.
Через века страданий и событий
Не видно в этом никакой беды.
Да здравствует великий победитель
Поверженной Мамаевой Орды!
По доблести и слава! Даром, что ли,
Великий князь сам выбрал пеший строй,
Чтоб обрести на Куликовом поле
Загадочное прозвище – Донской!
Судьба решит сама: кому рубиться,
Отдавшись смело ратному труду,
Ну, а кому могучею десницей
Натягивать сражения узду.
О, этот жребий – на зубах, на жилах
Держать наружу рвущийся пожар,
Чтобы могучей, свежей, русской силы
Хватило на решающий удар!
Пускай потом другим звучат в награду
О храбрости и доблести слова.
Иной награды, видит Бог, не надо –
Была бы только Родина жива!
Нет испытаньям ни конца, ни края.
Где ж, ты, герой-спаситель, гой еси?
Не в том беда, что князь – слуга Мамая.
А в том, что нет Боброка на Руси…
***
Да был ли он, Евпатий Коловрат?
С отчаянья его придумал кто-то,
Когда Орда уже не «коло врат»,
А проломила русские ворота!
И хлынула потоками в проран
Неодолимо конница Батыги.
Вот тут-то и измыслен был рязан,
За помощью приехавший в Чернигов.
Как он с былинной удалью гвоздил
И в хвост, и в гриву вражескую силу!
Так бил, что его великий пыл
Лишь глыба камнемёта остудила…
Как песня богатырская лиха!
Остановись, великое мгновенье!
И не как нет ни капельки греха
В наивном стародавнем сочиненьи!
Когда всему заветному конец,
Когда кругом неверие и тризны,
Был явлен миру чудный образец,
Как защищать величие Отчизны!
Смеренный инок, твой лесной глагол
О небылом да сбывшемся деянье,
Негаданно-нежданно приобрёл
Воистину вселенское звучанье!
И потому судьбе наперекор,
Оборужённый вечным вещим Словом,
Суровый пахарь брался за топор,
Как те рязанцы, и опять, и снова!
…Глядите: чёрны вороны кружат,
Который год кружат над отчим краем.
И умирает снова Коловрат,
С былинной песней вместе умирает.
И торжествуют злобные враги,
Нас одолевши на незримой рати.
Молю: опять, Всевышний, помоги,
Чтобы явился на Руси Евпатий!
Да здравствует святое торжество
Героя на пути к заветной цели!
Неважно, кто придумает его –
Услышали б ту песню и запели…
***
Да, именем моим пугали печенегов.
Да, именем моим сбивали птицу влёт.
Да, именем моим – не силой оберегов –
Тевтонские полки вмерзали в Чудский лёд.
Да, в имени моём – Донская переправа.
Да, в имени моём – и Брест, и Сталинград.
Да, в имени моём – немеркнущая слава
Всех ополченцев, ратников, солдат.
Да, в имени моём – лихие перемены.
Да в имени моём – чужой заразы мор.
Да, в имени моём – самим себе измена.
И потому на трон садится новый вор.
Да, в имени моём – холуйство и холопство.
Да, в имени моём – кабальная стезя.
Да, в имени моём, как в том святом колодце,
Былую чистоту воде вернуть нельзя.
Но в имени моём любовь мерцает тускло.
Но в имени моём есть веры уголёк.
Но в имени моём – заветном слове «Русский» –
Навеки сбережён надежды родничок.
***
Среди вопросов праздных и непраздных
Ищу один-единственный ответ:
Неужто День Победы – это праздник
Солдат страны, которой больше нет?
Когда салюта майского зарницы
Расплещут в небе развесёлый свет,
Вглядитесь, как печальны эти лица
Солдат страны, которой больше нет.
Как тяжелы натужное веселье,
Шутов продажных громогласный бред!
Неужто враженята одолели
Солдат страны, которой больше нет?
Есть, видно, и у стойкости пределы.
Не потому ли в перекрестье лет
Так безвозвратно войско поредело
Солдат страны, которой больше нет.
И, никого ни в чём не виноватя,
Глаза в глаза – совет, завет, ответ –
Глядит светло с плиты могильной батя –
Солдат страны, которой больше нет.
***
Нет, не чеканной
Поступью парада,
Когда гудит
Торжественно земля, –
Приходит День Победы
Без отрады,
Как инвалид
На старых костылях.
Скрипят подпорки,
И саднят увечья –
Кто ведает им
Разницу и счёт?
Заветный день
С судьбою человечьей…
Неужто он
Когда-нибудь умрёт?
***
Тесно могилам
На новом погосте.
Но ни одна
Не обидится тень –
Нынче на кладбище
Гости и гости.
Красная Горка.
Родительский день.
Если кому
И не будет помину,
Ветер в камыш
Заберётся, скуля.
Он и помянет
Людскую судьбину.
Рыжая глина.
Родная земля.
***
У астраханцев есть одна мечта,
У каждого – я вас уверить смею –
Чтоб сгинули жара и духота,
А заодно – и злые суховеи.
Чтоб завалил Господь солончаки
На радость земледельцам перегноем,
Чтоб комаров несметные полки
Исчезли невестимо вслед за зноем.
Пусть пропадёт настырная мошка
И камыши – с заветных огородов.
Зимой побольше чистого снежка,
А не кефирной жижи с небосвода.
Чего ещё? Чтоб не один карась
Блуждал в ухе, где место осетрины,
Чтоб Астрахань взяла и поднялась
Из ямы Прикаспийской на равнину!
Гневим судьбу свою через года,
Привычно грезим о заветном чуде.
А сбудется оно – и что тогда?
Да просто нашей родины не будет…
***
Не бывает худа без добра.
Ах, как эта истина стара!
Так стара, что на покой пора.
Да, бывает худо без добра!
Я не про политику и власть –
Чтоб им расточиться и пропасть!
Паука сожрёт другой паук –
То-то будет радости вокруг!
Что клеймить позором подлецов,
На костях настроивших дворцов?
Степень пользы их – и в этом суть –
Суд определит когда-нибудь.
Я не о любимом из друзей,
Чахнущем над златом, как Кащей.
Мог бы – дружбу положил на счёт.
Но зато убогим подаёт!
Страшно без предела, без конца,
Коль любовь оставила сердца.
Только у остывшего костра
Понимаешь: худо без добра…
***
И кипят нешуточные страсти
Среди нововзысканной толпы:
Лучше кто – отведавшие власти,
Сытые, довольные клопы
Или их голодные собратья,
Из заморских прущие перин?
Сатана меняет лица, платья,
Только облик у него один.
Ты, гляди, сосед, гляди, соседка, –
Вот он, снова лезущий во власть!
Что нам остаётся? Память предка:
«Как бы на Болото не попасть!»
Пусть казнят друг дружку лиходеи!
Пусть они дерутся – зло со злом!
Нет сейчас спасительней идеи:
Наше время просто не пришло!
Юрий Николаевич Щербаков
________________________
179216
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 18.04.2025, 10:23 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 09.05.2025, 17:38 | Сообщение # 2917 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Я летать разучилась,
мне даже не снится,
Что парю в поднебесье
непуганой птицей.
Над заброшенным полем,
чернеющей пашней
Не кружить мне,
веселой, счастливой, - вчерашней.
Осыпаются дни,
словно листья от ветра.
Не дождаться из детства
привета-ответа.
В сентябре проясняется небо
так редко!
Помани, подними,
покачай меня, ветка…
* * *
Я навстречу весне побежала,
Золотыми лучами согрета,
Я за ниточку солнце держала,
Но весна уже канула в лето.
Пели птицы красиво и звонко,
Я цветастое платье надела,
Побежала за летом вдогонку,
Оказалось – листва поредела.
Оглянулась – сады облетели,
Догоню ли я клин журавлиный?
А меня подгоняют метели,
И заснежены гроздья калины.
Я бесстрашно по жизни бежала,
Только время меня побеждало.
* * *
В метро ребенок плакал, и никто –
Ни юные папаша и мамаша,
Ни добрые соседи по вагону –
Ребенка успокоить не могли.
Я взгляд его заплаканный поймала
И лучезарно, ярко улыбнулась, –
Ведь у меня в душе сияло солнце, –
И мальчик озадаченно затих.
И в тишине папаша и мамаша,
И все, кто были рядом, обернулись,
И, малыша оставив без вниманья,
Смотрели с удивленьем на меня.
И, не дождавшись нужной остановки,
Смущенная, я вышла из вагона…
Я фокус тот проделывала часто,
Теперь, увы, мне это не дано.
Мои уменья в юности остались,
Мои дары по жизни растеряла.
Что делать, если человек заплачет,
Чужой и посторонний человек?
Присяду рядом и заплачу тоже,
Я верю, вместе плакать будет легче.
Потом вздохнем и молча разойдемся,
Чтоб больше не встречаться никогда.
* * *
Раскаленный песок и босые ступни,
И в полуденном воздухе злые слепни
Заставляют в прохладу воды погрузиться.
По-щенячьи проплыть по теченью реки
Я могла бы с другими наперегонки,
Но с высокого берега мама грозится.
…А теперь этот мир безвозвратно далек.
И холодный поток по теченью увлек,
И приходится в море житейском качаться.
Но волна захлестнет или омут завьет –
И невидимо с берега мама зовет,
И кричит, и не может никак докричаться…
* * *
Лживой глупости гаданий,
Суеверий и примет
В дни сияющих свиданий
В чистом сердце места нет.
Но поверю в опыт жалкий
Гороскопа и гадалки, -
Всех, кто сладко мне солжет, -
В день, когда болит и жжет.
* * *
Нагрузила пальцы кольцами,
Накрутила косы кольцами,
Позвенела колокольцами
Плача, смеха ли?!
Погремела шкафа дверкою,
Налила настойку терпкую,
Взяв стакан, мигнула зеркалу:
- Ну, поехали!..
* * *
Ах, эти таинственные зеркала,
Конечно, вы многое помните!
Нигде я красивой такой не была,
Как в зеркале в маминой комнате.
И вовсе не важно, что было потом,
Как жизнь берегла и коверкала.
Однажды сестра в деревенский мой дом
Повесила мамино зеркало.
На что-то надеясь, о чём-то скорбя,
Слезами его оросила я.
Но в нём не узнала иную себя –
Усталую и некрасивую.
Не только ведь молодость красила нас,
Наполненных вешними силами.
Лишь в зеркале маминых любящих глаз
Мы были такими красивыми!
* * *
Разум девственный воспален,
Мысли – словно ионы в атоме.
Ну а дух давно закален –
Камень, выращенный утратами.
Жизнь, однако же, хороша,
В наших «подвигах» невиновная.
Оплетает камень душа,
Выпуская побеги новые.
* * *
Нашью тигровых шкур, свалю в лесу деревья,
Пещеру от врагов камнями обложу.
Мой витязь и храбрец, тебя я обогрею,
Устанешь – отдохни, а я посторожу.
Я мамонта убью, разделаю на части,
И, раны зализав, нажарю мяса я.
Но только ты скажи, что жить со мною – счастье,
Что птичка я и рыбка, и ягодка твоя.
Я знаю, что у нас все будет в лучшем виде.
И глупенькой, и слабой, мне без тебя не жить!
Ведь ты защитник мой! А кто тебя обидит –
Я в клочья разорву, ты только укажи.
* * *
Красна одёжка, да плохо сшита.
Гостила радость, да позабыта.
Звала удача, да путь неблизкий.
Высоко небо, да тучи низки.
Родит землица – да сушит солнце.
Сверкнёт жар-птица, да унесётся.
Витаю между слезой и песней.
Уснёт надежда – и вновь воскреснет…
* * *
Как белье на коромысле –
Осторожно, не спеша –
Мать несет о детях мысли,
И волнуется душа:
Может, дочка замуж выйдет
Да приедет навестить.
А она припасы вынет –
Уж найдет, чем угостить!
Муж у дочки будет видный,
Работящий, с головой.
И невидный – не обидно,
Ведь одной – хоть волком вой!
Заготовит дров на топку
До работы жадный зять,
За обедом выпьет стопку,
А непьющих – где их взять?!
…К непогоде кости ноют,
Крыша старая течет…
И опять письмо чудное:
«Верстка», «сессия», «зачет»…
* * *
У печи гремят ухваты:
Мама стряпает обед.
Наготовит саламаты –
Ничего вкуснее нет!
Саламата, саламата,
Чугунок на два обхвата,
Деревянные ряды
Ложек, жадных до еды.
За столом так много места,
И распаренного теста
Хватит всем, кто стар и юн.
Двадцать рук – один чугун!
Мать притворно-грубовато
Стукнет ложкой: «Налетай!»
Ешься слаще, саламата,
Да во рту как сахар тай!
Поедим – и на полати
После сытного стола…
Я росла на саламате,
Весела да удала.
Кто теперь такое ест?
Но прошу, из дальних мест
Возвратясь в родную хату:
- Мама, сделай саламату!
* * *
МАТЕРИ
Ну в чем твоя тяжелая вина,
За что так жестко жизнь тебя карала?
Суровая, нещадная война
Украла твою молодость, украла!
А после – разве было до красот? –
Стирай, вари и дом держи в порядке,
Дрова руби, выпалывай осот,
Окучивай картофельные грядки.
Молись, чтоб детям Бог удачи дал,
Чтобы мечтали, радовались, пели…
А слезы – их никто и не видал, -
Они в твоих глазах перекипели.
Года бегут как волны по реке,
А сердце как платок по ветру бьется.
Любой непосвященный по руке
Судьбу твою прочтет – не ошибется.
Осенний цвет зима сожгла дотла,
Лишь в печке угли меркнущие тлеют…
Я знаю, как душа твоя светла.
Но волосы – зачем они светлеют?
* * *
Те, кто пряли рождения нашего нить, -
Как во многом и важном от них мы зависим!
Что забыть-схоронить, что сберечь-сохранить,
Чтоб подняться к далеким и радостным высям?
Испытанья на головы наши падут,
Будет сладко, тревожно, прекрасно и жутко.
Наши судьбы от нас никуда не уйдут, -
Между прошлым и будущим нет промежутка.
Время строить, бороться, дерзать и любить,
Наслаждаться покоем и ясной погодой…
Я живу. А меня ведь могло и не быть –
Моя мама рожденья двадцать первого года.
* * *
Ведя неторопко простую беседу,
Семья за столом собиралась к обеду.
Суров, седовлас и опрятно одет,
Сидит под иконами старенький дед.
А рядышком с ним – хлопотливая бабка,
Она всё хворает, ей знобко и зябко.
По правую руку, заботы итожа,
Сидит работящий их сын и надёжа.
Легка и проворна, тиха и нежна,
По левую руку – сыновья жена.
Доносятся с улицы звонкие звуки –
Вбегают, смеясь, опоздавшие внуки.
Извечная прелесть картины такой –
И людно, и ладно, и мир, и покой.
Но вот, распростившись с невечной наградой,
Семья собралась за могильной оградой.
Суров, седовлас и нарядно одет,
Лежит, упокоившись, старенький дед.
А рядышком с ним – хлопотливая бабка.
Она всё хворала, жилось ей несладко.
По правую руку, судьбу подытожа,
Лежит постаревший их сын и надёжа.
По левую руку – сыновья жена,
Была она очень добра и нежна.
В тиши раздаются негромкие звуки –
Приходят на кладбище взрослые внуки.
Поплачут, помянут, поправят кресты,
И будут слова их печально просты.
Простятся почтительно, по одному,
И вновь за столом соберутся в дому,
Где ждут-дожидаются малые дети…
Хочу, чтобы так продолжалось на свете.
* * *
Бабке Наталке не снятся счастливые сны,
Бабка Наталка доныне ждёт мужа с войны.
Смейтесь, кому эту женщину вовсе не жалко –
Светлую, добрую, верную бабку Наталку.
Вслух не стенает и слёз горемычных не льёт.
Годы проходят, полвека и долее – ждёт!
Время – работе, заботе, печалям и мукам,
Дому, соседям, но только не детям и внукам.
Вроде на людях, а ночью – одна и одна!
Просит поставить кровать у седого окна:
- Старая стала, не слышу, а может случиться –
Муж мой законный, хозяин, в окно постучится.
Вот он, усталый, измученный, к дому придёт,
Стукнет, а я не услышу, и скажет:
- Не ждёт!
Бабка Наталка, зачем ты так чутко ночуешь,
Если вернётся, так ты его сердцем почуешь!
Бабка Наталка, ты жди и надейся, и верь:
Ветер ворвётся в твою незакрытую дверь,
Явится муж твой – души одинокой опора,
Встретишь, обнимешь, прижмёшься –
теперь уже скоро…
* * *
Нет, мы не пострадали от войны,
Мы родились спустя десятилетье.
Но, без отцов воспитанные дети,
Не ищем в том родительской вины.
А вот солдат, упавший вниз лицом,
Он мог в живых, наверное, остаться,
И матери моей в мужья достаться,
И был бы замечательным отцом.
Душевным ранам долго не зажить,
Болеть неутихающею болью.
Неразделенной, горькою любовью
Вскормленные, мы долго будем жить.
Мы, может быть, и были рождены
Из ненависти к тем, кто убивает.
Война — такое зло, что не бывает
Совсем не пострадавших от войны.
* * *
Ища спасенья от беды,
Ты снова в детство загляни-ка.
Какие там шумят сады,
Какая зреет земляника!
В лугах у ласковой реки
Стеной разросся дождик спелый.
Траву скосили мужики,
А дождик – так и не успели.
Но, чтобы высохли луга,
Трудолюбивый и летучий,
Он сам тогда сметал в стога
Свои разорванные тучи.
И свежесть каждого цветка
Все объяснит легко и просто.
Какое счастье, что пока
Еще мы небольшого роста!
И, босоногие, в поля
Вбегаем, словно по ступеням.
И красоту свою земля
Нам открывает постепенно.
Душа наполнится сама
Избытком радостного вдоха.
… До земляники – три холма
Да поле сладкого гороха.
* * *
Холмы за деревней неброски –
Колючки, бессмертник седой,
Да краешком поля – березки,
Да возле – полынь с лебедой.
С древнейших времен и поныне
Считается – Боже ты мой! –
Что ветка сушеной полыни
Укажет дорогу домой.
Родительский дом и ограда,
И пение звезд по ночам…
Я знаю, родня будет рада
Моим сладкозвучным речам.
И мне никого нет дороже.
Но все же – зачем сквозь года,
И душу, и память тревожа,
Я рвусь одиноко туда,
Где осень, наследница лета,
Готовит природу к зиме,
И родины сирой примета –
Бессмертник растет на холме?!
* * *
Седые, ветхие ограды
Пасли домов неровный ряд…
О, как мальчишки были рады
Забраться в яблоневый сад!
Хозяйский окрик, свист и бегство,
Царапин свежесть – не беда!
Те приключения из детства
Не позабыть им никогда.
Лишь озорство, они не воры…
Но вот теперь в деревне тишь.
Детишек нет, зато заборы
Перед домами – выше крыш!
* * *
Наконец-то будет праздник,
Мира всем, кто в дом вошёл!
Только это праздник разве?
Это просто сытный стол.
Вдоволь съесть или напиться –
Вот и весь застольный быт.
Разучились веселиться,
Кто-то спит, а кто-то бит.
Лейся песня, петь охота,
Сбей агрессию и сон!
- Ах, вам песню? – трезвый кто-то
От души врубил шансон.
* * *
Светла просторная изба –
Моё надёжное наследье,
И троеперстие у лба,
И колыбель, и кров последний.
Пусть этот кров не будет пуст,
Пусть поколенья собирает,
Как тот библейский древний куст,
Что и горит – и не сгорает.
Хоть не отмолена вина,
Что жизнь порой носила мимо,
Избы святая купина
В душе моей – неопалима!
* * *
Как раскачали мы планету!
Теперь нигде спасенья нету.
Весь мир клубится и кипит –
Нарушен сон, порушен быт.
Иной подводит дебет-кредит,
Бездомный в нашу глушь не едет,
Хоть провоцирует экран
На перемену мест и стран.
Нос воротя от нашей пищи,
Голодный лучшей пищи ищет.
Проходит день, проходит ночь…
Кому помочь и как помочь?
Мы не пойдём протестным строем.
Мы на земле растим и строим,
И в помощь нам простой девиз:
Живи, люби, молись, трудись!
* * *
Хороша уютная избушка,
Только жизнь в деревне не игрушка:
Целый день копай, сажай, топи…
Муза прилетит, пошепчет в ушко,
Но с досадой выдохнет подушка:
- Спи-и!
И к утру забуду день вчерашний
И взлечу над нашей тёмной пашней,
Ах, как я свободно полечу!
Там, внизу, соседи землю пашут
И призывно мне руками машут.
Прокричу в ответ им:
- Не хочу-у!
А наутро встану с петухами,
Волосы, набитые стихами,
Расчешу, и вновь на огород,
С чистыми душою и руками,
Где земля доверчиво веками
Ждёт!
* * *
Кроме белой рубахи и синих небес,
Кроме низко летящей взволнованной стаи,
Мне не нужно богатств, мне не нужно чудес,
Я и так, что ни день, новый клад обретаю.
Снова дарит Отчизна то дождь, то ветра,
То багряный закат, то забытые мощи,
И на голову мне, стоит выйти с утра,
Сыплет золото ветер в берёзовой роще.
А колонны стволов, как во храме, стоят,
В небесах проступают священные лики.
О, родная земля, твой неброский наряд
Полон духом святым, полон духом великим.
Кто еще, как и я, баснословно богат
Этим воздухом, ветром и горькой калиной
Я не знаю – и в сердце несу этот клад,
И с родною землею не рву пуповину.
* * *
Наш язык не утонет в иных языках,
Как ручьи принимая чужие наречья
На бессмертном пути, что Всевышним намечен,
Пополняясь и ширясь в грядущих веках.
Сохранит эту речь разноликий народ
Бережливо и гордо, достойно и долго.
Как в природе: Ока прибивается к Волге,
Дополняя её, а не наоборот!
* * *
Долгое счастье – нелепица и небылица.
Вот невозможное сбудется – жаждущий счастлив вполне.
Не о чем больше жалеть и страдать, и молиться.
Незачем больше заботиться о наступающем дне.
Время пройдёт, это чувство недолго продлится,
Станет обычным, привычным, устойчивым: жизнь хороша!
Старое счастье на полочке тёмной пылится,
Новым, несбывшимся чувством тревожно томится душа.
Снова потянутся бунты и скорбные речи –
Этот известный, извечный, подвластный мечтам сериал.
Будешь ли счастлив когда-нибудь? – Эх, человече! –
Если ты даже когда-то по глупости рай потерял!
* * *
Обласкала с лихвою столица,
А покоя по-прежнему нет.
Здесь «друзей» незнакомые лица
Предлагает в сетях интернет.
Но, друзья, вы меня не корите,
Что однажды уеду туда,
Где ещё говорят на санскрите,
Где в колодцах – живая вода.
Там земля оделяет любовью
И народ на радушье богат,
Там такие пласты родословья
Под кладбищенским дёрном лежат!
Помня горечь и счастье былого,
Светит вечности юной звезда.
Это родина – сладкое слово –
Навсегда!
* * *
Что яркого на родине моей?
Ни северных сияний, ни камней –
Блистающих под солнцем самоцветов,
Лишь череда закатов и рассветов,
Да слабое мерцание огней,
Да ласка зеленеющих полей.
Бледны туманы, хмур внезапный дождь,
И даже если день с утра погож,
То нет в природе нашей алых пятен.
И цвет осенний тоже деликатен.
Скромна картина красками, ну что ж,
Но серою её не назовёшь!
Цветёт неброско что-нибудь окрест,
Сменяясь, как приметы здешних мест.
Ведь буйство красок скоро утомляет,
А наш пейзаж – он сердце умиляет.
Пожалуй, это – лучшее, что есть,
Он, как и хлеб, не может надоесть!
* * *
В деревне вырубили свет,
А в ней и так темно.
И связи нет, и влаги нет –
Колодцев нет давно.
Но печь и свечка под рукой,
А ночью надо спать.
И не обделены рекой,
И нечего роптать.
Не тяжко этот груз нести,
Так жили много лет.
Но Ты, о Господи, прости,
Не отключай нам Свет!
* * *
Деревня моя среди холмов – зыбка узорная.
Сияющий небосвод – потолок.
Качается зыбка,
Привязанная к золотому кольцу в потолке
Солнечными лучами.
Господь, сохрани бытие ее иллюзорное.
Раскачивание деревне не впрок, -
Ей зябко и зыбко.
Боюсь ее вверить чужой, равнодушной руке –
Как бы не укачали!
* * *
Его прожорливому брюху
Она последнюю краюху
И самый лакомый кусок
Всегда безропотно давала,
Сама же часто голодала,
Стянув потуже поясок.
Ни сна, ни отдыха не видя,
Но забывая об обиде,
Дралась и билась за него.
Бывало, что и возмущалась,
Ей возмущенье не прощалось.
Ну что ж, и это не ново.
Она была не выездная,
Но, многих умных слов не зная,
Могла сказать не в бровь, а в глаз.
А ей в ответ – лишь униженье,
На простодушное служенье –
Ей воздалось хотя бы раз?
Моя деревня! Ты без силы,
Ты стала старой, некрасивой,
И впору впрямь надеть суму.
Хочу, чтоб ты не уходила!
Ну чем же так не угодила
Ты государству своему?!
* * *
Была весна! Мы в новый мир сбегали,
Легко поддавшись чувству молодому.
Мы жадно жили, зная жизнь едва ли,
Вдали от дома.
И вот теперь былое только снится,
И притянуло к берегу родному.
Журавль в небе, а в руках синица –
Уже мы дома.
Наутро в двери радость постучится,
Сейчас и это чувство нам знакомо.
Ведь ничего плохого не случится,
Когда мы дома.
Придёт пора иному миру сдаться,
Уйти, куда мы Господом ведомы.
Друзья, придите с нами повидаться,
Пока мы дома.
Нина Стручкова https://stihi.ru/avtor/pogorelovka
_________________________________________
179868
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 09.05.2025, 17:43 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 14.05.2025, 10:44 | Сообщение # 2918 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| ДЕРЕВО ВОЗЛЕ ДОМА
Верите ли, когда какой-нибудь хлопец на обыкновенный гвоздь наматывает проволоку и к ней подключает электричество, то я не удивляюсь тому, что гвоздь становится намагниченным, потому что электричество меня мало интересует. Но когда совсем неожиданное происходит не с гвоздем, например, а с человеком, то... Короче говоря, с некоторых пор я даже боюсь закрыть глаза, а когда засыпаю, то держусь за спинку кровати — такою неизвестною пропастью кажется мне мое сознание; вот, думаю, провалюсь я сейчас в эту пропасть и больше уже ничего не увижу и буду только падать мимо выступающих из темноты тех предметов, которых на земле нет, но которые иногда снятся, а значит, откуда-то берутся, значит, существуют — нет, ты не скажи! — видел же я, когда мне лет шесть было, как летела ночью над деревнею огромная птица, видел же я, как задевала она за крыши своими широкими крыльями, видел же я, как садилась она у нас под окном, как глядел на меня темный, глубоко спрятанный огонь ее глаза? Теперь-то я знаю, что такой птицы не может быть на белом свете, а все же в памяти моей она осталась, и это уже все равно, если б она действительно была. Однако начну свой случай сначала, и ты поймешь, о чем я хочу сказать, а может быть, чего посоветуешь, — не без рассудка живем ведь, хотя и думаем, что это не рассудок при нас, а только любопытство и интерес ко всему неизвестному.
Был, значит, я обыкновенным всегда человеком. Как любой человек, не замечал я, как засыпал, не замечал, как просыпался, а то, бывает, пью молоко из кружки, потом опомнюсь — кружка уже пустая и на столе стоит, а я, оказывается, уже давно сигарету курю. Так вот жил я и горя никогда не знал; утром встану, бывало, потом головой тряхну, а уже и одетый, оказывается, уже на пороге стою. И, веришь ли, когда я для самого себя незаметно на порог выходил, вдруг словно бы включался в какое-то мгновение у всего белого света звук, и начинал я слушать, как поют накормившие под стрехою сарая своих пташенят ласточки, как гудят шмели, пчелы, мухи, как шелестят облака и солома, которую ветер поднимает с земли и тоже гонит неизвестно куда. А глаза аж слезятся, как от электросварки — такою ослепительною бывает природа! До цветка подсолнуха рукою боишься дотронуться, не цветет, а огнем он пылает — ну, ты ж знаешь, каким бывает конец июня у нас в Самарке. Тем более, возле порога у меня росло дерево с кроною шире неба и с листвою, которая всегда сверкала на солнце, как только что обмытая дождем, которая, как речная вода, будто текла и текла куда-то каждое утро, каждый полдень и, невидимо, каждую ночь.
Дочки мои, это всем известно, поразлетались — одна замуж вышла в Железногорске, другая техникум закончила. Ну, а жене к тому времени врачи лечение прописали, легла она в областную больницу руки свои лечить. Так что жил я в ту пору один, как не знаю кто, я жил двадцать дней, но лечение, слава богу, помогло, ходит жена опять на свою доярню.
И вот именно в ее отсутствие появилась во мне вдруг оторопь среди ночи и захотелось скорее узнать, что за причины у этого моего беспокойства. Веришь ли, голову от подушки отрываю, а сон меня борет и борет. А потом вскочил я — батюшки, что творится! — пламя слепое, как взбесившаяся собака, так и бросается, так и бросается на мой двор! Еле отбился я от него. И, уже на рассвете, сижу, пью чай, отдыхаю и гадаю, что было сном, бывшая моя жизнь, пламя, или же снится мне, что такой вот я и уставший, и оглоушенный пью чай? Однако в окно на сгоревшую крышу сарая своего соседа не смотрю специально: нравилось мне всегда таким вот образом среди сознания своего блуждать! Потом, само собой, постучался ко мне сосед. Вышел я к нему, он пошарил по карманам своего измазюканного сажею пиджака, попросил закурить. Закурили. Долго и молча оглядывались на пожарище. А когда кинули окурки на землю и старательно затоптали их каблуками, сосед мой вздохнул и сознался:
— Не за куревом я к тебе пришел. Три бревна у меня на примете есть, а на венец сгоревший надо еще одно. Твоя верба сгодилась бы. Как-никак, красная верба вместе с дубом стоит!
Понял я, что далеко ходить мой сосед не хочет, поэтому и ко мне заявился. Но вида не подаю, говорю:
— Я бы дал, только вербе такой долгая сушка требуется. Советую брать-таки не с корня!
— Да откуда я знаю, когда еще строить приступлю! Пока еще и для крыши материалов найду, новый венец, как бублик, звенеть будет! — сказал сосед.
Делать нечего.
— Ладно, — говорю, с фермы приду, и спилим. А сейчас на работу мне пора идти.
Пришел я на ферму. Мерин мой признал во мне плохое настроение, я накладываю клевер в телегу, а он таскает ее за собой без понукания. Животное, веришь ли, чувствует, когда утруждать себя вниманием к нему человеку не хочется — и вот так сам мой мерин, значит, трогает с места, а когда надо, останавливается. А я про вербу все мыслю: как это она стояла и как это ей неожиданно срок вышел, — мыслю, чтобы привыкнуть к ситуации и жить дальше. Заложил я клевер в кормушки; там, где понарассыпал, подгреб, потом оськи в телеге смазал, стою, руки соломою вытираю, а домой мне идти не хочется.
Ладно. Иду, жену ругаю, что именно конец июня она себе выбрала для лечения, а сам смотрю издали на свою усадьбу, и кажется мне, что то не дерево поднимается над крышею моего дома, а огромное облако, и что вот сейчас оно вдруг совсем высоко поднимется и полетит, и будет над всею Самаркою плавать туда-сюда, и приду я домой, скажу соседу: так, мол, и так, не я виноватый, оно само. Даже удивительно мне стало, когда увидел я соседа, как ни в чем не бывало поджидающего меня с топором и с пилою. Веришь ли, доводилось мне колоть кабанов, перерезать ягнятам глотки, и всегда эти животные свою участь чувствовали, а верба моя, когда я увидел соседа, а потом на нее глянул, падать не собиралась, как река, она сверкала на солнце, и мускулы ее ветвей были напряжены каким-то единым помыслом, не суетились ветви, как у недоростка, не мотались из стороны в сторону, как попало, а так вот только покачивались. В общем, только-только верба моя в настоящую силу вошла. Ну, думаю, ладно. Стали мы пилить. Кора, конечно, слабкая, сразу из-под зубьев, как песок, потекла, и сосед вроде бы даже пошутил:
— У этой вербы, видимо, мяса нет. Пилим, пилим, а одна кора сыплется!
Но скоро задели мы и за мясо. Туда-сюда скребемся пилою, скребемся потихоньку, и скоро привык я к такому своему существованию — ты ж знаешь, так всегда бывает при какой-нибудь долгой работе: кажется, что другой жизни уже не помнишь, кажется, что родился вот так вот с пилою в руках, а что будешь делать, когда работа эта закончится, уже не можешь придумать. Ну и шло бы так это дело, но тут захрустело вдруг что-то под зубьями пилы, а я за свой зуб схватился, и, веришь ли, такая боль меня стала мучить, будто кто-то каленым железом меня проткнул, а потом еще и поковырял у меня в мозгу. Сосед засуетился.
— Ты чего? — спрашивает.
— Дупло тут у меня! — закричал я ему что есть мочи, чтобы он ко мне не приставал уже никогда.
— Какое дупло?
— Да в зубе! В зубе!
— А ты одеколоном прижги! — посоветовал сосед.
Побежал я за одеколоном.
В общем, спилили вербу без меня, а я набирал одеколона полный рот и то лежал на диване, то вскакивал. Готов я был бегать на четвереньках, чтобы ногами взбрыкивать, чтобы есть землю, скубсти траву, чтобы измучить себя до предела и с тем поскорее уснуть.
К вечеру твердым все стало и в груди, и в голове – как внутри камня; и тут я рухнул, и спал крепко до утра, а утром проснулся уже без боли в зубе, только зудели сожженные одеколоном десны. И, веришь ли, стало мне очень обидно, то есть никак не мог я понять: зачем же вчера в меня боль с такою силою вгрызалась, зачем она в меня вчера врастала, если сегодня ее уже нет? И будто пришла мне мысль, мол, как нехорошо человеку среди разных болей, среди всего, что само, не спросившись, приходит, не спросившись, уходит — ну, в самом деле, это же не жизнь, а истинно проходной двор! В собственной, значит, жизни чувствуешь себя, как на вокзале!
И появилось во мне такое равнодушие, что лучше б я не догадывался ни о чем, лучше бы жил наугад — пусть, мол, играет судьба, как хочет!
Прихожу на ферму. Все ко мне с чем-то обращаются, а я отвечаю совсем пустыми словами.
Зоотехник спрашивает:
— Чего ты, Михаил Иванович, такой понурый сегодня?
— А зуб болел, — отвечаю.
— Зуб болел? — переспрашивает зоотехник, а я теперь уже как бы по его подсказке вспоминаю про зуб, и, веришь ли, думаю, зачем люди спрашивают, и зачем я отвечаю, если можно прожить молчком. Спасибо, мерин мой, меринок мой, сам трогает с места, сам, где надо, останавливается, и словно сам он с себя и сбрую снимал — убей меня, не помню, чтобы я его распрягал!
Стою, смотрю — корм завезен, меринок отпряжен, в загоне что-то жует. Думаю, домой идти надо.
А зоотехник кричит:
— Съезди в больницу да вырви свой зуб! А то ночью опять умучаешься!
Я говорю, мол, съезжу, а сам чувствую, что сегодня буду уже не в состоянии лишиться еще и зуба. Даже пощупал я его пальцами — думаю, пусть стоит!
С тех пор прежней жизни мне уже не было. Днем сознание оставалось затемненным, а ночью, наоборот, я не спал и жил с тревогою, как с песком во рту. И стали силы меня покидать. В зеркало на себя гляжу — глаза чужие. Ладно, думаю, коли отнялось здоровье, то ничего уж не поделаешь. А на ферме меринок мой поворачивает ко мне свою морду, и она у него такая продолговатая, аж не могу от жалости, думаю: вот животное, какое оно есть все-таки. Зоотехник, тот заладил, мол, сходи к фельдшеру, не отвязаться от него!
— Да ничего у меня уже не болит! — говорю я ему.
А он аж доволен, что ничего не болит, и давай свое предполагать:
— Может быть, по бабе своей душою упарился?
— Отвяжись, — говорю, — отвечать на твое пустое у меня нет охоты!
И вот однажды я пришел домой и почувствовал такую усталость и равнодушие, что лег в постель, даже не поужинав. Без жены, правда, я и так не особенно ужинал, сам знаешь, как без жены — в тарелки наливать неохота, кое-как из кастрюли полакаешь, кусок хлеба отломишь, пожуешь, и если чувствуешь, что съел бы еще чего, то налегаешь уже на молоко. Однако такого никогда не было, чтобы, ничего не поклавши в рот, ложился я.
На пустой желудок лежу, удивляюсь, что раньше ни за что бы не лег так; суета была у меня раньше или привычка. Ночь пластом пролежал — даже кровати под собой не чувствовал, даже не замечал, как дышал. Утром, если б не рассвело, не поднялся бы я ни за что, так и остался бы я на кровати, пока б не засох. Но поднялся-таки, сам того не заметив, на порог вышел и аж покачнулся — встрепенулось сердце, будто в последний раз!
Охнул я и к двери прислонился, за сердце держусь, а сам чувствую, будто оно колышется не само по себе, а чему-то вослед. И, веришь ли, голову я вот так по привычке задираю кверху, — да хорошо, что при этом еще и зажмурился, а то бы, может, вербу увидел собственными глазами. Веришь ли, вдруг почудилась мне верба! А сам знаешь, спилить, а потом увидеть, что она, как ни в чем не бывало, стоит — это ж с ума можно сойти! И стал я себя успокаивать, нарочно, чтобы только успокоиться, горевать начал.
— Спилили вербу, — сам себе говорю я жалобно, а верба надо мною колышется и колышется, и будто я уже не больной, только бы взглянуть, да и все. Ну, нет, думаю, не соблазнишь, не такой я безрассудный человек. А дерево, веришь ли, аж гудит, не терпится ему. И аж мускул той нижней ветки его, к которой я, будучи еще хлопцем, качели привязывал, ну, которая вот так растет загогулиной — этой вот ветки мускул аж скрипнул от напряжения. И вслед за скрипом этим, как полдневый луч, отвесно упал на землю густой и нескончаемый шум листвы.
Что бы ты сделал на моем месте, я тебя спрашиваю, не знаешь? А я, слава богу, не мало на белом свете прожил и всякого повидал. Поэтому я пригнул голову да и пошел, не оглядываясь, на работу. А там вилы у меня сами летали в руках — то ли оттого, что больше деваться мне было некуда, то ли от злости, то ли действительно появилась во мне сила. Зоотехник пристал, говорит:
— Ты как у знахарки побывал!
— Да отстань ты! — говорю я ему, а сам боюсь глаза на него поднять: чувствую ведь, что-то во мне не по-людски.
И домой идти не хочется. Провел остаток дня возле магазина; как увижу, что мужики собираются кружком, скорее к ним, будто бы в разговоре участвовать, чем-то интересоваться. Но скоро на магазин был замок навешен, все, как ни в чем не бывало, домой расходятся, а я вслед людям гляжу и, веришь ли, так завидую, что жизнь у них самая обыкновенная!
— Сейчас приду и спать лягу, — твердо говорю себе, но глаз от дороги не поднимаю, смотрю на сумерки под лопухами, смотрю на разные растения, которые из канав растут, а на усадьбу свою взглянуть боюсь.
На пороге остановился. И сначала сердце мое засуетилось, затем и верба зашумела, зашелестела. В общем, не понятно, что первое появилось — шум вот здесь у меня или шум вербы. А терпения уже нет!
— Ну и пусть стоит, — согласился я. — Пусть стоит, коли никому она не мешает.
Веришь ли, этой ночью впервые во сне я увидел свою вербу. Ветви ее стали гуще, а на верхушке — сидела птица с крупными, как тетрадные листы, перьями. И хвост этой птицы аж до земли свисал.
— Так оно и есть, — вымолвил будто я, глядя то на дерево, то на птицу. — Так оно и есть, все на месте.
Утром, вспомнив видение, только вздохнул: так, мол, оно и есть! Значит, судьба мне вербу свою все-таки разглядеть. Как в ведро вода льется, так свободно текут в нас и наши видения, а душа пухнет, но принимает.
Хороший в это утро начинался денечек. И солнце — воскресное, повеселевшее. По шляху, будто с горки, катился и катился автобус.
И в автобусе, конечно, жена моя возвращается. Ну, я ж и дожидаюсь ее, стою под вербою, думаю, была не была! Но и вспоминаю наспех, что верба эта да птица все-таки примерещились, хотя ветер, как назло, бумажку по двору гоняет: точь-в-точь она перо той птицы! Тут и автобус гудит уже по деревне; не успел я бумажку как следует разглядеть, а автобус останавливается возле моего двора — ну, думаю уже сгоряча, пусть и не померещилась мне верба, пусть будет все так, как оно, может быть, действительно и на самом деле есть! И, веришь ли, стало на душе у меня не то что спокойно, но еще и будто красиво, словно жена её, как избу к Пасхе, всю выбелила и принарядила. Ну, как тебе объяснить... в общем, даже приосанился. Вернее, понравилось мне, что я вот так стою, покуриваю, а надо мною дерево возвышается и на нем птица удивительная сидит, и каждое перо у птицы — с ладонь шириною. И захотелось мне прислониться к вербе плечом — и, веришь ли, веришь ли, упал я на пенек, чуть не плачу, думаю, пусть хоть сквозь мой живот, а прорастет оно сейчас, пусть, думаю, любая мука мне будет, только бы не напрасным было вот это мое мечтание! Веришь ли, до того жалко мне стало своего мечтания! Да лучше бы я его и не знал никогда, правду тебе говорю, счастливейший тот человек, к которому счастье приходит только тогда, когда он, например, в иголку нитку вдевает, когда он щурит то левое, то правое око и клянет весь белый свет за то, что в иголке бывает столь узеньким отверстие в ушке! Ведь потом получится у него это дело, и радуется он, радуется так, что не до счастья ему. Скажи такому: счастье ж к тебе пришло, кинь иголку об землю да оглянись! А он тебе свое ответит, мол, ты не знаешь, сколько я с этой заразой-иголкой мучился! И шьет, шьет, а потом новую нитку в иголку заправляет уже и как бы даже с азартом.
Ну, жена моя не знает, чему удивляться, то ли отсутствию дерева возле дома, то ли обугленному верху сарая соседского, то ли моему такому невольному, у неё на глазах, падению. Но женщины так устроены, что тут же с пиджака моего она оставшиеся от вербы опилки смахнула, говорит:
— В избу пойдем!
Но какая тут встреча? Я колбасою, которую она привезла, угощаюсь, а сам ей рассказываю:
— Дерево отдал я. Пришел сосед, попросил, и я отдал, так что не удивляйся.
И, веришь, стала она пить чай с дороги, и я ж вижу, что в окно оглянуться она уже и побаивается. Вот так угнулась к чашке своей, двумя руками за чашку свою ухватилась, а на окно уже и не оглядывается.
Николай Дорошенко, 1986 год
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 05:54 | Сообщение # 2919 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Когда пройдут плохие времена,
Отступят глады, моры, сгинут войны,
Мы сядем на закате у окна,
А за окном, наверное, весна,
А за весной – огромная страна,
И всё спокойно.
И этот двор, где бегали, дрались,
Лепили куличи и целовались,
Увидит то, чего мы дождались,
наш суперприз, простую нашу жизнь.
Её не спрятать в краткий эпикриз,
Где «…текел, фарес».
Пройдёт сто лет, ускорив жизни бег.
Простой мальчишка, Сашка или Мишка,
Смешной почти что взрослый человек,
Прочтёт про наш с тобой бунташный век,
В бестселлере поэта имярек,
Отложит книжку,
И убежит опять гонять в футбол,
Забыв в момент сюжеты старых басен,
В наш старый дворик, сжатый между школ.
Сквозь тополей иссохших частокол
Глядит наш мир, юн, облачен и гол.
И он прекрасен.
***
Я хочу за руку идти с отцом
Покупать газеты в «Союзпечати»
И не думать, что было, что будет потом.
Он большой и сильный – и этого хватит
Для победы над кучей обид и зол.
Дома ждёт нас мама моя с сестрою.
А потом – уроки и баскетбол.
Или сопки – ягодною порою.
На вокзалах – гудящие поезда,
Гром колес, буферов над дымкАми бьётся.
Уезжать как будто бы навсегда
Интереснее, если опять вернёшься.
Очень яркое солнце, легко дышать
Оттого, что мир мой так юн и прост...
Ты куда исчезла, Союзпечать?
У отца – лишь чуть неседых волос.
И страна огромна – но мир так мал,
Он порою сжимает так больно сердце.
Я веду свою доченьку на вокзал.
Мы заходим в купе, закрываем дверцу.
У неё своя собственная печать
И рука отца.
...И вагон несётся,
И на нижней полке так сладко спать.
Она знает, что всюду ещё вернётся.
***
Где-то в закат устремляются гунны,
А на пригорке пасутся коровы.
Мама желает, чтоб сын вырос умным,
Бабушка – чтоб непременно здоровым,
Сильным, как папа. А где-то – пиастры,
Где-то колумбы находят америк...
Мальчику нравится всё, что опасно,
Мальчика манит сверкающий берег.
Где приключенья в морях и на суше?
Мальчик к вам рвётся сквозь грозы и вьюги
С каждым автобусом, к школе везущим,
Как самолётом к полярному кругу.
Мальчик сражается, рубится рьяно
То во дворе, то во снах, то так просто.
Рядом – смутьяны и дартаньяны,
Жизни такая красивая проза.
С каждой минутой сгущается воздух
Предощущением счастья и грусти.
Над поездами загадочны звёзды.
Мимо секунды и страны несутся.
...В предновогоднем вагоне подружка
Взглянет с улыбкой – и в сердце прохладно.
В дальнем купе звякнет ложечкой Пушкин
И улыбнётся в окно деликатно.
***
Я большой человек – года три с лишним, знамо.
Надо мной облака. Путь к реке очень крут.
Молодые красивые папа и мама
в бесконечности лета за ручки ведут.
И трава высока, и бежать можно – столько! –
и в ромашковом поле – ни страха, ни лжи.
Помнишь, так же вот вечером тёплым и долгим
мы с тобою гуляли вдоль речки.
Скажи
в чём же тут волшебство, в чём тут странная штука?
Почему повторяется чудо опять?
Почему моя дочь, твёрдо взявши за руку,
в бесконечное лето всё тянет гулять.
И, ложась отдохнуть телом лёгким и гибким
и прильнув тёплой щёчкой к большому плечу,
шепчет сладко сквозь сонную полуулыбку:
– Папа, я бесконечного лета хочу!
Впереди еще слякоть, дожди и метели,
впереди ещё холод – в душе и вокруг,
впереди столько будет – а что ж вы хотели?
Столько будет внепланово, сразу и вдруг.
И пройдут когда годы – десяток ли, сто ли,
и настанет пора уже – мне, как и всем –
бесконечное лето в ромашковом поле
меня встретит опять – и уже насовсем.
***
Когда смывает с нас вода,
Всю грязь последних дней –
Вода уходит в никуда,
Уносит пену, а тогда
Уходит боль за ней,
И я стою перед тобой
Как на ладони весь:
Смотри, вот я – кривой, рябой.
Прими меня самим собой,
Прими таким, как есть.
Я слишком слаб, я часто слеп,
Я спутал все пути,
Но тут мои вино и хлеб,
И гонор мой смешон, нелеп,
Прости меня, прости.
Мне даже нечего сказать,
Мне не о чем молчать.
Теченье жизни далеко.
И ты глядишь, и мне легко,
Опять легко, опять.
И я пишу, в ночи корпя.
Мне больше не забыть
Как свечи светят, не слепя,
И нет других опричь тебя.
Нет и не может быть.
***
Мы не любили военные фильмы.
Мы забывали ушедших героев.
Жизнь с каждым днём становилась цивильней,
Мир с каждым днём становился спокойней.
Мир изменился, и мы изменили
Быт и семью. Только знаешь, что страшно?
Если забыто, как деды дружили,
То остальное не очень и важно.
Сердце колотится птицей-колибри,
Лишь вечерами в предчувствии ноет:
Если забыто, как деды погибли,
То ни к чему уже всё остальное.
Как ни учись хоть деньгам, хоть успеху,
Как ни порхай невесомою птицей,
Их голоса к нам доносятся эхом –
Чьи имена на гранитных страницах –
И докричаться пытаются всуе,
Словно с забытого всеми причала:
Кто гонит память, как девку босую,
С тем всё опять повторится сначала,
Значит, опять закурятся воронки
Порохом, гарью и выжженой пылью.
Если не вышло остаться в сторонке,
Хоть бы уж внуки про нас не забыли...
***
Васильковыми глазами
Из-под чёлочки льняной
Смотрит прадед дальний самый
А, быть может, и не мой –
Вдруг из сослуживцев кто-то
Наблюдает с-под руки? –
Вся берёзовая рота
Рассчиталась у реки.
Кучерявы, юны, дерзки.
Было ближе, без затей,
Им до собственного детства,
Чем до собственных детей.
Кто-то стал бы старцем мудрым –
Борода и седина, –
Но для них весенним утром
Здесь закончилась война.
Нам от них всего осталось:
Лён, пшеница, васильки,
Ветра утреннего сладость
И прохлада у реки,
Да прищур смешливый деда
Передать тебе смогли,
И в тебе бежит победно
Кровь земли и соль земли.
***
Петля захлестнулась, по шее скользя
У каменного солдата.
Ребята, простите, но так нельзя.
Так просто нельзя, ребята!
Когда зубоскалил честной народ
Над мёртвыми в Профсоюзах –
Казалось: танцует по крышам чёрт,
Сжигая семейные узы.
В напрасных попытках забыть свою кровь
Заплёвано имя поэта.
Ребята, но кровь проступает вновь –
И требует нас к ответу.
Народ на Руси до красивых дат
Всегда проявлял беспечность:
Чертей побеждает всегда солдат,
Поэт – в ответе за вечность.
И жизнь пробивается сквозь гранит,
И это уже не игрушки –
И снова идут – и их шаг звенит –
Солдат неизвестный и Пушкин.
Ведь как не танцуй боевой гопак,
Пульс жизни сильнее смерти.
Простите, ребята, нельзя было так.
Так было нельзя, поверьте...
***
...а кажется иногда – это просто гриппозный бред:
Снесённые памятники, разбившиеся кумиры,
И нету причины для радости, и для улыбок нет,
И что-то обрушивается там, в сердцевине твоей и мира.
И словно бы жаром пышет исподтишка
Не то кровь в висках, а не то адский пламень – и зло, и ало,
И хочется всё порвать, отмотать – да тонка кишка
Опять то, что выстрадал и сумел, начинать сначала.
И, кажется, всё уже под фанфары летит к концу –
К концу то ли жизни, а то ли всего лишь света.
Под куполом тихого храма рассказываешь отцу,
Что гложет внутри, что скребёт на душе, и не ждёшь ответа.
Потом, как пацан, ты стоишь на крыльце – так вот,
Задравши лицо в вышину, как в финале пьесы.
А небо знакомым голосом тихо тебе поёт
Про крейсер и патрули, да про жизни круговорот,
И лоб остужает тебе белоснежностью, как компрессом.
***
Летит, летит, летит, летит
Твой самолёт в рассвете.
И с нитью жизни плотно свит
Рисунка контур этот.
Когда его ты рисовал
Ты и не мог подумать,
Что где-то там – успех, провал
В костюмах и в парфюмах,
Что потеряется багаж,
Что смысл всей жизни сгинет,
Что станешь ты таким, что аж
У самого кровь стынет.
Тут нету чуда, нет волшбы –
Вот краски, вот игрушки.
Но где-то крутят нить судьбы
Смешливые старушки,
И ничего не отменить,
И никуда не деться –
Какая уж скрутилась нить
От самого от детства.
Ты можешь славен быть, мастит,
Попасть судьбе в немилость –
Но самолётик твой летит.
Красиво получилось.
***
Безногому снится, как он играет в футбол.
Он прыгает выше Роналду и забивает в дальний.
Потом бежит вдоль трибуны. Трибуны празднуют гол.
И нет ничего, кроме ветра и счастья. И нет ничего нормальней.
Бездомному снится семья за столом, камин,
Все близкие рядом. Улыбки, шумные тосты.
И в вазе стеклянной по центру – сирень или, может, жасмин,
Не важно, что празднуют – счастье всегда очень просто.
Под утро мне снится летний речной закат,
Друзья не молчат в соцсетях, в новостях только добрые люди,
За ручку идут мама с папой... Но не отмотать назад,
И я просыпаюсь в сегодня, где этого нет и не будет,
Где ловит наш век глупых нас без наживки, а просто так,
Где каждый вокруг и добрей, и мудрей, чем все разом,
Но если Господь до сих пор не прикрыл этот злой бардак
Ни мором чумным, ни небесной звездой, ни угарным газом –
То слушай, как дети играют, смеются в твоём дворе,
Влюблённые робко касаются лиц, зажигают свечи.
И сколько с досады бы очи не возводить горе,
Мой мир только этот, другого не будет. И в нём наступает вечер,
И время уже замедляет свой вечный бег,
И ночь проступает сквозь день. И идёт через ночь с лучиной
Мой бестолковый, хромой, мой неприкаянный век.
Мы все будем счастливы.
Это нормально.
Для счастья не нужно причины.
***
Это, может быть, просто вошло в привычку,
Просто как-то ввинтилось, легко скользя...
Истеричка, птичка-моя-невеличка,
Этот воздух взрывается с первой спички!
И поделать уже ничего нельзя.
Ничего, как тебе бы того не ждалось…
Ничего, будет время – и всё пройдёт.
Иногда весь в мыслях "на кой мне сдалось?"
Я иду, только что-то – как будто жалость? –
Отсмеявшись, в поддых аккуратно бьёт
Так, что звёзды становятся сразу ближе,
И прохожие смотрят на них в упор.
Я иду. Над нашим недо-парижем
Даже небо осеннее вроде ниже,
И созвездий разборчивей разговор.
…Ты молчишь. Мы застыли под звёздной аркой
Мы глядим в высоту, словно в первый раз.
Они – нам, а мы – им в эту ночь подарком.
А они, насмеявшись, горят так ярко.
Улыбаются, глядя на глупых нас.
***
В час, когда асфальтом дышит зной
Небывало жаркого заката,
По Арбату или по Сенной
Прёт толпа, пьяна и языката,
Ты ползёшь из скверной духоты,
Покидая тесное жилище,
Чтоб найти, где в этом мире ты –
Или ничего уже не ищешь,
А бредёшь случайной из дорог,
Потому что прочитал за чаем,
Что на свете есть какой-то Бог,
Он велик, всеблаг, незамечаем,
Он творит тебя и всё вокруг,
У него, наверно, есть ответы
Даже на подуманное вдруг,
Даже почему и кто и где ты.
Ты не знаешь имени его –
Михаил он, Фёдор?
Если кратко,
То он пишет жизни существо
И твою судьбу в простой тетрадке.
Был ли смысл в потерях или нет,
Есть ли смысл смеяться или злиться –
Не узнать на твой вопрос ответ,
Не прочтя последнюю страницу.
...всё дочитано, всё снова позади.
Том отложен, мир хорош.
И, кстати,
К Михаилу, к Фёдору зайди.
Принеси цветы им на закате.
***
Ты вроде вырос большой и хваткий,
В плечах, как надо, – косая сажень.
А знаешь ты, что такое скатка?
Спроси у прадеда, он расскажет.
Они не знали об интернете,
От старших новости узнавали,
Да и пожили на белом свете
Лет двадцать с малым, и то едва ли.
Их жизнь учила вещам простецким:
Рубить дрова да варганить кашу,
И под обстрелом сопеть по-детски,
И точно знать, где чужой, где наши,
И быть всё время наизготовку,
Готовым к счастью и к смертной муке,
Шинель скатать и идти с винтовкой,
Покуда враг не поднимет руки.
...А ты, конечно, морально выжат,
И жизнь не сахар. Все так устали.
Мы просто знаем,
Что значит «выжить»,
А дед не знал.
Они все – не знали.
И рядом с ними всем нашим бедам
Не то чтоб грош цена… но чтоб кратко:
Дойди до братской,
Скажи «С Победой!»
И расспроси, что такое скатка.
***
Жизнь моя, скажи-ка мне на милость,
Если это можно объяснить,
То ли не приснилась, то ль приснилась
мне твоя задумчивая нить?
Что она связала, где порвётся?
Во добре лежит или во зле?
Иноходцем или инородцем
я иду по собственной земле?
Чьей бы мне чудовищной задумке
Благодарным в сердце быть своём?
В чьём мерцаю кожаном подсумке
Я латунным гильзовым литьём?
Или перед кем стою, затылком
Ощущая холод слова «пли»?
В чьём сознаньи, яростном и пылком,
Эти чудеса произошли?
В чьих руках пьеро и арлекино?
Ключ к разгадке дребезжит в двери…
Знаешь, жизнь, я посидел, прикинул.
Сам пойму. Молчи. Не говори
***
Где-то там вдали лежат мои истоки,
Где-то там,
Там, где месяц медный бродит одинокий
По холмам.
И заглядывает месяц, смотрит в лужи
И ручьи,
И расспрашивает потихоньку: Чьи вы?
Мы ничьи.
И не может месяц до утра напиться,
Всё невмочь,
И от этого мой месяц будет сниться
Мне всю ночь.
Но когда придёшь ты – юная, смешная,
Зазвенишь
То ли смехом, то ли лунным водограем
Из-под крыш,
Он уляжется, сам отчего не зная
Возле ног,
И уйти уже не сможет, обещаю,
Я ж не смог.
И скользну я вдоль лесов-полей раздольных
В такт волшбе,
Понесу я вас, смешливых и довольных,
На себе.
Мы помчимся, невесомые как ветер,
На рассвет,
Потому, поверь, что радостней на свете
Просто нет.
И когда я на исходе бег замедлю
И усну
Я увижу, как рыбачат там на медну-
ю блесну
Рыбаки. И месяц, лезущий купаться,
И камыш…
Ну а я останусь любоваться.
Спи, малыш.
Владислав Сушков
________________
180998
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 25.05.2025, 05:55 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 31.05.2025, 20:39 | Сообщение # 2920 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| ЖИВАЯ ВОДА
(Рассказ)
Утро в городе начинается рано. Примерно с шести один за другим вспыхивают огоньки в проснувшихся окнах многоэтажек, позёвывают во дворах и скверах сонные автомобили, подслеповато вглядываясь в окна: «Мой-то скоро?» После семи, стряхнув с себя остатки сна, улица наполняется шорохом шин, бряцанием ключей и цоканьем каблучков. Хлопки дверей в подъездах и в машинах, – словно сигналы стартового пистолета. Рабочий день начался, время пошло.
Анне нравилось переключаться с умиротворенного состояния на быстрый темп рабочего утра. В рабочем ритме ей гораздо комфортнее, чем в лениво размеренном течении выходных и праздников. С удовольствием вдыхала горьковатый клейкий аромат тополей, совершая перед работой пробежки в соседнем сквере пару раз в неделю. Энергично, но вдумчиво начинала рабочий день в уже привычном режиме одновременного выполнения сразу нескольких дел: проверка электронной почты, звонки клиентам, переговоры с сотрудниками. И чашка ароматного кофе на балконе, откуда открывался шикарный вид на город, неутомимый город-труженик с размашистым полетом светлых высотных зданий, с чётким и энергичным ритмом будней, со вполне осязаемым «чувством локтя» в часы пик. Анне удавалось оставаться собой среди ироничных и порой высокомерных, но настойчивых и смекалистых горожан. Пожалуй, больше всего полюбился ей дух старины, наполнявший узкие улочки, в которых местами ещё сохранились каменные мостовые. Прогуливаться по мостовой – сущая мука и гибель для каблуков, но фасады с лепниной и колоннами, с подозрительно разглядывающими прохожих кариатидами и атлантами, тихие дворики под арками, резные балконы и эркеры приводили девушку в состояние умиления и восторга, навевая грёзы о рыцарских турнирах и дуэлях, о бурных романах и пышных балах. В её реальной жизни ничего подобного не было и быть не могло. Но Анну это не огорчало. Минутных грёз о рюшах, мушках и локонах было достаточно, чтобы отдохнуть от напряжённого делового ритма, обрести душевный покой и гармонию. И работать дальше, прокладывая дорогу к своей мечте: ей хотелось жить в одном из таких домов, нестандартном, с настроением, с историей, с двориком под аркой, с резными балкончиками, выходящими в сквер или во дворик с фасонистыми клумбами и клумбочками. И просыпаться по утрам от пения птиц во дворике, и готовить завтрак на просторной кухне с высокими потолками, и вдыхать аромат кофе с гвоздикой и корицей, сидя на балконе с резной оградой и выгнутыми перилами, рассматривая деревья, прислушиваясь к голосам птиц. И сохранять ощущение гармонии, красоты весь суетливый день, до вечера, когда тишина и покой вновь станут реальностью. Она шла к своей мечте изо дня в день. настойчиво и неторопливо, с приветливой улыбкой. Но сегодня что-то пошло не так. Анна почувствовала это не сразу, только в офисе. Словно коготками царапнулось что-то изнутри. Что? Что-то забыла? Что же?
– Анна Аркадьевна, всё готово. Слоган обсудим с вами, есть два концептуально разных варианта. Эскизы уже на стенде, план рекламной компании Вика сейчас размножит, через пять минут можно начинать. Анна молча развернула кресло, иронически приподняла бровь:«Прямо-таки концептуально разные варианты? Тогда до начала презентации озвучь, пожалуйста, обе концепции. А ещё я хочу посмотреть на эскизы».
Эскизы действительно были уже на стенде. На одном из них на фоне деревенской хаты высился небоскрёб, буквально вырастая из покосившейся, крытой соломой избушки. Что-то вновь царапнуло Анну изнутри… Она поморщилась: «Вы бы ещё плетень нарисовали, чтобы стилизация под шевченковскую хату была идеальной. Какая солома? Если ключевой образ-метафора – дом, он должен быть узнаваемым. А тех, кто в таких хатках жил, давным-давно нет».
– Это стратегия: так лучше лучше виден контраст.
– Контраст между чем и чем?...Вашей недооценкой клиента и вашим же самомнением? …Чем вы только занимались целую неделю? Презентация откладывается, несите всё ко мне в кабинет.
Анна была намерена перенести презентацию. Чутьё подсказывало, что слащавый слоган-фальшивка не пойдёт, нужно искать гармонию, найти ёмкую, прагматичную и чёткую фразу, способную поразить солидного клиента, строительную компанию «Ваш дом» простотой и оригинальностью ассоциации. Такие вот фразы и были её коньком. «Не в бровь, а в глаз», – шутили коллеги. И шушукались, что Анна – колдунья, проникает в сознание клиента и выдаёт именно то, что он хочет услышать. И есть у неё особый ритуал, не зря же никого к себе не пускает, даже запирается на ключ, когда работает над слоганами. «Наверное она там колдовское зелье варит», – ехидничали самые желчные. Анну не задевали подобные слухи, скорее смешили и немного льстили. Боятся, – значит уважают.
«Дом… Ваш дом – ваша крепость….Банально….Тёплый дом….Близко…Дом должен быть тёплым… Как у бабули».
Внезапно она поняла, что именно её царапнуло изнутри: письмо. Вчера вечером она достала из почтового ящика письмо из деревни. И до сих пор его не прочла. Сколько же она не была там?... Почти три года. Видимо придётся-таки ехать. Ах, как не кстати… Столько дел!
Вынула письмо из сумки. Писала соседка, присматривающая за бабушкиным домом. Новость была долгожданной: нашлись покупатели, семейная пара, живут где-то поблизости. Хотят, чтобы у них был загородный летний дом для многочисленных родственников, детей и внуков. Анна откинулась в кресле. Может быть не продавать пока? Можно же сдавать в аренду этим же людям, к примеру… Пожалуй, придется ехать и решать на месте. Но тогда презентацию переносить нельзя. Нужно быстренько сложить слоган. И даже не один. Заказчику нравится выбирать из нескольких вариантов.
«Пора «варить зелье», – усмехнулась про себя Анна. У неё действительно был ритуал, помогающий замедлить мышление, направить его, словно речной поток, в иную сторону, как бы пропустить через себя, чтобы изменить угол зрения, чтобы затем оказаться не в потоке а над ним, вне его,…и поймать нужную фразу, словно рыбку или бабочку.
Подготовительный ритуал был прост до безобразия, потому никого в него и не посвящала: зачем разочаровывать? Анна обожала хороший кофе и не признавала кофемашины. Кофе для неё начинался с потрескивания зёрен в ручной кофемолке, с аромата. Комфорт и уют тёплого дома…Женский слоган, а среди команды заказчиков в основном мужчины… Ваш дом: вдали от суеты, в центре событий. Есть! Неплохо. Мелем кофе и едем дальше… Умные решения - надёжный дом. А почему нет? Как вариант вполне может понравиться. Для тех, кто ценит время и стиль…Пожалуй, претенциозно, но можно пока оставить…
Через час слоганы были готовы, после обеда приехали заказчики, выбрали один из слоганов, одобрили основные положения контракта, договорились о дате подписания. Анне удалось выгадать 2 недели, сославшись на загруженность, на необходимость проработать детали.
В поезде, отложив в сторону журнал, почти не слыша соседок, разглядывала однообразный пейзаж за окном, опять ощутила тревогу, словно что-то должна была сделать, но не сделала, не поняла, не услышала. Что-то, связанное с домом, с бабушкой, с рекой и полем за околицей деревни. С местом, которое она когда-то считала своей родиной. Когда-то давно. Но времена меняются. Прижилась в городе. Прижилась…Слово-то какое, словно пружина: сжалась-прижалась-прижилась…Слоганы придумываешь, словно орешки щёлкаешь, а где твой дом? А едешь ты его продавать. Хочешь жить в престижном районе, в здании с историей, а зачем тебе это? Дом должен быть тёплым, как у бабушки. Будет ли тёплым твой дом, Аня? Даже в самом престижном районе, даже построенный престижной компанией по самому новому проекту, будет ли он таким тёплым, каким был у бабули? Тебе ведь трудно расстаться с этим старым деревенским домом именно потому, что он всё еще остаётся самым тёплым домом в твоей жизни. И ничего иного ты до сих пор не нашла, не создала, к сожалению. Анна вышла из купе, остановилась у окна, обескураженная этой мыслью. Она привыкла осознавать себя успешной, уверенной в себе современной женщиной, но эта иллюзия рассыпалась, стоило ей только изменить угол зрения. Да, это тебе не слоганы сочинять. Эта задачка посложнее будет.
С особым замочком. И ключик к этому замочку нужно найти.
Ключа под крылечком не было, Анна шарила рукой под каменным порожком, пока не поняла, что никого не предупредила о приезде, следовательно, её не ждали. Поезд приходит утром, соседка, которая присматривает за домом, сейчас на работе. Анна вздохнула, оставила сумку на крылечке и пошла по тропинке к реке.
Возле реки было дремотно и солнечно, словно в ином измерении, на другой планете. Анна зашла в воду, побродила, намочила руки, умылась, потопталась в воде, распугивая любопытных мальков. Затем оглянулась… И вдруг иначе, снизу вверх, как в детстве, увидела желтоватую воду маленькой речушки с песчаным дном, невысокие ивы, зеленеющие вдоль реки, звенящий кузнечиками луг за речкой, светлые берёзовые рощицы на холме, пригорок с брусникой и голубикой, пару крикливых речных чаек, кружащих в бирюзовом небе. Солнце веселилось-сияло, разбрасывая лучи. Щекам стало горячо…Как когда-то в детстве она зажмурилась и плюхнулась спиной в пропахшую солнцем, звенящую траву. И в один миг стала вдруг маленькой, улыбчивой и непоседливой Нюшей.
Зелёный кузнечик карабкался по травинке прямо перед носом девочки, словно пытаясь выяснить, кто проник в его владения? Нюша следила за ним с улыбкой, сожалея, что не может стать такой же маленькой. Было бы интересно понаблюдать за большеглазым кузнечиком подольше, понять, как это он так ловко передвигается коленками назад? И где живет? Есть ли дом у кузнечика? А дети? И как зовут жену кузнечика? Кузнечиха?
Трава пахла солнцем, желтела зверобоем, синела колокольчиками, стрекотала. Казалось, что звенит не только луг, но и небо, речка, берёзовая роща за рекой. Это был её мир, солнечный, просторный, медвяный, добрый и радостный. Нюша любила бежать к реке вниз по тропинке через поле льна, мимо открывающихся навстречу солнцу нежно-голубых цветков, которые вечером закрывались, склоняя вниз головы, поле оставалось рыжевато-медным до нового утра, в ожидании очередной игриво переливчатой улыбки летнего солнышка. По дороге девочка останавливалась у пригорка с кисловатой краснобокой брусникой, срывала веточки с ягодками, лакомилась и любовалась ими, потом собирала в листья подорожника для бабушки. Нюша больше любила ароматную голубику, а бабушка называла голубику «дурочкой», потому что «от неё, если много съешь, голова дурная», и хвалила бруснику. Бабушка всеми днями возилась в доме, в огороде, в сарайчике где жили поросенок Борька и голенастые суетливые куры, но иногда после обеда присаживалась на лужок возле калитки и звала Нюшу:
«Ходи-ка сюда, внученька, скажи, где была, что видала?»
Нюша прибегала и ложилась головой на бабушкины колени, обхватывала её руками, смеясь, бормотала: «Бабуня ты моя родненькая, любименькая!»
«Ну будя, будя, завалишь, – смеялась бабушка. – Слушай, что скажу…»
Для таких минут и припрятывала Нюша в траве под вишней свою добычу – завёрнутые в листья подорожника ягоды с пригорка. Бабушка брала ягодку-другую, крупные ягоды подталкивала внучке, гладила её по голове широкой ладонью, улыбалась и рассказывала о своем детстве и юности, иногда соглашалась спеть, тогда Нюшка прижималась головенкой к бабуниному плечу и подпевала, тянула за ней старинные песни:
Ой, быстра жива вода,
Ой, судьба ты, лебеда.
Ой, как я свою беду
Живой водицей разведу.
Нюша слушала и представляла себя взрослой, высокой, с косами. Нет, лучше с одной косой вокруг головы. Ах, вырастет ли такая коса из её пушистых золотистых волос? Вьются непослушные. Если намочить и распрямить, точно вырастут. Костик тёть Танин одуванчиком дразнит. Вот будет коса, не будет дразнить, не посмеет. А я косу вокруг головы, нос кверху, и пойду, и пойду. И не гляну даже в его сторону!
У сонной Нюши склеивались ресницы, перед глазами дремотно текла желтоватая вода маленькой речушки за пригорком, где она пропадала с утра до вечера. «Набегалась стрекоза, поспи, поспи», – приговаривала бабушка, укладывая сонную девочку в саду под яблоней на старую полосатую раскладушку. У яблони узловатый ствол, широко раскинуты ветви. На ней всегда было много сладких и сочных яблок.
Анна снова зашла в реку, оглянулась на звенящий кузнечиками пустынный луг, поросший камышом. Осмотрелась, – никого! Она стянула одежду и, голышом, звонко, как в детстве, смеясь, упала в неподвижно-зеркальную воду, сначала расступившуюся, а потом волной хлынувшую на нее, втягивая в себя, возвращая в прошлое.
Нюша могла целый день, до прохладных сумерек, бродить по рощицам в поисках грибов и ягод, знала заветные полянки. Возле ягодного пригорка, например, грибы обычно прятались под молодыми осинками и берёзками, которыми обрастал пригорок с высокой стороны. Здесь можно спуститься в овраг, к роднику. Нюша однажды увидела возле родника змею, а может быть ужа, не далось рассмотреть в траве, но с тех пор спускалась с опаской, внимательно разглядывая траву: а ну, как и вправду змея? Родничок маленький, неприметный с тропки, журчащий, словно подпрыгивающий в том месте, где выбивается из земли. Деревянный настил позволяет подобраться к нему поближе, наклониться, держась за траву, чтобы испить воды, звонкой и колючей, до ломоты в зубах. Теперь можно и дальше идти, только убрать нужно приставшие к ногам колючки и веточки. Сидя на деревянном настиле, девочка обтирала ступни смоченной в родничке ладошкой, потому как совать босую пятку в родник она не могла. Родник грязи да мусора не любит. Впервые её привела сюда бабушка, присела на траву, вытерла вспотевший лоб уголком платка, улыбнулась: «Ходи-ка сюда, Нюша. Посиди, остынь, пока я мусор поубираю».
– Какой мусор, бабуня? Тут только веточки…
– Эта и есть мусор. Родничок-та маленький, помочь нужна, ослобонить дорогу, расчистить. Вода родниковая живая, целебная, грязи да мусора не терпит, чахнет и погибает без дороги-та.
Бабушка не любила грязь и мусор, постоянно мела, скребла, обрезала старые ветки в саду, полола грядки, носила на коромысле воду из колодца в жестяных холоднющих ведрах или возила воду для полива в больших молочных бидонах «на возике», как она называла старую скрипучую зелёную тележку. Больше пяти лет нет бабушки, запустел дом, зарос сад. Первые годы после её смерти Аня приезжала два раза в год, сначала в мае, потом в августе, оставалась на неделю-две, наводила порядок в саду, просушивала отсыревший за зиму дом, отворяя настежь окна и двери, очищала заросший бурьяном дворик. И дом оживал, наполнялся звуками, запахами лета, сада, яблок. Зелёная тележка возле калитки, старый яблоневый сад с полосатой раскладушкой под раскидистой яблоней и глядящий двумя окошками в сад синий бабушкин дом остались в памяти навсегда. Потому продавать дом и не решалась, что приезжала сюда, словно в детство, воды родниковой испить, наполнить душу горячим солнцем, ароматом яблок да клубники, теплом «бабуниной» огрубевшей ладони, твёрдой, но доброй и нежной. Сад был бабушкиной святыней и остался таковой, подобно алтарю в древнем храме, чистоту и покой которого берегут, лелеют. В этот свой приезд Анна, забрав у соседки ключ и разложив немногочисленные вещи на полках скрипучего шкафа, первым делом вышла поработать в сад: обрезала засохшие ветки, сгребала мусор и прошлогодние листья, копала, освобождая землю от сорняков. День был жарким, но под сенью старых яблонь дышалось легко. Работа спорилась. Аню узнавали, приветливо здоровались немногочисленные прохожие. Подруга бабушки Шурочка, по-прежнему говорливая и сухонькая, первой пришла обсудить маркетинговую стратегию.
– Ой, не тяни, Анютка. Продавать надо дом. Дому-та руки нужны, мужик нужон. Ты давно не была-та. Всё одна?
– Одна, баб Шур. Пока одна. А дом жалко продавать, думаю.
– Ну подумай-подумай. А как покупец-та уйдёть, чё думать будишь?
– А тогда думать нечего, начну клубнику рассаживать, усы обрывать.
– Вусы! Ой, гляди, девка! Сказала-сказанула-та! Вусы она обрывать будить! Ты б кому другому вусы-та пообрывала, чтоб голову те не морочил да за ум взялси. Во каки вусы те обрывать надобно, девка! Чуешь мяне?
Шурочка замахала на неё руками и пошла к своей хате, посмеиваясь и придерживая под подбородком узелок тёмного платочка. Анна тоже рассмеялась, представив, с каким бы удовольствием она и впрямь «кому другому вусы-та пообрывала». Постояла так, улыбаясь да раздумывая, и, выйдя из сада, повернула на тропинку к реке.
Ой, текут мои года,
Ой, студёна реченька,
Ах, за мила за дружка
Всё болит сердеченько…
Течение в речке быстрое, но вода не обжигает. Тело не стынет, а словно оживает, наливаясь свежей силой. Анна плавала долго, ныряя в медленную воду, задерживая дыхание, лягушачьими движениями проталкивая себя вперед, распугивая удивленных рыбок. Она окуналась с головой, стараясь смыть напрочь жесткий прессинг столичной жизни, запрограммированность на активные, часто инерционные действия, вслушивалась в себя, улавливая и повторяя неторопливую текучесть речной воды, словно растворяясь в ней. Отталкиваясь от песчаного дна руками, выплывала на поверхность, поворачивалась лицом к солнцу и долго лежала на воде, закрыв глаза, скользя по течению. Решение должно прийти само, правильное решение так и приходит, само, изнутри, неожиданно и чётко, словно всплывает из глубины сознания…А может из желтоватой воды детства?...Живая вода не только в детских сказках встречается. Река детства наполнена живительной любовью и теплом, будит искренние чувства, заставляя нас по-иному осознать себя в этом мире. Живая вода из реки детства питает душу, проникая глубоко в сознание, прокладывая из него дорожку в подсознание. Целительной способностью оживлять, врачевать душу обладают и творческие занятия, увлечения. Те из них, которые мы воспринимаем «с душой», пропуская через себя, действительно делают нас лучше, развивают. Речь о том творческом занятии, что дается легко, позволяет открыть и очистить душу, словно в живую воду войти. Возвращение в детство словно обретение себя, путь к себе. После таких возвращений человек яснее, осознаннее воспринимает реальность и себя в ней.
Нюша в панике бежала домой напрямки, перепрыгивая через кочки, причитая и охая. Солнце уже низко, лён позакрывался, а она до сих пор бабушке не показалась. Вот будет ей! Нюша даже зажмурилась, до чего не хотелось от бабушки нотации выслушивать! Калитка была открыта, и девочка облегчённо выдохнула: раз дома гость, значит меньше ругать будет! Заглянула в окошко и увидела соседку-подругу бабушки Шурочку, которая рассказывала что-то, держась за щёку ладонью. Нюша тихохонько проскользнула через веранду, даже дверью не скрипнула, чуть приоткрыла дверь в хату и ящеркой шмыгула в другую комнату за высоким быльцем железной кровати, за спиной у сидящих за столом подруг. Там отдышалась и прислушалась:
– Ой, Лиза, я как вспомню: Он укол-та как сделал, у меня-та грибы раздулись, харя распухла!.....Ой, Божа мой Божа!... Натерпелася старуха страху-та!
Не ходи, Лиза, к врачам-рвачам, пущай болить зуб ентат. Сильно болить – шалфейчиком пополощи, боль и уйдёть-та…Чем страх такой терпеть, лучше шалфейчиком-та.
– Ты б спросила, чего ж ён так болить? Можа лекарство како-нить приложить?
– Ай, йди ты, не смяши, Лизка! Лякарство ён положить! Зуб-та рвуть за деньги, а лечать задарма!
– Ну да, ну да, – кивала бабушка, прихлёбывала чай из широкой чашки с красными цветами и вытирала шею да лоб уголком платка.
А с лежанки за печкой полосатая кошка Василиса таращила на Нюшу жёлтые глаза. Нюша забралась на лежанку, осторожно миновав любопытную кошку. Она вспомнила, что на печи сушатся яблоки. Бабушка запрещала Нюше их трогать, но голодной девочке наблюдать чаепитие двух бабулек было не под силу. Она решила набрать побольше яблок в подол и удрать на улицу, чтобы казанской сиротой, до которой никому нет дела, обиженно сидеть возле калитки. И наесться сушки, и наказания за позднее возвращение избежать! Нюша была в восторге от придумки! Чтобы дотянуться до разложенных на полотняном полотенце золотистых долек, пришлось стать на цыпочки. Не достать. Нюша потянула на себя полотенце…Ещё чуть-чуть…И ещё…Стоя на лежанке, она сделала маленький шажок поближе к печи, продолжая тянуть полотенце на себя и нечаянно наступила на кошку. Оскорбленная Василиса рявкнула, вывернулась. А Нюша, пошатнувшись, рванула полотенце на себя…Василиса с воплями кинулась прочь от сыпавшейся на неё золотым дождём яблочной сушки…На глазах оторопевших бабуль с лежанки следом за орущей Василисой с грохотом и криком свалилась Нюша, а сверху, с печи, на неё всё сыпались и сыпались яблоки….
Нюша собирала с пола и с лежанки рассыпанные яблоки до самой ночи. Потом, уже в постели, умытая, с опухшими от слез глазами, ещё долго шмыгала носом, вспоминая, как стыдно ей было! А как ещё будет стыдно, когда словоохотливая Шурочка всей деревне расскажет о её неуклюжести и неаккуратности! Вздыхая и ворочаясь, Нюша никак не могла заснуть, представляла, как тёть Танин Костик примется её дразнить запечной тараканихой! Заснула девочка только под утро, совсем отчаявшись и решив больше никогда не выходить из хаты на улицу.
Анну разбудил мобильник, который она спросоня никак не могла отыскать и несколько минут металась по хате, поднимая вещи-газеты-сумки. А телефон неторопливо сползал вниз по покрытой клеёнкой полке с цветочными горшками. Одной рукой поймала его, уже почти наполовину свесившийся с полки, второй, – натянула на себя майку, пододвинула табурет, затем взглянула на часы: «Ого, уже десять!»
А номер был знакомым. «Не колдунья ли ты, баб Шур?», – усмехнулась Аня:
– Здравствуй, Андрей.
– Здравствуй, Анечка. Что-то ты пропала, не звонишь. Где ты сейчас?
Я подъеду.
– В деревню Козятники Смоленской области приедешь? Я здесь.
– Куда? Повтори, не слышу…
– Андрей, я далеко.
– Скажи где ты, я приеду.
– У тебя сколько времени? Час-полтора на быстрый секс и лёгкий ланч?
– Ответом было молчание. Вздох…– Что-то случилось?
– Ничего особенного, усы обрываю…
– Усы? У меня нет усов. Аня, я тебя не понимаю…
– А себя понимаешь? Навряд ли, у тебя такой напряжённый график, ответственность за процесс. Как же тебе трудно, милый. Но я не пожалею. Не надо приезжать, я слишком далеко. Мы друг от друга уже слишком далеко. А на ланч езжай к жене. Приятного аппетита.
И дала отбой. И отключила телефон. Незаменимых у нас нет. То есть у него. И нечего цепляться за интрижку, которая к реальности, к жизни уже не имеет никакого отношения. Да, щемит внутри, очень хочется реветь, но истина в том, что давняя, устоявшаяся и потому вполне, как говорят, «приличная» история их отношений с Андреем тоже обманка, фрик. Это не реальность. Да, сначала была любовь. Во всяком случае у неё, но это уже в прошлом. А сейчас их обоих этот вполне современный формат отношений просто устраивает. Это раньше она сначала не знала, что Андрей женат, потом запрещала себе приближаться, чтобы не влезать в женатую историю, не разбивать семью. Страдала и мучилась от ревности. Со временем поняла, что так даже удобно, больше сил и времени остается для работы и карьеры. И согласилась на продолжение, на игру по мужским правилам, на роль подруги, музы, любовницы… А собственную историю слабо сложить? До тридцатника дожила, а даже влюбиться по-настоящему не смогла себе позволить. Хочешь тёплый дом? Начни с реально тёплых отношений. Признайся для начала, что тебе, самодостаточной и независимой, тяжко в одиночестве, что в съёмную квартиру вечерами идти не хочется. И праздники ты не любишь, потому что боишься одиночества, гордыня воет.
- О-о-о, начинаются сопли и слюни…Что, клубнички захотелось? Выращивайте свою, Анна Аркадьевна. Потрудитесь, это вам не слоганы сочинять.
Ой, подружка реченька,
Остуди сердеченько…
Покажи мою судьбу,
Близка ли, далеченька?
Нюша сидела на лавочке возле окошка и ела клубнику. Медленно поднимала каждую ягодку вверх, разглядывала с разных сторон. Клубника была бабушкиной гордостью, любимицей и отрадой. Три разных сорта на восьми аккуратных грядках на солнышке, на возвышении, под окном. Слева от грядок – ящик с песком, справа, возле садовой калитки, бочка с перегноем. Куры ходили по двору и подозрительно поглядывали на девочку: тихо сидит, жди беды! Шустрая девица, глаз да глаз! И многозначительно кивали петуху:
– Сидит, глянь-ка!
Нюша опасливо поджимала ноги, когда петух косил в её сторону и как-то боком приближался, грозно бормоча. Гусей и петухов она опасалась. Нагретые солнцем клубничины влажно блестели на солнце. Сок стекал по подбородку, по щекам. Рядом с миской клубники литровая кружка маслянистого домашнего молока. И глубокая тарелка с мёдом. Такие тарелки в бабушкиной деревне называли блюдцами. Это был её завтрак. Нюша с удовольствием выпила треть кружки молока, съела почти половину миски клубники, несколько ложек мёда. Затем завтрак замедлился. Еды все ещё было много. А сил уже не было совсем. Молоко не проблема, есть Василиса, есть Дружок. Клубнику оставить можно. Бабушка сварит компот. А мёд принесла тёть Нина, оставлять нельзя. Обидится. Надо что-то придумать.
Несколько минут спустя ошалелый от счастья пес, вылакавший почти литр домашнего молока, лежал, растянувшись поперек крыльца, и сладко икал. Кошка Василиса, слишком поздно появившаяся во дворе, могла только облизываться, мрачно-подозрительно разглядывая блаженную физиономию пса. Мед Нюша подмешала курам в жестянку с водой, правда воды в жестянке мало, была она горячей, нагретой солнышком… Куры и петух с пониманием отнеслись к вниманию со стороны приезжей девицы, отведали медовуху, поквохтали одобрительно, да ещё раз отведали… После этого обычно хрипловатый голосом петух вдруг расправил крылья, взлетел на забор и закукарекал высоким фальцетом, выпячивая подбородок и торжествующе оглядывая окрестности. При звуке неожиданно высоких нот куры отпрянули от корыта и замерли, свернув шеи набок. Из дверей выглянула бабушка:
– Нюша-а, у нас тут чей-та петух забежал-та через гарод, ишь, гарланить, оглашенный! Так ты гани яго, внуча. А то передерутся. Наш-та тожа во дворе. Осоловевший «наш-то» при звуке скрипучей двери пошатнулся и едва не свалился с забора в огород.
– Хорошо, бабунь, щас прогоню! Нюша вскочила с крылечка, стараясь загородить жестянку-поилку и остолбеневших возле неё кур. Бабушка вернулась в дом, а Нюша стремглав бросилась к бочке с водой, чтобы разбавить медвяную смесь. Пока тихохонько шла с ведром мимо хаты, поставила его на землю, стала на приступочку, осторожно заглянула в окошко. Бабушка сидела на стареньком продавленном диванчике, вязала крючком и напевала:
Как из дальня-далека
Все бежит-течет река…
Говорлива да легка,
Не мала, не велика.
Когда бабушка пела, её лицо молодело, а глаза сияли тихим загадочным светом, голос становился глубже, словно далекая молодость вновь наполняла душу энергией, вытягивала из повседневности, освежала, как вода из маленькой речки, возле которой бабуля жила всю свою жизнь. К реке бежала в молодости, чтобы выплакать обиды, в прохладе желтоватой воды набиралась спокойствия и уверенности, смывала усталость и дневные заботы. И никогда не покидала этих мест.
Но разве сейчас так живут? Ни дорог, ни бутиков, ни машин, ни клубов…Один колодец на две улицы! Разве это жизнь? Анне пора было возвращаться в город. Дом нужно продавать, ничего не поделаешь. Чтобы забрать памятные вещи, разбирала коробки и чемоданы, сложенные на лежанке за печкой. Искала связанную бабушкой скатерть. Бабушка когда-то связала её для Нюши, а она не захотела забирать подарок, в общежитие её жалко было везти, решила оставить у бабушки до лучших времён. А потом забыла. Сейчас же вдруг вспомнила, захотелось сохранить энергетику отчего дома, детства, её «бабуни». К этой скатерти прикасались трудолюбивые бабулины руки, старательно вывязывая узоры так, как она их увидела внутренним зрением. Бабушка не умела рассчитывать количество петель, накидов. Она просто смотрела на узор-образец и вязала, без схем, читая его, угадывая-понимая, как вывязать, сколько раз повторить. Решила, что скатерть нужно найти, забрать. Раскрыв очередной чемодан, услышала скрип калитки и выглянула в окно:
– Анка, ходи-ка сюды, – послышался голос соседки.
– Здравствуйте, тёть Нина, заходите в дом.
– В хату не пойду, у мяне тёлка во дворе непривязана гуляить, неравён час в гарод забредёть. Тебе когда ехать-та?
– Поезд завтра вечером, в 22.30. А сегодня с покупателями встречаюсь. Скоро должны подойти.
– Встречайси, встречайси. А завтра увечери за молоком прийдешь в девять, будить табе парненькое на дорожку, как ты любишь. Тесто я поставила, пирогов напеку, в магазин не ходи, там и хлеба свежего нынче не сыщешь.
– Тёть Нина, за молочко спасибо. А больше ничего и не надо, мне ночь ехать, какие пироги?
– А ну-ка, не позорь мяне, Анка. Мы с твоей бабкой-та, с Лизаветой, скольки годочков рядом прожили! Скольки живу, стольки её поминать буду добрым словом. Работяшшая и добрая была, слова худого не скажить. Што ж я её унучку голодную в таку даль отправлю? Ай, йди ты, забярися. Молока надоим, пирогов напечём, проводим… Усё будить по-людски.
– Ну спасибо, тёть Нина, – Аня обняла соседку. – И правда здорово: приеду, буду завтракать вашими пирожками и вас вспоминать.
– Вспоминай, девонька, вспоминай. И свою бабушку помяни добрым словом. Мы тут её часто вспоминаем. Хату-то продаёшь?
– Продаю, пока покупатель есть. Старая хата-то.
– Мы тута все старые, кто осталси…А место хорошее, станция близко, речка рядом…Ты не стесняйси, раз покупатель есь. Своё бери. Пойду я, а за молочком-то приходь.
–- Приду, тёть Нина. Спасибо вам.
* * *
Узорную бабушкину скатерть Аня нашла под стопкой вещей в очередном чемодане аккуратно сложенной, упакованной в полотняный мешочек. Береженая для любимой внучки, большая, тёплого цвета слоновой кости скатерть, связанная бабушкиными руками. Аня обрадовалась, прикоснулась щекой к грубовато-шершавой поверхности и закрыла глаза, вспоминая, как когда-то провожала её бабушка. Неспешно, в несколько дней, с обстоятельным ритуалом пришивания потайного кармашка для денег, сэкономленных ради любимой внучки с маленькой пенсии. С запеканием жёлтой курицы и заворачиванием в отдельные бумажные кулёчки десяти вареных яиц, с обязательной покупкой конфет в станционном магазине, где старушка подробно рассказывала продавщице, что внучка учится в самой столице, в университете, что учится хорошо и пенсию получает. Слово «стипендия» бабуля так и не смогла запомнить.
Аня задохнулась от слёз и внезапно осознала, что в этой дальней деревушке зачерпнула ей судьба из старого колодца, из родника и небольшой речушки столько любви, открытости и доброты, сколько иному человеку за всю жизнь не собрать.
Идеалистка. Нет, не о том речь. Да, я не хочу жить в неустроенной, далёкой от цивилизации российской глубинке, но видно до сих пор меряю степень открытости, искренности в отношениях с людьми по этим, деревенским меркам. Может потому и одна до сих пор? По городским-то меркам я не одна. Я по деревенским меркам одна. Вот и думай. А может и вправду не продавать дом? И приезжать почаще, купаться в реке детства, освежать мысли и заглядывать в себя, чтобы увидеть себя и свою жизнь в ином ракурсе, словно с другой стороны, чтобы изменить то, что ещё можно изменить. Чтобы не просто комфортный и престижный дом создать, а тёплый. Как у бабушки. Чтобы на эту мечту идти и чтобы однажды воплотить её в реальность. Правильно, ей нужны эта речка, этот дом, словно маячок, действительно нужны. А дальше всё сложится, главное, чтобы маячок был ярким и настоящим, без фальши. А вода без хлора и химикатов, живая, родниковая, целебная.
- Тёть Нина сказала, что всё будет по-людски. Да, будет, всё будет по-людски, бабуленька моя. И приезжать сюда нужно, возвращаться к себе настоящей, именно сюда, где так легко и просто дышится, где осталась бабушкина могилка. За ней-то кто будет ухаживать? Соседка?
Аня застыла, поражённая тем, что эта мысль раньше не приходила ей в голову. О доме думала, о любви, о работе, а о бабушкиной могилке, о своём долге перед ней – не задумывалась. Сколько же можно потерять, если подменять ценности, жить иллюзиями, обманываться и обманывать! Вот он, ключик: жить реальностью, а не иллюзией, уметь вовремя отличать одно от другого.
Родная моя бабуля, спасибо тебе за этот ключик, за то, что научила меня пить живую воду и очищать воду в роднике, а мысли в голове от мусора. Я к нашему родничку и своих детей приведу, чтобы научить их этому же, чтобы о тебе рассказать. Обязательно приведу. Обещаю.
Выглянув в окошко, увидела, что к бабушкиному дому подходят средних лет мужчина и женщина. Вот и покупатели.
Точнее, теперь уже и не покупатели вовсе. Ей придётся приложить максимум усилий, объясняя людям, что дом старый, что нужно сначала оглядеться, потому лучше арендовать его на лето, ухаживать за ним, присматриваться к месту, к людям. А не согласятся, – так тоже не беда. Чаще буду приезжать.
Аня огляделась:
– Дом, слышишь меня? Помогай! Бабуня, родная, не оставь. Видишь, как я не хочу тебя и дом наш покидать. Привязала ты сердце моё. Нельзя нам друг без друга. Мне без вас нельзя. Работаю, живу в своём городе, а душа всё-таки здесь остаётся, с вами, и прорастает твоими словами, мыслями, твоею душой, родная моя. И очищается водой из твоего родника.
Во дворе глухо стукнула калитка.
Людмила Казакова
________________
181365
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 31.05.2025, 20:40 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 02.06.2025, 22:33 | Сообщение # 2921 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| О.К.Мирошниченко-Кулагиной
Мама, язык, на котором ты пела мне песни
И на котором я жизни училась в полете,
Кто-то пытается сделать лакеем поместий
Или, точнее еще, языком подворотен.
Мама, а наша история ложью сокрыта.
Чтобы народ позабыл свое русское имя.
Слышишь, как в шорохе сотен чужих алфавитов,
Мы постепенно становимся сами другими.
Мама, а нынче, чтоб взяли тебя на работу,
Учат английский. И даже китайский - в нагрузку.
Мама, а мне вот не хочется стать полиглотом.
Я бы весь мир говорить научила по-русски.
Мама, ты спи, моя мама, закрой свои глазки.
Видишь, уж ночь паутинкою белой повисла.
Мама, зачем ты читала мне русские сказки?
Я никогда не забуду их вещего смысла.
***
Не боли, душа, не прячься, не стони.
Ну и что, коль ты ответа не нашла.
Ты жгутом свою печаль перетяни.
Заглядись, как ночка юная бела.
Ночка белая, серебряная тишь.
Даже птицы ещё радостные спят.
Даже звёзды, что поскатывались с крыш
Прямо в лужи, лягушатами глядят.
Вся природа отдыхает от тоски,
Чтоб проснуться и по-новому начать.
Вон и верба встрепенулась у реки,
Чтобы первой выйти солнышко встречать.
Вот и я свою печаль превозмогу.
Не томись, душа, что не белым-бела.
Я тебе ещё с ответом помогу,
Потерпи, пока я слОва не нашла.
***
Мы русские. И с нами шутки плохи.
Не надо трогать родовой земли
По злобе дня, на рубеже эпохи.
Уж вы и так погрелись, как могли.
Но одного вы не уразумели:
Ни высший разум и ни ЭВМ
Не просчитают русские метели
И русский дух. И вам о том повем.
Не просчитают русского презренья
К чужим одеждам и чужим звездам
И позднего славянского прозренья,
Грядущего уже, как «Аз воздам…»
Мы русские. На нас пахали с веку
И попрекали совестью, к тому ж.
Мы не в обиде - было б больше света!
Так нет: все темень, все беда, все глушь.
Мы русские. Мы крови не пролили
Ничьей в своем отеческом дому,
Хоть это нас в застенках изводили
По миллионам, не по одному.
Но есть предел терпенью и прощенью.
Не все нам строить церкви на крови.
Мы русские. Мы не хотим отмщенья.
Но не касайтесь родовой земли.
***
Услыхала я свирель под вечер
И спокойно вышла за порог,
На плечи накинув вольный ветер,
На ноги – распутицу дорог.
Только песню слышала на свете,
Чистую, как детская слеза.
Но со мной дружили синий вечер
Да болтушка поля – стрекоза.
Что со мной случилось, я не знаю.
За свирель берусь, не плакать чтобы.
Чем мне эта песенка простая
Сердце пробирает до озноба?!
Все, куда ни глянь, одно и то же.
От дворцов до хижин – я жила.
Стала на свирель сама похожа.
Только жизнь на песню извела.
Несмотря на злую перемену,
На сплошное русское «авось»,
Как я ни искала ей замену,
Ничего прекрасней не нашлось.
***
Моя земля, твои целую ноженьки.
Но, если трижды не перекрещусь,
То вместо храмов вижу подорожники.
А вместо хамов – рухнувшую Русь.
Нам не понять за что, хоть все оплачено
Парною кровью, мертвой головой,
Опять Россия бесом раскулачена
По новой по цене, по мировой.
Нам этого бесчестия не вынести.
Еще чуть-чуть и разорвет страну
Очередной непоправимый вымысел,
Оправленный в гражданскую войну.
Нас все равно ни галльские, ни шведские
Подачки не сумеют устеречь.
Неукротимы души наши детские.
И неподвластна плену наша речь.
Уже не знаешь, что за чем последует.
Как муравьи, политики снуют.
Мне говорят: на Родину не сетуют.
Но Родину, ведь, и не продают.
***
Провинция любит потом.
Сначала глядит и не видит.
Ей кажется: в люди не выйдет
Из провинциалов никто.
Ей кажется: мир не дорос
До чеховских этих историй,
Где Волга – в Каспийское море.
Где кушает лошадь овес.
Неправда, что мир равнолик
По сумме и разности знаков.
Неправда, что грязен родник.
Но грязен бывает, однако.
Неправда, что легче в селе.
Ну, разве что, навеселе.
Провинция любит потом,
Когда – на щите золотом.
***
Валентину Распутину
Не столицами только ты славишься, Русь, но деревнями.
Там и тайна характера нашего и ремесла.
Почему-то мы можем представить лягушек - царевнами.
Да и где бы сестрица козленочка-братца спасла?!
Почему-то нам жаль целый мир, а себя не пожалуем.
И последней рубахой воистину не дорожим.
И по Млечному запросто ходим как будто по палубе.
И над златом, кому посчастливится вдруг, не дрожим.
Он, конечно, не выгоден этот характер невиданный
Прежде всех самому, да такой уж случился народ.
Ну, а я хорошею, как будто девица на выданье,
То ли песню заслышу, то ль в русский войду хоровод.
Пропадет моя Русь, так никто на земле и не выстоит.
Нету русским начала и, видно, не будет конца.
И какой басурманишка в белую лебедь ни выстрелит,
Все вернется стрела и убьет самого же стрельца.
Что вы, черный вороны, по свету белому рыщите?!
Что вы, черные вороги, наши считаете дни?!
Нет, другого такого народа на свете не сыщите.
Мы не лучше, не хуже. Мы просто такие одни.
***
Я столько раз тропой ходила узкою.
А вот дождалась часа своего.
Я столько раз сказала слово: РУССКИЕ,
Что, наконец, услышали его.
***
Он русским назван наш двадцатый век.
По злому наущенью иноземцев
Уничтожался русский человек
Под разговор о гибели туземцев.
Нас вырывали из родной земли.
И родовые гнезда опустели.
Мы Воркуту и Магадан прошли
И целину, как бездну, одолели.
Мы сердца не жалели своего,
Деля горбушку с сирым и убогим.
Не потеряв в дороге никого,
Мы русским не оставили дороги.
Ко всем, кто предал нас и не помог,
Кто ничего без нас не одолеет,
Кто ни одной границы не сберег,
Кто проклял русских. А теперь жалеет.
Ко всем, кто ищет истину в вине,
Хотя она, давно понятно, в Боге.
Кто столько лет печется о Стране,
Что потеряет Родину в итоге.
И к нам самим, о русский мой народ,
Мой неумолчный глас под небесами:
Никто и никогда нас не спасет.
Спасти себя мы можем только сами.
***
От русского шатало, как от спирта,--
Английского всех одурманил смог.
В народе русском таинства и смысла
Истеблишмент переварить не смог.
За все века сквозь сотни инородцев,
сквозь блеск монет и вековую тьму
Из русских – ни царей, ни полководцев
Они не признавали на миру.
Жила Мария, в просторечье Машка,
Чудил Петрушка – ярмарок бунтарь.
И насмерть бился с Чудищем Ивашка.
И становился звёздами букварь.
И вот в Конце концов на всей планете
Осталось это слово как Залог.
Мы, р у с с к и е, -- одни на белом свете.
За что ты нас такими выбрал Бог?!
***
Как можно русским русского предать--
Иди в капкан под окрики: «Иди».
Когда бессильны уж отец и мать,
Коль сколько б ни просили: «Не ходи»!
У русских всё всерьёз, не напоказ.
И с нашей верой в чудо и в добро
Уже в который раз столкнули нас
Все, кто во лжи всегда плодили зло.
И снова те, кто справа, вышли в бой
За Родину, за правды стыд и честь.
Все заплатили русой головой,
Но с двух сторон. И стало так, как есть.
Те, кто во лжи погибли… Как им там,
В аду, где каждый каждому чужой?
А нашим здесь спокойно по холмам
Своих могил, но выигравшим бой.
Спокойно им лежать в земле родной,
Что русскою зовётся испокон.
Что дарит им в ночи вечерний звон.
Что приняла последний их поклон,
Своих героев, дитяток своих,
Кто Щит России даже в смертный миг.
***
Нехорошо над клоуном смеяться,
Когда бы он страну не продавал.
Когда б не вырос в худших из паяцев,
Тогда б и поругания не знал.
Паяц, он прахом пропитал и кровью
Страну, чтоб стал чернее чернозём.
И в этой новой ярмарке злословья
Паяц, как в сказке – голым Королём.
Народ, с которым раньше мы, как с братом,
В обнимку целовались на Сумской,
Сегодня подло и замысловато
Бежит на Запад, Западу чужой.
А Лавра?!! Разве мы забудем Лавру?
Плачь, Киев, плачь и в небо голоси.
Кому сегодня ты кликуешь Славу?
Как продал колыбель всея Руси?
Они тебя растопчут сапогами
За тягу твою к сладкому куску.
А мы спокойны. И Москва- за нами.
Даст Бог, и Киев будет за Москву.
***
Победа Второй не бывает.
Бывают под номером войны.
Вторая была Мировая.
Но памяти будем достойны:
Пусть Третья над миром витает–
Победа Второй не бывает.
Отцы это знали и деды:
За Первую бьёмся Победу!
***
Прячься, нечисть! Не высовывайся, что ли.
Знай, тебе тягаться с нами – не с руки.
Наша песня вырывается на волю.
Наши чешутся от гнева кулаки.
Разбудили Силу Русскую, по силе
Нет которой ни сильнее, ни смелей.
Прячься, нечисть, чтоб враги не голосили:
Как вы можете так с нечистью своей?!
Так и можем, нечисть чтобы не грозила.
Чтоб навеки перестала нам грозить:
Мол, давно Россия мужество сносила,
И теперь уже ей нечего носить.
За Победой вышли мы надолго.
Разобрались в сущности вещей.
Прячься, нечисть: сломана иголка,
Пуще смерти что берёг Кащей.
***
ОБЩЕМУ НАРОДУ РОССИИ
Я — Рупор. Я — Вдохновение. Я, может быть, — Повторение.
Не Армия я. Но вдумайтесь, я все-таки, может, Взвод.
И было б лишь озарение, я выведу, без сомнения,
На Главный рубеж Отечества опорный мой весь народ.
Мы — р у с с к и е, крови смешаны. Но Богом своим утешены.
Но Богом своим возлюблены, поскольку остались с Ним
В веках, на полях и пастбищах. В греховных и главных своих речах,
В душе своей, детской чисткости. При ангелах и палачах.
Я — Голос. Он мною выверен то на площадях, то в избах ли.
То у колыбели с дитятком, то у родных могил.
Я — Песня живородящая. Не та, что сейчас — по ящику.
Я — Искра животворящая, чего б кто ни говорил.
Порой я Неправдой ранена. Но лечит молитва мамина.
Она помогала многожды. Сегодня поможет вновь.
Я — Сердце, что цвета знамени, что пеплу равно и пламени.
Я — Совесть. Я — Радость вечная. Я — Правда. И я — Любовь.
Мой р у с с к и й народ — не смел ещё, но он соберется в целое.
По Божьему повелению он в память свою войдёт.
Мы — Рупор. Мы — Вдохновение. Нам по сердцу Повторение.
Мы — Армия. Мы Отечество. Мы Общий Русский Народ.
Надежда Мирошниченко https://vk.com/id175849770
____________________________________________
181448
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 02.06.2025, 22:35 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 11.06.2025, 16:56 | Сообщение # 2922 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3547
Статус: Offline
| Ну вот и совершили сто ошибок,
Как будто оплатили жизнь до рая.
И прочен дом, и быт уже не зыбок,
И любим, во влюблённость не играя.
На сотню мин наткнулось наше судно:
Залатанное – стало как литое…
Ну вот и пережили всё, что трудно.
Теперь ещё осилить бы простое.
***
Мой народ, я с тобой в этой бездне из пытки и боли,
Потому как нет боли твоей, что моей не была б.
В карантинные будни наркотик безверья вкололи,
И, заложники страха, ждём молча, ремень чтоб ослаб…
Что бы ни было дальше – чумные пиры или битва,
То ли гайки дожмут, то ль отнимут опять кислород, –
Было б яростно слово да жарко взлетала молитва,
Был бы вечен мой многострадальный великий народ!
***
Я приближаюсь к этой точке,
Отрезку или же кривой.
Упрямо делаю шажочки
И от себя иду живой –
К себе бессмертной.
Там едва ли
Пункт пересыльный иль вокзал…
Никто не знает, что в финале.
Никто путём не рассказал.
И хоть толпа на слухи падка,
Да зуб неймёт – кишка тонка!
Всё меньше мучает загадка,
Когда разгадка столь близка…
Душа болит, и ноют кости,
Всё соответственно летам.
А я иду туда не в гости –
Я верю, что мы дома там.
Мои ушедшие, не плачьте!
Есть от скитаний на земле
Мне парус на небесной мачте –
Ваш свет сияет мне во мгле.
Я на ходу преображаюсь:
Всё реже спорю и сражаюсь,
Права все раздарив словам…
Я приближаюсь, приближаюсь,
Родные, к вам…
***
Нет, орденов я не глотатель
И не хвататель всех наград,
Но ты, мой преданный читатель, –
Со мной как много лет назад.
И не беда, что мне не дали
Медали, премии, хвалу…
Зато взглянуть в такие дали
Мне довелось сквозь хмарь и мглу!
Подумаешь, почёт и званья,
Собраний сочинений свод!
Все эти званья – лишь названья,
И не идут они в народ.
К людским же душам что есть силы
С пропискою на вечный срок
Летят лишь строчки, легкокрылы,
И свет судьбы, что между строк.
Мне скажут, что звучит обида
В моих словах: мол, зря, Лерусь!
Но нет, обида-то для вида,
А в сердце – матушка да Русь.
А в сердце – Бог, а он медалек
Не раздаёт почём зазря.
Их заглоти хоть до миндалин –
Таланта не взойдёт заря.
Но столько славою увитым
Бездарностям свобод дано,
Что быть сегодня знаменитым
И не почётно, и грешно.
Пусть нет из почестей нагрузки,
Но смерть краснее на миру.
Я родилась поэтом русским –
Поэтом русским и умру.
И уходить не страшно, если
Созрело в сердце в полный рост
Предчувствие стиха и песни
И убежденье – выше звёзд! –
Что мне чужда была нажива,
Что путь то камень был, то пух,
Что повторюсь я в русских жилах
И перельюсь из духа в дух.
***
Жизнь выдаёт по чайной ложке…
Хоть как душою ни криви,
Не чешутся давно ладошки
К деньгам, знакомству и любви.
Прогноз, увы, совсем не розов.
Твердят врачи – все как один:
Наш век – рассадник для неврозов!
Зашкаливает русский сплин…
«Сплин, – скажут мне, – не только русский,
Всем плохо в передрягах дней!»
Но я специалист-то узкий,
Мне русское – всего больней.
***
Когда темнота гнетёт,
И с веком проигран спор,
И бедам потерян счёт,
И крепнет в сердцах раскол;
Когда, не смыкая вежд,
Чумеешь в тяжёлом сне
Среди никаких надежд
По чьей-то чужой вине;
И роком нажат курок,
И правит умами страсть,
И мир вконец изнемог
От каторги – лгать и красть;
Жизнь криво ползёт вперёд
Без треснувших вдруг рессор,
И всё кувырком идёт,
Лишившись былых опор;
И схлопнулось разом Ра,
На свет упразднив мечту, –
Возьмите своё вчера,
Заполните пустоту...
Там грёз поплавок дрожит
Над рябью евфратских вод,
И памяти вечный жид
Блуждает в тени тенёт;
Там дню не дают пропасть
И верят простым словам,
Там детства курится всласть
Живительный фимиам...
Когда нестерпима боль
И воля равна нулю,
Я памяти алкоголь
Большими глотками пью...
И видится мне, как встарь,
Где сон, будто миф, живуч,
Дорог золотых янтарь
И счастья бесстрашный луч.
Любовь мне наложит жгут
На раны, вздохнёт душа...
О, мой анестетик крут:
Я снова могу дышать.
***
Писать бы о счастье!.. Но снова безумствует век –
То серией метаморфоз, то чредой искажений.
Ах, как бы мы жили без зла и духовных калек,
Без гнусных предательств, без войн, без измен и сражений!
Так жизнь коротка, что агрессии места в ней нет,
Нет времени вовсе на злобность, бесчестье, интриги!..
Но вновь чёрной тучей стремятся накрыть белый свет,
Вновь тщетно взывают к смирению древние книги...
Какое смиренье, коль алчностью мир обуян!
И бьётся в истерике правда, и ложь верховодит,
И даже пороки в сплошной превратились изъян –
Не больно как будто уже и не маетно вроде...
Наркотик безволья и развоплощенья наркоз –
Вот новые допинги духа и нечисти знамя.
Прощения свет превратился в помои угроз,
В погоне за тщетным упущено вечное знанье...
И, Господи, как мы теперь без высот и опор,
Где наше аминь и кому нынче петь аллилуйю?..
Пусть в поисках истины наш не кончается спор
И косность не гасит вовек прыть сердец удалую!
Иначе уйдёт человечество в мир без молитв,
Без слёз покаянья, без прошлого, с будущим в связке...
Писать бы о счастье, о том, что душа не болит –
Но нынче, к прискорбью, слагаются грустные сказки...
***
Дорог войны немало пройдено –
Враг шёл внахрап, враг бил под дых...
Глазами мёртвых смотрит Родина
В глаза смятенные живых.
Под ветками и под знамёнами,
Во тьме могил, в тиши болот
Вы навсегда непокорёнными
Остались – суд наш и оплот.
Вы, лёгкой доли не искавшие,
С себя имея главный спрос, –
Вы наша совесть, наши павшие,
На будущее шанс всерьёз.
И если б так, как вы, бесстрашно бы
Могли идти мы на грозу,
Давно б уже последний страждущий
Утёр последнюю слезу.
***
Нет, невозможна дорога обратная,
Вызов мы приняли смерти назло –
Освободили село Благодатное,
Наше, российское, братцы, село.
Новое времечко – новые бедушки,
Свежие чувства – вчерашних новей...
Зря столько зла накопили, соседушки,
Ох, захлебнётесь вы злобой своей!
Ох эта ненависть – потная, плоская,
Первопричина словесной пурги...
Русский вам враг?! Это жадность бесовская,
Зависть, невежество – ваши враги!
Но невозможна дорога обратная,
Ибо уже ничего не вернуть...
Добрый наш вестник, село Благодатное,
Наше, родимое, русское – будь!
***
Взяли Калиново, взяли Янтарное,
Освободили Дзержинск.
Время уставшее, некалендарное,
Ты не сдавайся, держись!
Ты не сдавайся – и мы не сломаемся,
Сдюжим всем рискам назло.
Мало-помалу, но мы продвигаемся,
Новое взяли село...
Взяли Зелёное, взяли Песчаное,
И Новомлынск тоже наш!
Время тревожное и окаянное,
Ты нам поблажек не дашь.
Верим в тебя, как в любовь бесконечную.
Видишь: послав лесом грусть,
Взяли Барановку, взяли Двуречную,
И в Петропавловке – Русь!
***
Поруганные иконы,
Низвергнутые святыни –
Вот плата за лжи вагоны,
За шабаш глухой гордыни.
Послушная кукла вуду,
Сама ты себе руина –
Обманутая за ссуду
Несчастная Украина,
Разыгранных кем-то партий
Фигурка невнятных линий.
Останется ли на карте
Хоть малый след украиний?
Твои кукловоды сыты,
Твои кукловоды пьяны
От крови, тобой пролитой,
Вспоившей твои бурьяны.
Прославишься помаленьку
Фашистским своим хардкором...
Запомнишься, злая ненька,
Безумием да террором.
Злорадства во мне – ни грамма,
А боли – сверх всякой меры...
Кто в ад погрузился срама,
Лишается Божьей веры,
На самом тончайшем плане –
Господней с душой беседы,
А значит – охранной длани,
А значит – венца победы.
***
Смерти нет, а это жизнь другая,
Но её, возможно, тоже нет.
Ты лежишь, и степь лежит нагая,
Опрокинув на себя рассвет...
Не дождётся койка в медсанбате,
Не помог, не спас бронежилет...
Суетится рядом жук-солдатик –
Тоже понимает: смерти нет.
Нужно сердце делать из металла,
Нужно душу делать из кости!..
А трава уже тебя признала
И меж пальцев тянется расти...
***
Летней ночью в мир сирот и вдов
Я пришла, дыханьем звёзд согрета,
И жила до первых холодов
С ощущеньем внутреннего лета.
Но мешали белые шумы,
И чадило радости кадило...
С ощущеньем внутренней зимы
Я в эпоху зрелости входила...
Но душа презрела холода,
Устояла в искусах и смуте...
Поняла я: всё не навсегда,
Кроме тленью не подвластной сути.
Господи, спасибо за листву,
За надежду вновь дожить до лета
И за то, что я теперь живу
С ощущеньем внутреннего света.
***
Жизнь такая долгая была,
Что пора бы жить её обратно,
Уходя в порталы многократно,
Где душа снегов белым-бела...
Где чисты молитвы и листы,
Где одно лишь будущее смутно,
Где душа болит ежеминутно
От любви, добра и красоты...
Через всех событий бурелом,
Сквозь ожог имён и нумераций,
Колоском топорщась, продираться,
Застревать болезненным углом.
Ходуном заходят времена,
Перемешанные с именами...
Белые шары воспоминаний
Улетучатся, как пелена...
...Где-то там, забытый до поры,
Вешний птах старательно затенькал.
Прошлого щербатые ступеньки,
Всполошённой памяти порыв...
Видеть всё, не размыкая вежд,
Дальше и пронзительнее взгляда.
Только не заглядывай, не надо
В окна заколоченных надежд...
***
Как я люблю тебя, горькая, стылая,
Невероятная синь!
Песня заветная, Родина милая,
Поле – камыш да полынь…
Родина милая… Кто это мается
В жизни, в любови, в окне?
Родина лечит. Глядишь – оклемается,
Закопошится к весне…
Платьице осени скинуто, сброшено,
Шкуркою жабьей легло,
Чтоб по весне вновь светло и непрошено
Высь поманила крыло!
Снова душа о туманы исколется,
Песнею русской полна.
Вереска цвет медоносный. Околица.
Жимолость. Нежность. Весна…
***
В зерцало детскости со взрослой ряхостью
Вглядись с смирением – и отпусти...
Когда-то тридцать мне казались дряхлостью
С высот величественных десяти.
Ах, за какими вы теперь высотками,
Безгрешно ясные мои годки,
Где к двадцати пяти считались тётками,
А к сороковнику – почти дедки?
И вот проскочены мостки да лесенки,
Пролёты, станции и этажи.
Давно уж дедушки – мои ровесники,
Мы у другой теперь стоим межи.
Ах, тени прошлого, продукт просроченный,
Пароли с явками, тень на плетень...
Как крокодилом солнца диск проглоченный,
В утробе вечности – вчерашний день.
Подрастеряли мы в дороге сверстников,
Жизнь злая партия: то – мы, то – нас...
А время выбрало других наперсников –
Иной замес у них, иной заквас.
Но от себя же никуда не деться, и
Как прежде, юности мычу напев...
Опять на мир смотрю глазами детскими,
В преклонном возрасте не повзрослев.
И пусть проскочены мостки да лесенки,
Пролёты, станции и суп с котом,
Всё так же молоды мои ровесники!
А эти, мелкие, – поймут потом.
***
Помню запах вареников в нашей квартире:
С вишней, с творогом – бабушкин славный секрет.
А вкуснее и нет ничего в этом мире.
Ничего в этом мире пронзительней нет
Заповедного дома и запахов кухни,
Светлых лучиков возле зауженных глаз...
В жизни после споткнись или пропадом рухни –
Вновь поднимут со дна, как спасали не раз.
Где б потом ни петляли пути обходные,
Держат дух на плаву, как бы ни был ретив,
Только запахи дома да стены родные,
Только русской земли заповедный мотив.
***
Вместе в сон уходить – с кошаком и мамой.
И во сне ещё думать, что я ребёнок.
Вот проснусь, и одарят вдруг кашей манной,
И запустят в волосы горсть гребёнок.
Утром – школа, уроки, вечером – гаммы,
Ночью – первые строки, сквозь жар, с наскока...
Как же в детстве моём не хватало мамы!
Ревновала к работе её жестоко...
Вот и жизнь пролетела, как телеграмма,
Вновь я в старости с мамой, как в детстве, вместе.
Еле-еле по комнате ходит мама,
От прилётов углы обережно крестит.
Нет меж нами ни счётов, ни зги обманной –
В наши будни надёжно любовь зашита...
Съешь немножко, родимая, кашки манной,
Поживи ещё рядом, моя защита...
***
Других не будет – ни друзей, ни близких,
Ни ноток счастья, ни судьбы вверх дном,
Ни этой предрассветной вокалистки
На ветке, за окном.
Вот этих облаков незрелый пудинг,
Вот этих звёзд пульсирующий стих
Люблю до спазмов. Пусть других не будет –
Я не хочу других.
***
Главный тост всех русских – «За Победу!»,
Без него ни праздников, ни тризн...
Не стреножить время-непоседу
Путами тревог и укоризн,
Ведь ему неведом ход обратный,
И летит оно – и тост летит
За великий русский подвиг ратный,
Что отбил фашистам аппетит.
Но беда опять идёт по следу,
И опять настанет судный час...
Главный тост всех русских «За Победу!»
Как набат теперь звучит для нас.
***
Пришёл – и не разгадывай, не надо,
Прими как вечной тайны торжество
Растрёпанную повесть листопада,
Дождя и снега светлое родство.
Читай, броди, пролистывай аллеи,
Всё впитывай, запоминай, любя,
Как, вспыхнув, зори жарко заалели –
И не отторгли, приняли тебя
Частицей плазмы в сеть своих артерий –
И растворили в светотенях дня...
Ты часть земли. Не стань её потерей,
Ты этим зорям и снегам родня.
Учись у них любви в своём смещенье
Основ, понятий, смыслов наконец.
У мира сущего проси прощенья,
Поскольку он – творения венец.
«Забей», что банкомат закрылся в восемь,
Что нет «бабла» на дорогой айпад...
Куда важней – когда наступит осень
И как пройдёт ближайший снегопад.
Нет ничего главней на самом деле
Весенних луж, осенних паутин...
И вечная душа в невечном теле
Слиянна с Тем, Кто вечен и един.
Объятья распахнув, продли паренье,
Хотя б мгновенье никуда не мчась...
Ты – человек. Ты – не венец творенья,
А только плазмы крохотная часть.
***
Ещё ты мал. Из тьмы мелодик
Прядёшь свой бессловесный бред.
Наморщишь лучезарный лобик –
И небо свет прольёт в ответ.
Растёшь. Свиваешь лучик слова
В парчу гармоний и свобод.
Бормочешь снова, снова, снова,
Кусая онемелый рот.
Но вот в неслыханном волненье,
Отныне и навеки впредь
Ты чуешь в сердце озаренье
И тщишься свет запечатлеть.
И всё идёшь за ним в потёмках,
Звук набарматывая зло,
С упорством лютым аистёнка,
Что встал впервые на крыло.
Ты хрипнешь в поисках ответа.
Жгуч и смертелен каждый шаг...
Но ничего нет, кроме света,
В твоём блуждании впотьмах.
И коль родился ты в сорочке,
Мотать тебе надмирный срок.
Так будет до финальной точки,
До края, до скончанья строк.
Валерия Салтанова https://vk.com/saltan66
____________________________________
181755
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 11.06.2025, 16:58 |
| |
| |
/> |