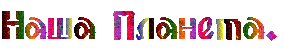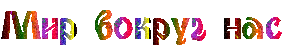|
Мир прозы,,
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 13.09.2024, 16:54 | Сообщение # 2851 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Я не верю,
что осень за дверью.
Вереницы
бессчётные птиц
Мне бросают
прощальные перья…
Только что мне
до тех верениц! –
Даже в час
одинокий и мглистый,
Отложив
в дальний ящик тоску, –
Гроздь рябины,
как солнце лучистой,
Пришиваю
на лиф к пояску!..
А порой
улетаю и выше
Этих гордых
встревоженных птиц.
Только слышу
стук яблок по крыше,
Только вижу
пыланье зарниц…
***
Цветы повесили носы,
Умчалось лето, сбросив туфли,
И травы сочные пожухли,
Отринув капельки росы.
Пронизан сыростью насквозь, –
Укутан сад багряной шалью.
И человеческой печалью
Обожжена калины гроздь.
Трещит сорока на ветру,
Зовёт надрывно сорочонка,
Чтоб, лету звонкому вдогонку, –
Взлететь с зарёю поутру…
***
Серьгой цыганскою
луна
в траву осеннюю
упала.
Всю ночь сияла, –
и пропала.
И я теперь совсем
одна.
А за окном глухая
ночь.
Ночь без луны – такая
проза…
Луна, зачем ты пала
оземь…
Смотри, беду
не напророчь.
Тебе подвластны
травы-мхи
и все мои ночные
бденья.
Прекрасны так твои
владенья,
как превосходные
стихи…
Теперь – подобьем
мотылька –
я пасть могу в траву
густую.
И, о безлунье
памятуя,
подумать –
тьма недалека…
***
Русская сестра
из Украины,
Что не отвечаешь
на звонки?
Может, просто сеешь
сентябрины,
Просто поливаешь
кабачки?
Или, может, хвори
одолели,
Будто наяву
дурные сны,
И тебе совсем
не до апреля
И не до ухабистой
весны!
Русская сестра
из Украины,
Что не отвечаешь,
не молчи…
На востоке сплошь
одни руины!
Как у вас?
Лютуют палачи?!
***
Льётся кровь
вчерашних пацанов,
Чьих-то сыновей
или отцов.
Эхом раздаётся
чей-то стон,
Хриплый, будто
карканье ворон.
Вырастут бессмертника
цветы,
Скорбные несчётные
кресты.
Тропки оборвутся
и пути…
Наша жизнь – дождиночка
в горсти.
Наша – это значит,
и моя.
Жалит, жалит сердце
мне змея.
Мне вонзает жало
до кости:
Наша жизнь – дождиночка
в горсти…
***
Видит Бог,
мы драться не хотели.
Но – не отсидеться
в стороне!
Лицемеры с чуждой
параллели
Не о мире грезят,-
о войне.
Что им православные
набаты,
Вишен белорозовых
метель.
Что им чьи-то
слёзы и утраты.
Всё давно оправдывает
цель!
Им, безумным,
трудно догадаться,
Что нам сны
покоя не дают.
Видит Бог,
не хочется нам драться.
Только как не драться, –
наших бьют!!!
***
В пустыне городской
который год
Не вижу, как пчела
свет солнца пьёт,
Как жирный чернозём
взрывает крот,
Как птица суетится,
дом свой вьёт…
Который год в пустыне
меж людей
Средь улиц равнодушных,
площадей
Хоть раз хочу –
и нет других идей –
Хочу, как жаждет
кровушки злодей –
Не злата-серебра
резных ларцов,
Не песнопений
ангельских певцов!.. –
Хочу однажды
на земле отцов
Набрать подол
душистых огурцов.
***
Ветка ясеня мокрой
перепуганной птицей
Бьётся в мокрые стёкла,
к людям в окна стучится:
«Помогите мне, люди,
ветки-руки озябли!
Ночью хуже мне будет, –
льдом становятся капли!»
Вечно заняты люди.
Ну, какое им дело,
Что молитва о чуде
ветки-руки согрела…
***
Идёт война.
Повыплаканы слёзы.
Когда душа истлела, –
не до слёз.
За окнами хозяйничает
прозимь –
как никогда, я даже с нею
врозь.
Как никогда,
вдыхая свежесть утра,
я не спешу,
не сдерживая прыть,
упасть к столу,
чтоб зло и безрассудно
в страну чудес
сбежать, утечь, уплыть…
Сгорает жизнь
в костре земных реалий,
и саднит ран невидимых
ожог…
Мои стихи – хранилища
печалей, –
по ней своеобразный
некролог.
***
Давно не снился, па, –
приснись…
Во сне хотя бы
улыбнись.
Ну, как ты там, скажи,
папуль…
Я что-то стряпаю,
пишу ль, –
всё жду и жду, что
на порог
шагнёшь однажды в мой
мирок, –
подскажешь пару
новых тем,
от бед избавишь
и проблем
рукой мозолистой своей,
которой мягче нет,
родней…
Ты ж, как никто здесь,
знал людей.
А сколько ты забил
гвоздей!..
Я так скучаю, па, –
приснись…
Так без тебя ужасна
жизнь.
***
Маме
Ты отдавала всё, что дать могла, –
и расступалась предо мною мгла.
Крестила вслед, – удачным был
экзамен,
и лёгким был билет
перед глазами.
Ты верила, – и верить я старалась,
что шаг ещё, терпения лишь малость, –
и стихнут ветры, солнце
улыбнётся,
ко мне жизнь тёплым боком
повернётся…
Теперь – и я твои ветра смиряю,
и бури все с твоими я сверяю.
Дарю своё тепло и эти
строчки.
И жизнь свою – всю –
до последней
точки.
***
Грачи. Бурьян. Паслён.
Калитка…
Кузнечики стрекочут в лопухах…
До горизонта – кто-то выткал
ковёр чудесный, –
весь в шелках и мхах…
Окраина села, что снится
который год
все ночи напролёт.
Который год в слезах ресницы
от счастья по утрам, –
который год…]
***
ПИСЬМО С ВОЙНЫ
Здравствуй, мама!
Живой я, не плачь.
Только грязный, чумазый,
как грач.
И скучаю, как маленький
прямо…
Напиши, как сыграло
«Динамо».
Пусть меня моя Анечка
ждёт.
Ты скажи ей, разлука –
пройдёт.
А тебя я прошу, не волнуйся!
Посмотри, вон, Серёжка –
вернулся!..
Мы одержим победу,
не плачь!
Сдай в химчистку, пожалуйста,
плащ.
Потеплело, хоть город –
заснежен…
Я – вернусь…
Я совсем ещё не жил.
***
Нет, не я босиком выбегала
в дождь – ночами, –
слезинки тая,
и от ужаса изнемогала
под разрывами молний –
не я.
Нет, не я –
лишь дождинка твоя.
И не я от тоски умирала
в тишине каждый раз
допоздна;
В ночь одну – на Ивана Купала –
нет, не я,
холодна и бледна –
всё бродила по саду одна.
Нет, не я,–
лишь частичка твоя.
И вчера – это тоже не я
ожила на стене
светлой тенью
и, обои на части кроя,
торопила картинки-виденья,
чтобы вспомнить…
Нет, тоже не я…
Лишь живая пылинка твоя.
***
Бинтуешь ты раны
словами-тряпицами,
а я не решаюсь
и руку отнять.
Бинтуешь ты раны, –
всё снится, всё снится мне…
А боль пустословьем, увы,
не унять…
А боль наяву.
Не приснилась, не кажется.
Её не осилить,
не преодолеть.
Мне б только в глаза твои
глянуть отважиться.
Чтоб после ни разу
и не посмотреть.
***
Плоть горит. Пылают камни.
Хризантемы – угольками.
Чёрный пепел. Звёзды меркнут.
Мир в пучину бед низвергнут…
Сотни бьющих в цель орудий.
Гибнут, гибнут, гибнут люди.
Сиротеют, гибнут дети!
Гнев и ярость на планете.
Разделён на до и после
Мир, что каждому ниспослан.
Жизнь, дарованная Свыше,
Лишь игрушка для людишек.
***
Заброшен дом, – уехали
соседи.
Они спасают сына
от войны.
Он так раним, так слаб
их сын, так бледен, –
что силы есть лишь
чалиться в айпэде…
Да и родители затем
нужны.
Всё бросили они, дитё
дороже.
Ну да, дитё – всего-то
тридцать лет.
И жизнь свою – как и его –
итожа,
творят молитву горькую:
«О, Боже,
спаси Ты нас, укрой Ты нас
от бед…»
Им невдомёк – в побеге
мало толку,
когда все беды в доме
неспроста.
Любовь такая к отпрыску-
ребёнку
претить должна родительскому
долгу:
душа сыновняя слепа,
пуста…
***
Жизнь – дорога
сквозь скалы и крошево,
через вихри
пространств и эпох.
Хоть всегда
маловато хорошего, –
этот мир, всё же,
очень неплох.
Всё же, есть в нём,
поросшем бурьянами
и сбивающем
косточки в кровь, –
аромат, красота
окаянная,
поцелуи, надежда,
любовь…
***
Так зелен, так юн этот век
заполошный, –
и столько испуга в глазах…
И крик этот жуткий,
по-детски истошный,
пал миррою на образах…
Прогоркли ветра и сирени,
и души.
Горчат земляника и мёд.
И даже вода в чашке кофе
и в душе
измаяла горечью рот.
Пройдёт это лето.
И плач журавлиный
прольётся в осеннюю тишь;
слезою невинной, тоскою
полынной
растает за шапками крыш.
Оплавятся свечи и медь
с позолотой.
Зарядят, накроют дожди.
И горечь полынною точкой
отсчёта
падёт-поселится в груди…
***
Сосед мой –
желтоликий, одинокий,
скрипучий и слепой почти,
фонарь –
взирает сверху вниз
на мир жестокий.
Ему – едино всё:
январь, февраль…
Вот только бы –
не ветер оголтелый,
не сушь и не снега…
И не дожди…
Вот только б, потерявшись
в мире целом, –
увидеть свет надежды
впереди…
***
Пустынной улицей шагают
фонари.
Им безразличны январи все,
феврали…
Не сплю и слышу безразличия
шаги
и шёпот ветра, и стенания
пурги…
Не сплю, бессонницу стараюсь
одолеть.
Две трети минуло, одна
осталась треть…
Ну, вот и утро, и кофейный
аромат.
И виноватый, и погасший –
мамин взгляд…
Я сердцем вижу
безысходности глаза,
хоть цвет любимый – не свинец,
а бирюза.
Я предпочла бы чуть и света,
и тепла…
И чтоб пурга все наши беды
замела…
***
Как идти,
чтоб не устать в дороге…
Как любить,
чтоб сердце не обжечь…
Как дышать,
когда весь мир, в итоге,
Сузился
до чьих-то тёплых плеч…
Посреди
душевного смятенья –
Пить вино
и слушать тишину?
И свои
потери-обретенья
Лишь себе
записывать в вину…
Шлейф своих
ошибок и ушибов,
Грех свой
неотмоленный нести,
Повторяя:
«Господи, спасибо»,
Умоляя:
«Господи, прости»…
Клавдия Павленко
_______________
162638
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 13.09.2024, 16:55 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 17.09.2024, 16:07 | Сообщение # 2852 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| САД
Долгожданное майское солнце играло, прикасалось и, словно стараясь вернуть украденное зимой тепло, ощутимо грело. Яблони, абрикосы и черешни, нарушив вековую фенологическую хронологию, зацвели одновременно, в одночасье. Земля укуталась бело-розовым восторгом, в котором неторопливо сновали и умиротворённо жужжали тысячи пчёл, а между деревьями плавала пьянящая нектарная дымка.
Саду было спокойно и хорошо. Как обычно он ждал человека, чтобы поделиться с ним настроением, угостить цветочным ароматом, послушать тихую речь, ощутить прикосновение заботливых рук. Вопреки выводам науки, утверждающей, что природа перед растениями не ставит задачу понимания мира, Сад, осознав себя единым организмом, уже не мыслил существования без этого седого, высокого, со строгим лицом, но с добрыми глазами Старика, ставшего за годы общения родным.
Старик посадил деревья и ухаживал за ними. Оберегая почки от весенних заморозков, он разводил костры и окуривал ветви тёплым горьковатым дымом. Он поил корни прохладной влагой в невыносимо засушливые летние дни, боролся с прожорливыми гусеницами и древесными болезнями. Но самым удивительным и приятным для Сада было общение с человеком. Конечно, слова произносил только человек, а Сад слушал, всё понимал и отвечал шелестом листьев…
На краю глубокого оврага, где заканчивался Сад, и начиналась степь, вцепившись обнажившимися корнями в землю, доживала свой век огромная груша. Когда солнце всходило над горизонтом и косые лучи его проникали в грушевые заросли, а кругом стояла тишина нарождающегося дня, к дереву приходил Старик. Он садился в кресло, сотворённое из фруктового деревянного ящика, прислонялся спиной к корявому прохладному стволу, в который, казалось, впитались годы, и, наслаждаясь вкусом утреннего воздуха, начинал разговор: « Послушай, Сад, ты не заметил, что в этом году намного меньше, чем прежде, прилетело пчёл в мае? Как думаешь, почему?»
Или:
– Синоптики обещают засушливое лето. По-твоему, дальняя делянка молодых персиков выстоит без дополнительного полива?
В такие минуты суета и томление духа, которые по недоразумению у людей принято считать жизнью, отступали на второй план, а Саду начинало казаться, что в мире нет вообще никого, кроме солнца и человека.
Старик жил уже давно. Он повидал добро и зло, предательство, боль и страх. Он знал смысл! По ложному доносу соседа в 1948 году его арестовали и поселили в лагерь, где инквизиторы пытали узников раздроблением пальцев в дверном проёме. Возможно, поэтому Старик, формируя крону или удаляя старые и больные ветви, проводил обрезку только в крайние сроки, когда уже прекращалось движение соков, а деревья впадали в зимнее оцепенение. Крупные срезы и спилы он всегда старательно смазывал специальным варом, приговаривая: «Потерпи, родное, так будет лучше, так надо. Сейчас станет небольно!»
Сад по-своему благодарил Человека, удивляя его невероятными, просто фантастическими урожаями (наверное, здесь необходимо уточнить, что сад был колхозным и занимал десятки гектаров земли). Руководство области даже присвоило старику почётное звание «Лучший садовод района» и периодически привозило различные делегации для освоения передового опыта.
Так они и жили, Сад и Человек: коротали время за разговорами, в которых сгорает прошлое, строили планы на будущее, наполняли смыслом жизнь друг друга.
Очередное лето пролетело. Оно закончилось ровно в осень. Наступили неспешные дни, несущие полуденный покой жёлтого листа и сухой травы, рождающие бродячие свинцовые облака и винно-фруктовый аромат, а ночи теперь густо сеяли в небе далёкие звёзды и бодрили Сад прохладными туманами.
– Знаешь, Сад, что-то мне нездоровится, – вымученно, после на редкость хлопотного дня признался Старик, – возможно, завтра я не приду.
Уже наступил вечер, и сквозь ветви деревьев сочились сумерки, а лунный свет старательно разрисовывал листья оттенками серебра. Старик ушёл, и Сад беззаботно задремал, не думая о том, что будет завтра.
Утром взошло солнце, в кронах деревьев его лучи разбивались на мозаику света и тени; начинался ещё один день, ещё один миг сентября, когда воздух пьянит и хочется жить.
Старик не пришёл. Не пришёл он и на следующий день, и через неделю. Тяжёлые, спелые плоды гнули и ломали ветви, но никто не подставлял под деревья спасительные рогатки-подпорки, никто не спешил снять с них груз урожая.
– Как же так? Почему? Старик знает, что я его жду, он не мог предать! Как я буду жить один? – кричал от боли и отчаяния Сад. Страх грохотал у него в мозгу, а пустота и одиночество ощущались физически…
В районную больницу Старика не довезли, он тихо скончался по дороге.
Вскоре в колхоз прислали дипломированного специалиста-садовода, который, обрабатывая деревья, делал всё по науке, но Сад всё слабел и слабел; казалось, что он добровольно отказывается жить…
Через год после смерти Старика на многие километры вместо живого Сада простиралось мёртвое тело из почерневших сухих искорёженных деревьев, над которыми равнодушно и лениво знай себе, накрапывал холодный осенний дождь.
***
ПУТЬ
(Элегия)
Ему опять снился этот сон. Один и тот же: полдень, дорога и он сам, бредущий по оставленной жителями, оцепеневшей от небытия, дремоты и забвения деревне. Дворы заросли кустарником, молодыми деревцами, бурьяном, и в них теперь чудится что-то дикое.
Нереальная реальность захватывала его сознание которую ночь подряд. Такое вот ночное дежавю!
Зачем он здесь, чего ищет, куда зовёт его проведение?
Жаркому, висящему в зените солнцу безразличен раскинувшийся внизу человеческий мир, оно безжалостно иссушило землю, отчего дорога покрылась глубокими трещинами, а обочины заполнились тяжёлой серой пылью, такой же серой высохшей травой и шаровидными мёртвыми телами вечных степных скитальцев – перекати-поле.
Неподвижный воздух стал горячим и тягучим. Редкие, медленно плывущие по небу и тающие на горизонте облака совершенно не спасают от беспощадных лучей и царящего вокруг зноя. Тем удивительнее на безмолвной, тонущей в мареве улице видеть людей. Это старики. В тени вековой акации они неподвижно сидят на скамейке, понуро опустив головы. Нет, они не беседуют, не выпивают, не «забивают козла» в домино. Люди молча, чего-то ждут и, изредка устремив вдаль взгляд слезящихся, уставших глаз, кажется, пытаются отыскать ту дорогу, по которой им скоро придётся уходить. На их морщинистых, похожих на кору акации лицах нет ни тревоги от одиночества, ни горести об утраченном, ни попытки предугадать свою судьбу в этом изменившимся, уже им не принадлежащем мире…
Он прошёл мимо и его никто не окликнул.
Разрушительная сила времени ощущается во всём: в покосившихся и местами упавших заборах, заброшенных, вросших за десятилетия в землю и оттого неестественно низеньких домиках, засохших, отказавшихся от жизни без внимания и заботы людей, фруктовых деревьях.
Нужно идти вперёд. Там, в конце улицы путника ждёт НЕЧТО, и человеку всякий раз чудится, что кто-то тихо зовёт его оттуда. Это большая непрозрачная сфера. Если подойти вплотную и приложить к её чуть вибрирующей прохладной поверхности ладони, то сфера начнёт медленно и аккуратно втягивать в себя человека. В своих предыдущих снах, погрузившись в сферу ровно наполовину, он просыпался, так и не поняв сути происходящего. Но сегодня сфера поглотила его полностью и он, испытав безграничный восторг, заплакал. Это были слёзы радости и умиления. Он ощутил единство с бесконечным в пространстве и вечным во времени сознанием, стал частью космической души, под защитой кого-то сильного и надёжного плавал в облаке доброты и любви. Все земные страхи, проблемы и желания исчезли, а в мозгу вспыхнуло:
– Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё – суета и томление духа! Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового…*
– А продолжение, его разве не будет? Значит, человек живёт зря? Все его чаяния бесплодны, а бытие конечно? – хотелось крикнуть ему, – как же велика в таком случае несправедливость вселенной! – и тут он проснулся...
Не открывая глаз, опустошённый валялся в постели (хорошо, что сегодня выходной) и силился вспомнить только что прерванный сон.
Не получалось!
Ну и ладно. Сейчас нужно встать, сварить вечное блюдо холостяков – пельмени, целую тарелку, позавтракать и отправиться к друзьям в бильярдную. Это его воскресный обязательный ритуал…
Дверь спальни с шумом распахнулась, и в комнату влетели его (его?!) сынишки-близнецы.
– Папка, вставай. Ты обещал нас сегодня покатать с горки на ватрушке! На улице мороз не сильный, а мама уже приготовила завтрак.
Действительно, в распахнутую дверь из кухни сочились головокружительные запахи кофе, ванильных пончиков и любимого мяса «Сяо» со специями.
Он с удивлением осмотрел спальню. От холостяцкой аскетичной комнаты не осталось и следа. Уютная, со вкусом подобранная обстановка говорила о том, что это семейное «гнёздышко».
– Такого не может быть! – он отчётливо помнил свою прежнюю, одинокую вчерашнюю жизнь и вдруг – семья. Откуда? Это что, новая реальность? Но вот же на прикроватной тумбочке его ноутбук, а на стуле – любимый спортивный костюм. За окном, как и вчера, вид, будто бы из рождественской открытки: тяжёлые алые гроздья рябины одетые в снежные, удивительно белые и пушистые, искрящиеся на солнце шапки, а дальше – детская горка и их «дворовое» озеро с красивой набережной. Сыновья, дурачась, волокли его из спальни, а он с волнением вертел головой, рассматривая своё (своё ли?) жилище. Коридор такой же, как раньше: вот антикварная, купленная им на «блошином» рынке ключница висит на стене у входной двери, а вот такой же, антикварный, в деревянном обрамлении (зависть всех рыболовов) барометр.
На кухонном подоконнике, как всегда, чудит его кот Пиксель. Презирая столовый кошачий этикет, левой лапой он неторопливо выгребает из своей кормушки лишь по одной горошине сухого корма и, с хрустом употребив, повторяет процедуру бесконечное число раз.
– Витенька! Доброе утро. Ну, ты сегодня спал как убитый, жалко было будить! – жена (его обожаемая женщина, теперь он точно это знал) накрывала на стол. Пробубнив что-то невнятное, он неловко её обнял и уселся на привычное место главы семьи в торце стола.
– Э-э, доктор, а правила личной гигиены? Марш умываться!
Доктор? Это она ему? Ведь ещё вчера он был водителем автомобиля «скорой помощи». А и вправду, здесь он работает врачом-реаниматологом, знает теорию и виртуозно владеет практикой оживления, но совершенно не умеет обращаться с автомобилем…
***
Дурная репутация понедельника – дня тяжёлого подтвердилась! Вызовы скорой помощи сыпались один за другим. Операторы станции поставили в первую очередь поездку их бригады на стройку. Там с возводимой высотки свалился рабочий. Нанизавшись грудной клеткой на торчащий из земли кусок арматуры и неестественно вывернув сломанную ногу, он казался огромным жуком, приколотым булавкой к коллекционной коробке энтомолога-любителя. Портрет жука дополняли блестящая оранжевая каска на голове и зелёная униформа строительной фирмы.
Когда Виктор приготовился сделать пострадавшему противошоковую инъекцию и свободной рукой взялся за его здоровую ногу – тот, вдруг пришёл в сознание, открыл глаза, легко сполз с арматуры, встал, отряхнулся, буднично заявил: «Спасибо доктор, мне уже хорошо» и пошёл на своё рабочее место!
Доктор удивлённо смотрел на неиспользованный шприц-тюбик у себя в руке, на уверенно уходящего на своих двоих «больного», на разинувших рты коллег и ничего не понимал. Ведь он не успел выполнить ни одной спасательной манипуляции, а только дотронулся до пострадавшего, и произошло чудо.
Во всех последующих вызовах происходило то же самое: физический контакт с пострадавшим и чудесное его исцеление без реанимационных мероприятий!
Медицинская общественность эту новость встретила с недоверием, но потом, по мере накопления фактов, коллеги стали сторониться Виктора и шептаться за его спиной. Кроме восхищения в их глазах часто читались страх и зависть. По городу поползли слухи о всемогущем докторе, способном одним прикосновением оживлять мёртвых, а власти даже вызывали его в известную организацию и требовали объяснений…
Казалось бы – жизнь удалась: у него есть дом, прекрасная семья, благородная сверхзадача, дар и всеобщее признание, но что-то не так. Размеренность, искренность, тишина и простота прежней жизни сменились публичностью с её официозом, бесконечными интервью, назойливыми почитателями-сектантами и заискивающими друзьями. Даже жена, робея перед его волшебством, отдалилась и стала теперь почти чужой. Чем больше Виктор творил добро, тем явственнее осознавал, что не в силах изменить сущность жизни: её скоротечность, тягостность, несовершенство, а возможно, и бессмысленность. Для осуществления смысла человеку нужна вечность, а её у него нет (по крайней мере, здесь, на Земле).
Но ведь в сфере он чувствовал смысл и видел вечность! Значит, замысел существует, а от человека требуется просто жить и быть человеком!
Зачем ему этот дар? Пусть будет всё как прежде!
Он опять брёл по умирающей деревне, только теперь – в обратном направлении, удаляясь от сферы. Он шёл домой! Всё та же пыльная, потрескавшаяся дорога, всё тот же нестерпимый полуденный зной и беспросветная безысходность. Теперь старики его окликнули. Он не прошёл мимо, а присел на скамейку.
– Что, не по душе тебе подаренная идеальная жизнь?
– Не по душе. Да и не идеальная она вовсе!
– Чего же ты хочешь?
– Разбудите меня!
– Жалеть не станешь?
– Нет, это не моё.
– Ты понял тщетность поисков счастья и смысла?
– Я понял, что сам поиск и есть счастье и смысл.
– Хорошо, мы тебя разбудим. Иди.
Так и живём мы на земле
И в благодетеле, и в зле.
Грешим на молодость, порой,
На обстоятельства и строй.
Лелеем собственное «Я»,
То обвиняя, то кляня,
Исходим в вечной суете,
Глядишь … и мы уже не те.**
Он шёл дальше. Желание уйти с этой дороги (зачем она ему?) и изменить свой уже привычный в этом сне путь становилось всё сильнее. Свернув на чуть заметную тропинку, он оказался в степи. Здесь не было так мучительно жарко как в деревне. Вольный, свежий ветер, пахнущий полынью, чабрецом и полевыми цветами приятно обдувал тело и гнал по небу облака. Там, в облаках и бездонной синеве золотой точкой порхал и заливался трелью жаворонок. Казалось, что он куда-то зовёт и показывает путнику дорогу. Виктор пошёл за ним и … проснулся.
Очень захотелось пельменей. Сейчас он встанет, позавтракает и, нарушив ритуал, не пойдёт в бильярдную. Он отправится в больничный гараж и переберёт двигатель своей «старушки». Ведь завтра его «скорая» опять помчится кому-то на помощь и машина просто не имеет права подвести людей какой-либо технической поломкой.
– Всё суета! Но, как ни крути – жизнь, всё же прекрасна!
________________________
* Эккл., 3:5 (Экклесиаст)
** Из стихотворения Вячеслава Урюпина
Вячеслав Зименко
_______________
162893
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 17.09.2024, 16:08 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 20.09.2024, 10:33 | Сообщение # 2853 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Проснись, моя Родина!
Сколько змей пригрела ты, Россия
На своей доверчивой груди
Что ни разрушитель, - то Мессия,
Что ни ретроград, - то впереди.
Что ни шут, ни бездарь, - точно - «гений»
В музыке, поэзии, везде!
Что ни горлопан, - то «лидер мнений»
В лицемерной, близкой им среде.
Что ни графоман, - поэт, писатель,
Даже если через слово мат.
Орденов и званий соискатель,
Премий и наград лауреат.
Что ни нацфашист, то «светлоликий».
Что ни паразит, - миллионер.
Что ни словоблуд, - стратег великий.
Грязный сатанист, - миссионер
Что ни аферист, - ему почтение.
Что ни фарисей, - то «правдоруб».
Иногда приходит сожаленье,
Что зарыт навечно ледоруб.
Что ни интриган - «образчик чести».
Что ни прохиндей, - то «альтруист».
Генератор ненависти, мести, -
«Миротворец», он же «пацифист».
Так приятно тешить самолюбие,
Громогласно осуждать войну.
Изливать потоки сквернолюбия,
Не гнушаясь «потреблять» страну.
Что ни крохобор, - «благотворитель».
Трус, беглец, - ну, что вы, - «релокант».
Извращенец грязный – «просветитель».
А по сути – подлый диверсант.
Русофоб, клейма поставить негде, -
На Олимп с апломбом вознесен.
И театр возглавит, и в дальнейшем
Памятником будет одарен.
Как же мы до этого дожились,
Запустив козлищ в свой огород?
Как в терпил мы кротких превратились,
Позволяя развращать народ?
Если б только деньги из кормушки
Чавкал ненасытный казнокрад -
Он сжигает ядом наши души,
Он же – «высший сорт», он – «демократ»!
Руки Бога, - это наши руки.
Мысли, совесть, мужество и честь.
Уж звучат священной битвы звуки.
С нами Правда, значит Сила есть!
Нина Русина. 20. 04.2024г.
_____________________________________
Не гневите Бога, господа...
Бог сказал :" Бойся слёз обиженного тобой человека,
ведь он будет просить меня о помощи и
Я ПОМОГУ..."
Не смешите Бога, господа,
и не стройте планы понапрасну,
зло посеяв, глупо ждать добра,
пусть сегодня многое подвластно.
Жизнь срывает маски всякий раз
с негодяев, подлецов и трусов,
истину являя напоказ
и сжигая бесполезный мусор.
В жутком вихре кружит города,
говорите - "в рай ведёте паству"?
Не гневите Бога, господа,
всё вернётся сторицей однажды.
***
(письмо тов. Сталину от бывших колхозников с.Казинка
Белгородской губернии, а ныне членов АО "Прогресс")
Дорогой товарищ Сталин,
вы давно у нас в опале,
только вот... идём ко дну,
всю разграбили страну,
растащили по частям-
ох, и худо нынче нам...
все колхозы развалили,
про патриотизм забыли,
пробует фашизм опять
свою голову поднять,
глядь, Европа взбеленилась -
на Россию ополчилась,
в Украине нынче в силе
ваш земляк, Саакашвили,
имя, правда, поменял,
говорят, Михайло стал,
всем плевать, что проходимец
сей Михайло - украинец,
никогда Одесса - мама
не видала сего срама...
подскажи, что делать нам
и до коль терпеть сей срам?
Всю собрать бы нечисть разом
да накрыть тяжёлым тазом!
Дорогой товарищ Сталин,
Мы от бардака устали,
вы, конечно, не Мессия,
но.... без вас беда России...
***
Мужчины вновь уходят на войну...
Я, словно, погружаюсь в пустоту,
тревоги звук, натянутые нервы -
Мужчины вновь уходят на войну,
как в памятно-далёком, сорок первом.
Стирают в пыль большие города,
дрожит земля, деревни полыхают
и это слово страшное , "война",
наш мир на "до" и "после" разрывает.
Нам деды подарили тишину,
на много лет - свободу и беспечность.
И строгий их наказ - беречь страну,
звучал набатом, прошивая вечность.
Но время шло, тускнели ордена,
уже за поворотом век двадцатый.
Порой, мы забывали имена,
тех, кто принёс победу в сорок пятом.
И на вопрос мальчишки:" Почему?",
Скажу :" Прости, я тоже виновата."
Мужчины вновь уходят на войну...
Мы будем ждать с Победой вас, Ребята!
***
Опять со свистом сыплются снаряды,
как в 41-ом памятном году,
враг бросил вызов и встают ребята
за отчий дом и юную весну...
Вчерашние мальчишки - не солдаты:
врачи, шахтёры и учителя...
привычный стиль меняют на бушлаты,
вникая в слово страшное " война".
На косогоре церковь полыхает,
зловеще пляшут тени на снегу,
рассвет или закат - никто не знает,
смешалось всё в кромешном том аду.
Родные люди стали вдруг врагами
и от разрывов корчится земля,
держитесь, парни, мы, как прежде, с вами:
врачи, шахтёры и учителя.
Опять со свистом сыпятся снаряды,
как в 41-ом памятном году...
***
Но было так страшно...
(моему деду Зазюленскому П.Л.,лётчику-испытателю,
дяде Посохову Л.Н.,дошедшему до Берлина,
и всем ветеранам ВОВ посвящается)
Год сорок первый, последний экзамен,
Вальс выпускной над страною летящий,
Первой любовью мальчишка изранен,
Где-то гремит, но ведь это не страшно.
Стелются травы давно под ногами,
Лето раскрасило землю кричаще,
"Соколы" в небе летают ночами,
Видно - ученья, но это не страшно.
Капли дождя барабанят по крыше,
(Или стекла это звук дребезжащий)
Словно все Боги разгневались свыше,
И тишина...но ведь это не страшно.
Враг у дверей, у родного порога,
Мальчик свиданье назначил напрасно,
Завтра им в бой и на сердце тревога,
Где-то шутили, но было так страшно...
***
Простите, дорогие Ветераны...
Теперь Вы все живёте в разных странах,
Наверное в том нет большой беды,
Простите, дорогие Ветераны,
За то, что этот мир не сберегли.
Тот самый, что в Победном сорок пятом
Вы принесли сквозь жуткий мрак и дым,
И памятью погибшего солдата
Просили уберечь от злых годин.
Не сдюжили, не знали, не сумели,
Шли не за тем, читали не о том,
Порой бывало просто не хотели
Смотреть и видеть - что там за окном.
Возможно не того боготворили -
Забыли - перед Богом все равны,
И те слова, что деды говорили:
"Худой мир лучше всяческой войны".
Мы разлетелись все по разным странам,
Несутся вдаль предательски года,
Но знайте, дорогие Ветераны,
Сомкнём ряды, коли придёт беда!
***
Мы забыли как пахнет весна...
Осень грелась в лесу у костра,
искры синь прошивали ночную,
нынче сменит собою вчера,
завтра новый рассвет нарисует.
Мы пройдём через горечь и дым,
лжи потоки, подмену понятий,
подлость мира, что стал вдруг глухим,
и... споём... непременно, приятель.
Но, пока, здесь колдуют ветра,
изо всех выползая укрытий,
и неистово рвут провода -
нашей общей истории нити...
И несёт по дорогам война
бессловесную массу людскую,
мы забыли как пахнет весна
и вкусили судьбину лихую...
***
Запоздалая нынче весна,
Раствориться бы в ней...утонуть,
Только плачет на сердце война
И опять до зари не уснуть...
Чью - то жизнь обрывает снаряд,
Пленный город забыл тишину
И обугленных зданий фасад
Догорает в чадящем дыму.
Вновь уходит в бессмертие взвод,
Белой птицей в седых облаках,
И надежда на новый восход
Умирает в потухших глазах...
По планете шагает весна,
Заневестилась вишня в саду,
Только плачет на сердце война
И опять до зари не усну.
***
Бесконечная ночь, что казалась невинной,
Тишину разрывая кричит,
Плачет бедная мать над могилою сына,
Или это Земля голосит?...
Брат на брата...лицо посерело от злости,
Только ненависть нынче в цене,
Мы когда-то разрушили верности мостик
И открыли ворота беде.
И свинцом облака в изумлении с рыком,
Небеса повлекли за собой,
И сгоревшие заживо в пламени диком
Окропились водою святой.
Бесконечная ночь, что казалась невинной,
Тишину разрывая кричит,
Это прах сыновей из далёкой Хатыни
В зачерствевшие души стучит...
***
Может - просто ошибка в эфире...
Чай, остывший, забыт на столе,
Телевизор вещает, что ныне
Обесценилась жизнь на земле.
Революции, войны, насилье -
Словно свыше прочтён приговор,
И безумствует в крохотном мире
Ненавистное слово "террор"...
Что же это, скажи, происходит?
Как попали мы в сей переплёт?
И горящею птицей уходит
В путь последний стальной самолёт...
Осень землю омоет с лихвою,
След оставив на скорбном челе,
Кто-то корочкой хлеба накроет,
Остывающий чай на столе...
Может, всё же ошибка в эфире...
***
Вновь стрельба, далеко до рассвета,
Свищет ветер в дырявой стене,
Замерла на мгновенье планета...
Бьётся жизнь где-то там, в глубине.
Пара глаз из сырого подвала
Смотрит в душу сквозь пламя огня,
"Спи, сынок,"- тихо мать напевала,
"Глянь, уже полыхает заря..."
Сгинет ночь и горячее солнце
Отзовётся на стоны Земли,
Отогреет до самого донца,
Чтобы снова каштаны цвели.
И в душе, опалённой войною,
Той истерзанной гордой страны,
По весне, в унисон с тишиною,
Запоют наконец соловьи...
***
То ли дождь за окном, то ли снег,
Снова память рисует былое...
Жил да был на Земле человек,
Впрочем, кажется их было двое.
Он - герой-фронтовик и Она,
Всегда лучшая девочка в школе,
Как-то к ней заглянула весна
Со словами "люблю" на заборе.
Понеслась жизнь по горке крутой:
Дом, работа, хозяйство большое,
Дочка, сын... с ног валилась порой,
Что поделаешь - время такое.
Умер муж, а за ним и весна,
Беспощадная старость подкралась,
Дети как-то легко из гнезда
Упорхнули... одна мать осталась.
Дни и ночи ждала - позвонят,
Может скрипнут в сенцах половицы,
Тишина, лишь с портретов глядят
Молчаливо любимые лица.
И однажды слегла, заболев,
К телефону нет силы подняться,
Вот и дочка звонит, как на грех,
Ей бы встать, подойти, попрощаться...
То ли дождь за окном, то ли снег,
Громко хлопает дверь в коридоре,
Показалось - вошёл человек,
Впрочем, кажется их было двое...
***
Небо закат примеряет,
Смотрится в водную гладь,
Тщательно цвет подбирает -
Хочет шикарней сыскать.
Пьёт с наслаждением вечер
Лета небесную синь,
Звёзды то меркнут, то светят,
Горько вздыхает полынь.
Краски заката стекают,
Небо оделось в сирень,
Уж серебро примеряет...
Вот и закончился день.
***
Мне бы в ветер вольный превратиться,
Улететь к далёким берегам.
С кораблём отважным подружиться,
Вызов бросить яростным волнам.
Ливнем бы пролиться над пустыней,
И увидеть как цветут сады
Там, где бури плакали сухие,
Оставляя на песке следы.
Снегом белым стать, укрыв вершину,
Что рассветом умываясь по-утрам,
Временами подставляет спину
Ледяным метелям и дождям.
Мне б пройти по самому по краю,
Свою жажду жизни утолить...
Слабости и трусость презирая,
Над безумным миром воспарить.
***
Я не буду хлеб ваш отнимать,
Бремя славы тоже ни к чему,
Просто сил нет больше не писать,
Что со мной случилось - не пойму...
Ирина Русина https://stihi.ru/avtor/icecherry11
___________________________________________
163015
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 20.09.2024, 10:35 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 22.09.2024, 19:01 | Сообщение # 2854 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Осторожно, двери закрыты, водитель сосредоточен,
пассажиры смотрят в окна, как убегают обочины.
С шакальей улыбкой миномётчик выпустит мину,
громко крикнет: "За Україну!"
Раньше за Украину пили, закусывали, а теперь убивают,
миномётчик улыбается миномёту, говорит: "Баю-баю…"
Спите, суки, босоногие сепары, русские пропагандоны,
а я, моторний, поїду додому.
А ви вже приїхали. Выходите, чего разлеглись-расселись,
миномётчик будет улыбаться, пока не заболит челюсть.
Миномётчику скажут дома: "Розкажи нам, Рома,
вони насправді зайва хромосома?"
Рома кивнёт, дотронется до ямочки на подбородке,
попросит борща с чесноком, чёрного хлеба, водки,
и расскажет о том, как миномёт на первом выстреле дал осечку.
Мама заплачет: "Боже мій, як небезпечно!"
___________________________________________________________
ШАХТЁРСКАЯ ДОЧЬ
ПОЭМА
* * *
Червоточьями да кровоточьями
зарубцовывается война.
Над полями, что за обочинами,
полно чёрного воронья.
По дороге, что лентой стелется,
где изрублена, видит Бог,
русокосая ясна девица,
в волосах — голубой цветок.
Её руки — не толще веточек,
её стопы — балетный свод,
она будет из добрых девочек,
из наивных святых сирот.
Её платьице — бедность мрачная,
её крестик — металл да нить.
Эта девочка столь прозрачная,
её вряд ли разговорить.
По дороге, где грязь окраины,
там, где воины начеку,
эта девочка неприкаянная
начинает собой строку.
Молчаливую, милосердную,
утопающую во тьме.
Эта девочка — достоверная,
как война, что в моём окне.
На ладонях — кресты да линии,
на глазах — пелена дождя...
эту девочку звать Мариею.
И она на две трети я.
* * *
У Марии был дом — занавески и витражи,
был отец, который ей говорил: “Ложи!”
Был берёзовый шкаф, и была кровать,
вот такое счастье: ковать — не перековать.
А теперь у Марии что? На окошке — скотч,
за окошком — ночь, и в окошке — ночь,
где бесшумные призраки — конвоиры снов —
не находят для этой девочки даже слов.
Всё сплошное лязганье, грохот, треск,
у Марии есть мать, у матери есть компресс,
а ещё икона, на которой позолоченный Николай
обещает Марии тихий небесный рай.
* * *
Тишина проникает в ухо,
и ты думаешь, что оглох,
вот Мария на старой кухне
сигаретный глотает смог.
Надо лечь, пока держат стены,
пока крыша ещё цела.
У Марии дрожат колени,
над Марией молчит луна
коногонкою в небе буром —
немигающий глаз отца.
Только глаз один, ни фигуры,
ни одежды, ни черт лица.
Этот глаз на реке — на реке дорожка,
на стекле — серебристый блик.
Скоро-скоро опять бомбёжка
И глазной неуёмный тик.
* * *
Кто-то скажет: “Он был неплохим отцом...”
Сочинял ежедневно завтрак и в ванной пел,
он ходил по субботам гулять со своим птенцом.
Говорил с Марией так ласково, как умел.
Его обувь была чиста даже в самый дождь,
его руки были огромны и горячи,
и Мария шагала рядом — шахтёрская дочь,
хотя в их роду остальные — все сплошь врачи.
Это было счастье — детское, на разрыв,
настоящее счастье, которому края нет.
Он всегда был первым и никогда вторым.
Они ели яблоки — золотой ранет,
они пили какао, ходили в театр и зоопарк,
он показывал ей созвездие Близнецов.
Он любил смешить её — внезапно и просто так,
а однажды из проволоки подарил кольцо.
* * *
А потом приходила война, забирала в строй
самых смелых и самых правильных из людей.
Он забыл своё имя, но запомнил свой позывной,
он видел скелеты обуглившихся церквей.
Он стал снова чёрен лицом, но душою бел,
научился молиться, словно в последний раз,
он свои ледяные руки дыханием грел
и всё ждал, когда отдадут приказ.
* * *
У Марии есть тайна —
пачка девичьих писем.
Она пишет о главном —
девочка-летописец.
Она пишет на русском,
а иногда на птичьем.
Она пишет о грустном:
“Мы все теперь стали дичью...”
Она пишет отцу на рассвете
и поздно ночью.
Она пишет, как пишут дети:
неровным почерком,
словно письма из летнего лагеря
или с морей известия.
Она пишет, как пишут маленькие,
потерявшие равновесие.
Она пишет, как пишут взрослые
из подвала под артобстрелом.
Она пишет, и свет полоскою
оставляет в письме пробелы.
Она пишет, и ей не пишется,
ей скулится, ей страшно, тошно.
Вот деревья — сплошные виселицы,
вот свеча, что горит всенощно.
* * *
Дорогой отец,
не дари колец,
не дари цветов,
берегись полков,
воротись домой
под большой луной,
станем жить-тужить,
до чужих женитьб,
до чужой любви,
не считая дни.
Воротись, отец,
воротись, боец,
станем сказки плесть,
вот добро, вот честь,
станем пить огонь,
вот моя ладонь,
вот наш старый дом,
словно в горле ком.
Вот наш спелый сад,
вот ползучий гад,
райских яблок сок.
Этот сад — есть Бог.
Этот сад — есть мы.
Или наши сны.
Или наши сны...
* * *
Обрывается всё: провода, разговоры и струны.
Обрываются жизни, которым не видел конца,
месяц май неожиданно станет военным июнем,
в это жаркое лето прольётся так много свинца.
Загорелые травы донецких степей, терриконы,
обелиски невозвращенцам из дальних дорог.
Этот мир всё ещё подчиняется Божьим законам,
этот мир состоит из патронов и пары сапог.
Николай говорил, что победа, добытая смертью, —
это просто победа над страхом, победа побед.
Николай уходил в распростёртые древние степи,
где посеяна смерть, словно маковый цвет.
* * *
Здесь густая трава и беспечные песни сверчков,
здесь разверзшийся ад среди райского лета.
И плывут облака по чернильному небу зрачков,
и в кармане сломалась последняя сигарета.
На войне не бывает ничьих, только свой и чужой.
По чужому стрелять, своего прикрывать, что есть силы,
повторять: “Слава Богу! Живой! Слава Богу! Живой!” —
И звонить дочерям с почти севшей мобилы.
И любить сыновей, тех, что рядом — в окопе, в пыли —
делят тяготы дней, делят хлеб и говяжью тушёнку.
Эти воины — дети кротами изрытой земли,
вместо нимба Господь отдал им коногонку.
Вместо сердца Господь даровал антрацит,
вместо вдоха степного — горючесть метана.
Здесь густая трава, что так ярко, чадяще горит,
словно вечная слава победы на груди ветерана.
* * *
Что нас ждёт впереди? Победа.
Ясный сокол мой Николай,
мы вкусим и вина, и хлеба,
на двоих мы разделим рай.
А пока ты лежишь в окопе,
пока где-то кипят котлы,
я молюсь обо всех двухсотых
с наступлением темноты.
Вижу сполохи, рвётся небо,
на дыбы горизонт встаёт.
Смерть идёт по чьему-то следу,
дай-то Бог, чтобы шла в обход.
* * *
Это был страшный август четырнадцатого года, два народа шли в лобовую. Николай с лицом чёрным, как добываемая им порода, прикрывал собою горящую передовую. На его руках умирали и воскресали, на его глазах открывались ходы в преисподнюю. Город детства его, город угля и стали, превращали в пустошь, в пустыню неплодородную. Сеяли смерть, как раньше сеяли хлеб, сеяли ужас, боль и жуткое “зуб за зуб”, а зелёные пацаны, утверждавшие, что смерти нет, рыдали от страха, увидев свой первый труп. А увидев второй, начинали, кажется, привыкать, говорили: “Война — не место для бабьих слёз!” И у каждого в городе оставалась мать, в городе миллиона прекрасных роз.
* * *
Ходит дом ходуном без конца,
дочь Мария чертами в отца,
мать сидит за столом, жжёт свечу.
— Мам, поспи!
— Не хочу, не хочу!
За чертой, за порогом, в ночи,
там, где струны грызут скрипачи,
где кровавая речка течёт
и открыт уже гамбургский счёт,
тихо красная всходит луна,
как вдова, в чёрном небе одна.
И Мария, шахтёрская дщерь,
словно маленький загнанный зверь,
всё стоит и стоит у окна,
а в окне — пустота, краснота.
И надломлены руки её,
и не снять уже ими бельё.
И предчувствие скорой беды,
словно запах гниющей воды.
* * *
Мы — подвальные, мы — опальные,
кандалы наши тяжелы.
Мы — идея национальная,
мы — форпост затяжной войны.
Чёрной совести боль фантомная,
боль, что мучает по ночам,
эта домна внутри огромная —
наша ненависть к палачам.
Мы священные, мы убогие,
мы у Боженьки в рукаве.
И глаза Его слишком строгие.
И следы Его — на траве.
Утром встанем, пересчитаемся,
похоронимся, поревём.
Эх, война-война — девка та ещё!
Частоколы да бурелом,
заминированы окраины,
человеческий страшный суд.
Авель помнит — повсюду Каины,
только высунешься — убьют.
* * *
Приносили его на щите,
и Мария губами к щеке
припадала, и плакала мать:
“Положите его на кровать!”
Он был хладен, безмолвен и сер,
и был день — беспросветный четверг.
Ну, а дальше — на пятницу ночь,
и Мария, шахтёрская дочь,
занавешенных мимо зеркал
проходила в траурный зал
и глядела на лоб мертвеца,
на холодные губы отца,
на его восковеющий лик,
на немой неподвижный кадык,
на пурпурный распахнутый гроб,
словно двери в кровавый окоп,
где он денно и нощно сидел,
где живой он вчера помертвел,
где последнее небо его выедало
из глаз вороньё.
* * *
Воронки, вороньё, война...
Мария — дочь степи донецкой,
несчастный ангел бытия,
лишённый ангельского детства.
О, безотцовщины клеймо!
О, сиротливое удушье!
Война, воронки, вороньё.
Смертельно раненые души
Прощайте, храбрые сыны,
прощайте, дочери, до встречи.
И лица ваши — лик войны,
и в камне вас увековечат.
Мария, девочка моя, коса —
пшеница, руки — плети.
Воронки, вороньё, война.
А мы — войны святые дети,
а мы войны священный крест
несём и, в общем-то, не ропщем,
и в ополченье из невест
уходим через эту площадь.
* * *
Лицом сурова, черна глазами,
стоит Мария под образами,
в руке — просвира, и — голос сверху:
“Оставь печали при входе в церковь!”
Крестись истошно, молись о мёртвых,
целебен воздух церковно спёртый.
Не плачь, Мария, молись, Мария,
молитва — та же анестезия.
И голос певчий, прекрасный, звонкий,
и эти свечи, что коногонки,
и путь в тумане, в пыли забоя,
подобен смерти на поле боя,
подобен жизни в твоём Донецке.
Держись, Мария, за бортик детства,
за бортик угольного бассейна
и за винтовку, что из трофейных.
Смотри сквозь оптику в эти звёзды
с земли, изъеденной чёрной оспой,
с земли, где поле пропахло тленом,
где все вдруг стали военнопленными.
Где мать — вдовица, а дочь — сиротка,
где брат вгрызается брату в глотку.
* * *
С нами Бог, с нами солнце и с нами дождь,
зарядивший снайперскую винтовку.
Это поле — рожь, а за рощей — ложь,
а за ложью — ружья наизготовку.
Это поле — ржавчина старых битв.
Что посеет ветер степей разъятых?
Террикон лежит, словно мёртвый кит,
облака плывут, облака из ваты.
Золочёный гулкий степной закат,
уплывает солнце за край планеты.
Кто во всём случившемся виноват?
Кто спасёт распятую землю эту?
* * *
Горсть земли — трижды. Я стану грызть эту землю — эту рыжую глину, эту свинцовую гирю, эту чёрную плоскость. До самого горизонта. Я — Мария, мне двадцать два от роду, я принадлежу городу, плывущему в облаках. У меня есть винтовка — СВ Драгунова, — зоркость, немного костей под кожей. Я убью всякого, кто посмеет подойти ближе, чем эти низкорослые горы. Я — Мария, и всё, что у меня есть, — это горе. Горе!
* * *
Поле Дикое, цель опознана,
от винтовки саднит плечо.
Помолитесь, религиозные,
будет страшно и горячо.
Снайпер знает, что надо с первого,
долго целится, не спеша.
В степь Мария врастает нервами,
в них одна на двоих душа.
Точным выстрелом — пулей глупою.
Смерть Марии теперь, как мать.
Поле выстлано будет трупами,
ночью станут их собирать.
У Марии в блокноте крестики —
безымянные пацаны.
И они почти все — ровесники
развязавшей войну страны.
* * *
Имя горькое твоё — Мария,
имя твоё убийственное.
Как твоя мать, Мария,
пишет ли тебе письма?
“Как тебе там воюется,
доченька моя светлая?
А у нас на улице
бабье нелёгкое лето.
Яблоки собрать некому
райские — падают сами.
Соль под моими веками,
видимо, что-то с глазами.
Горько на сердце бабьем,
воротись, доченька, с фронта.
Облака плывут, как кораблики,
до самого горизонта.
Пальцы мои бесколечные
крестят небо над городом.
А за кровавой речкою —
вороны, вороны...”
* * *
Господи Иисусе, как же страшно:
стало минное поле, была пашня.
Небо черно от дыма, глаза режет.
Господи, мы одержимы, мы — нежить.
Господи, я — отшельник, стрелок, пешка.
Господи, присмотри за мной, установи слежку,
приставь ангела, чтобы рука не дрогнула,
накорми манною дурочку сумасбродную,
дай хоть глоточек чистой воды из колодца.
Путь мой тернистый, путь, что не продаётся.
Лежу, а в глазах осень, коростой изъеденная.
Господи, вплети в косы мне святое неведение,
забери память, забери имя, дай новое.
Степь моя обетованная, время — средневековое,
время моё матерное, кровожадное, страшное.
Стало поле минное, а было пашенное...
* * *
Приходила зима — снежная, белая, —
и дерева стояли сказочные, звенящие.
Умирали воины — юные, смелые —
умирали стоя, умирали по-настоящему.
Эх, донецкие ветры — вольница, житница,
а теперь безлюдье — лишь псы да вороны.
И моя Мария — степей защитница,
а вокруг зима на четыре стороны.
И в блокноте крестики в столбик синие,
на погостах новых крестов тьма-тьмущая.
И моя Мария — ресницы в инее,
и тоска на сердце, тоска гнетущая.
По отцу тоска, кровью не смываема,
и слезами тоже она не смоется.
И моя Мария — доченька Николаева —
полушёпотом молится Богородице.
* * *
Не зная ни имени, ни возраста,
видит главное по нашивкам — враг.
Воин с рыжей кудрявой порослью
на суровых мужских щеках.
Руки — ломти, краюхи белого,
как поджар он и как высок,
жалко даже в такого смелого,
жалко целить в его висок.
Зубы сахарные, жемчужные,
фальши нет ни в одном из них.
Кто принудил тебя к оружию,
кто послал убивать своих?
* * *
Он стоит на коленях, крестится,
молод, весел, рыжебород.
Между нами — окно и лестница,
на окне — деревянный кот.
Чей-то кот, позабытый в спешке,
статуэтка, ненужный груз.
Кот-мурлыка ершит в усмешке
свой единственный правый ус.
Тень в углу залегла густая.
Как же зыбок январский свет...
В небе зимнем, что запятая,
чёрный ворон — в броню одет.
Воин тоже в бронежилете,
но висок так опасно наг.
Хрипло воет январский ветер,
назначая, кто друг, кто враг.
* * *
Церковь белая на пригорке,
снег похож на лебяжий пух.
Глаз Марии предельно зоркий,
музыкален девичий слух.
За спиною — полсотни жизней,
на груди — православный крест.
Снег молочный безукоризнен,
снег из рая для адских мест.
И так хочется в детство снова —
в утро первого января,
старый год обернётся новым,
свечка — каплями янтаря.
На льняную скатёрку жизни
истечёт прозорливый воск.
И на кухне, как тюль, повиснет
дым от папиных папирос.
Но откроешь глаза и в небо
бросишь взгляд — небосвод свинцов.
Что нас ждёт впереди? Победа!
И отмщенье за всех отцов.
* * *
Родить бы сына,
назвать Николашей.
Родить невинного,
кормить манной кашей.
Родить красивого,
глазами в деда.
Пусть вырастет сильным,
балованным сердцеедом.
Родить бы дочку,
тонкую, как берёзка,
беленькие носочки,
платье в полоску.
Волос тугой, русый,
не сплесть в косоньку,
плечики узкие,
пяточки абрикосовые.
* * *
Никого не родишь. Только чёрный камыш да слепая луна над рекой... Не пройдёт человек, даже серая мышь здесь боится бежать по прямой. Степь — лоскутный пейзаж и горячий рубеж, пограничье двух разных миров. Я люблю этот кряж, его дикий мятеж в кружевах кучевых облаков. И винтовка в руках, и “ни шагу назад”, здесь — забытая Богом земля. И бесплодны поля, где под небом лежат нерождённые сыновья.
* * *
Здравствуй, мама! В моём блокноте
не осталось живого места, на сердце пусто.
Как вы там живёте, как вы все живёте,
когда здесь в степи алой речки русло?
Разливанны воды, небеса развёрсты,
километры гиблого безвоздушья,
а луна — сухарик окопный, чёрствый,
да и тот был кем-то другим надкушен.
Я убила столько, что думать страшно,
мой последний был молодым и рыжим.
Он бы мог стать братом мне бесшабашным,
он бы мог стать другом и даже ближе.
Я убила столько, что мне приснилось,
как отец спустился с небес к ставочку
белолицым ангелом — Божья милость! —
и сказал мне: “Машенька, хватит, дочка!”
Я убила столько, ты не поверишь.
Помнишь нашу яблоньку во саду ли?
Я убила столько, что стала зверем,
на которого жалко потратить пулю.
* * *
Птицы возвращаются на восток,
вместо речки тянется кровосток,
но весна звенит, и готов росток
пробиваться к звёздам.
Как полны и влажны её уста,
а она, дурёха, спешит в места,
где боец, считающий “до двухста”,
и прогорклый воздух.
Ощущенье пьяной шальной весны.
Мы устали видеть дурные сны,
мы устали жечь во дворах костры
и бояться ночи.
Скоро-скоро речка вскипит водой,
и в неё бы утром войти нагой,
вспоминая рыжего с бородой,
но февраль обочин,
где деревья всё ещё мертвецы,
где не будут вылуплены птенцы,
где стихи читают до хрипотцы,
до истёртых связок,
где рука Марии в моей руке,
где вся жизнь, повисшая на курке,
и слеза солёная в уголке
маминого глаза.
* * *
А с неба не снег, а серые лепестки пепла.
Мария лежит, и горы над ней огромны,
но Мария не видит горы — она ослепла,
врастая хребтом в донецкие чернозёмы.
Она захлебнулась огнём, прикрывалась дымом,
ползла, а после бежала к густой зелёнке,
держала винтовку крепко, так держат сына,
младенца, завёрнутого в пелёнки.
Ей было почти не больно, почти не страшно,
её прикрывали громкие пулемёты,
на палец левее в одном километре — башня,
а справа стоят огнедышащие расчёты.
— Ребята, прикройте, я отхожу, ребята! —
Мария кричала и падала навзничь в почву,
и кровь её растекалась, как сок граната.
Мария, моя Мария, шахтёрская дочка.
* * *
Спи, моя дорогая, спи,
девочка-одиночка.
Спит посреди степи
шахтёрская дочка.
Травы над ней шумят —
дикие, колдовские,
а в небесах кружат
чёрные часовые.
Мы стережём твой сон,
дочь Николая.
Солнце за террикон
к вечеру уплывает,
стелется сизый дым,
воды несёт речка,
страшно ходить живым
по этим святым местечкам.
Спи, моя дорогая, спи
в теле большой планеты.
Пусть твои мёртвые сны
будут о вечном лете.
Старый седой ковыль
пусть тебя колыбелит.
Кто-то зажжёт фитиль,
споёт тебе колыбельную.
Спи, моя милая, спи...
Ещё одна тёмная ночка.
Спит посреди степи
шахтёрская дочка.
* * *
На самой вершине дальнего рыжего террикона,
где колокольный звон — музыка из привычных,
они встретятся — отец и дочь, — натянут сетку для бадминтона,
а у подножия плещется море — поле пшеничное.
И у них не будет другого занятия, кроме счастья,
и только Донецк с его улицами, проспектами и мостами
навсегда останется с ними, будет их лучшей частью,
навсегда останется с нами — погостами, розами и крестами.
Это память, с которой не стоит бороться, она нетленна.
Я помню звук, с которым стреляют “Грады”, ложатся мины.
Но Донецк — это не просто город, это вселенная,
Донецк — это шахтёрские девочки и песня их лебединая.
___________________________________________________
АВДЕЕВЫ КОНЮШНИ
Он вздохнул, улыбнулся одними глазами,
весь зелёный-зелёный, только чёрная балаклава.
«Это Авдеевы конюшни», – сказал и замер,
чтобы я оценила шутку. Человек особого сплава.
Кем ты был в той жизни, ну довоенной,
до того, как превратился в Геракла?
Если честно, уже не помню, немного был бизнесменом,
торговал в сезон на Крытом раками.
А потом оно как-то само – аэропорт, Пéски.
У меня же там дача. Была. Два этажа и беседка.
А потом оно как-то само – словно бы изменилась резкость –
полтора года снайпером, сейчас в разведке.
– Ну и что, мы возьмём её, эту Авдеевку, «Авдеевы конюшни»?
– Сомневаешься? Поэтесса! Возьмём. Посмотришь...
И ушёл куда-то, насвистывая «Катюшу».
Мы не виделись больше.
***
………………..
я всего лишь девочка из Донецка,
я степные вирши над дикопольем,
я молчу и кутаюсь в шарф, как в средство
от всякой боли.
И во мне растёт то, что станет речью.
Так порой восходит звезда, мигая
в чёрном небе, - красная, пятиконечная.
И живая.
Анна Ревякина
____________
163200
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 22.09.2024, 19:13 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 24.09.2024, 13:20 | Сообщение # 2855 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Грусть моя, тоска моя
(Вариации на цыганские темы)
Шёл я, брёл я, наступал то с пятки, то с носка.
Чувствую — дышу и хорошею!..
Вдруг тоска змеиная, зелёная тоска,
Изловчась, мне прыгнула на шею.
Я её и знать не знал, меняя города,
А она мне шепчет: «Как ждала я!..»
Как теперь? Куда теперь? Зачем, да и когда
Сам связался с нею, не желая?
Одному идти — куда ни шло, ещё могу, —
Сам себе судья, хозяин-барин:
Впрягся сам я вместо коренного под дугу,
С виду прост, а изнутри — коварен.
Я не клевещу! Подобно вредному клещу,
Впился сам в себя, трясу за плечи.
Сам себя бичую я и сам себя хлещу,
Так что — никаких противоречий.
Одари, судьба, или за деньги отоварь, —
Буду дань платить тебе до гроба!
Грусть моя, тоска моя, чахоточная тварь, —
До чего ж живучая хвороба!
Поутру не пикнет — как бичами ни бичуй,
Ночью — бац! — со мной на боковую:
С кем-нибудь другим хотя бы ночь переночуй!
Гадом буду, я не приревную!
<1980, до 1 июня>
Печатается по единственной известной авторской фонограмме. Песня прозвучала 14 июля 1980 года. Начало в 17 часов. Москва/ ул. Адмирала Макарова, 10/, Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского (МНИИЭМ) /4 этаж, конференц-зал/
Запись из зала.
Рукопись широкой публике не известна. Но в последнем из изданных собраний сочинений говорится о черновике и даже приводятся строки из него:
«Вероятно, для исполнения в узком кругу предназначался полный вариант:
После 3 строфы:
То споткнёшься где-то, то прикинешься больным,
То вдруг ожил, да не там, где ждали…
Да и всё коварство не друзьям, а остальным,
Чтоб не в кабалу, когда в опале!
Вариант 5 строфы:
Одари, судьба, или за деньги отоварь!
Наугад бреду, ломая сучья…
Грусть моя, тоска моя, чахоточная тварь!
Вымя сучье и порода сучья!»
***
О ЛЮБИТЕЛЯХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В последнее время в некоторой среде населения наблюдается повышенный интерес к "Библиотеке военных приключений". Спросишь кого-нибудь из этой некоторой среды: "А вы читали "Приключения Робинзона Круэо"? А он вам не моргнув глазом: "Нет, но зато я читал "Приключения Нила Кручинина".
- Почему "зато"? - ведь вы же не знаете Дефо!
- Ну и что? - удивится вашей горячности читатель из среды,- Не могу же я прочитать сразу всю "Библиотеку военных приключений". Дочитаюсь и до Дефо! Подождет!
- Дефо, конечно, подождет. Но...- И, разведя руками и посоветовав скорее до него дочитаться, уходишь, ничего не добившись.
Или еще. Веселая группа ребятишек с горящими глазами проходит мимо:
- А ты помнишь, он ему ка-а-ак врезал, а тот стоит, он ему еще ка-а-ак [дал, дал, а тот опять] стоит. Он тогда пистолет выхватывает - р-раз...
- Ну это еще что,- возражает второй, с видом превосходства глядя на товарища: - Ты "Погоню за призраком" читал? Так там он ему ка-а-ак дал, еще и с вагонетки сбросил, а [не] то что у тебя!..
- С вагонетки - это да,- соглашается первый.
- Дал, дал, а тот ему тоже. Потом этот выстрелил, а тот в окно. Тут как раз наши подошли. Понял!
- Так у меня тоже наши,- возражает первый,- только у тебя сразу подошли, а у меня потом! Ты куда это, Коль, вот школа.
- Я сегодня прогуливаю,- интеллигентно сообщает Коля.
- Пойду смотреть "Дело "пестрых". Брат видел - говорит, классное кино. Там наш этому ка-а-ак дал!
Если свидетелем этой сцены будет читатель из среды (будем называть его "любитель приключений" - он [их] так любит читать), он покачает головой, для вида скажет "ай-ай-ай" - и... пойдет вслед за Колей брать билет на "Дело "пестрых", подумав при этом: "Надо не забыть взять "В погоне за призраком". Наверное, хорошо! Вот и ребята говорили: "Он ему ка-а-ак дал!". Наверное, здорово".
И вечером дома, закрыв очередное "Приключение капитана милиции", где на последней странице и как раз вовремя подошли наши, читатель вытирает на лбу испарину и принимается за "В погоне за призраком", где "этот" прыгает в окно и тоже подходят непременные "наши". "А действительно здорово - ребята были правы,- думает он.- Когда они только успевают все читать?"
На следующий день "Призрака" сменяет "Майор милиции" и т.д. Читает он самозабвенно и не может оторваться иногда месяцами. Его состояние очень похоже на запой у алкоголиков, только вместо зеленых чертей ему мерещатся небритые преступники с ножом и пистолетом, а вместо рокового "Шумел камыш" на языке вертится один вопрос: "Что же наши медлят?". Да, он вдохновляется - ему кажется, что это не майор, а он спасает бедную девушку, что он находит главную нить и она представляется ему совсем осязаемой нитью, какими жена часто штопает ему носки, он идет по этой нити, по пути находит все нити, целую катушку, целую сеть нитей, но здесь в него стреляют и он куда-то роняет главную, самую толстую нить, потом он ее все-таки находит, а за ней и преступника, которого готов прижать к сердцу за то, что он все-таки попался. Потом допрос, где он блистает благородством и суровой справедливостью. И здесь, с волнением закрыв книгу, с еще бьющимся сердцем, он долго не может заснуть, потому что у него болит плечо, в которое попала пуля. Обычно всегда преступник стреляет в плечо. У него, видимо, есть своего рода спортивный интерес, и ему, вероятно, приятно, что его преследу[ю]т, и поэтому он очень редко стреляет в ноги и уж совсем не стреляет в грудь. Это не дай бог.
И вот однажды, возвращаясь домой после удачного преферанса, наш любитель приключений слышит какую-то странную возню во дворе своего дома. С любопытством или скорее любознательностью он заглядывает. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Двое невысоких парней пытались снять с девушки пальто, а она храбро защищалась и звала на помощь.
"Ну вот теперь-то,- думаете вы,- читатель из среды себя проявит: сейчас он схватит главную нить, размотает клубок и..."
Не надо думать! Нет, думать надо! Не надо просто делать слишком поспешных выводов: ничего подобного не происходит - ни главной, ни даже побочной нити любитель не находит. Ему как будто кто-то связал ноги или превратил [его] в камень, он стоит с открытым ртом, с глазами навыкате, на лице его беспомощность и растерянность, как будто он увидел бывшую жену, которой нерегулярно платит алименты.
Из двора несется: "Помогите!?". Силы девушки, видимо, иссякают. А он все стоит.
"Не может быть!" - скажете вы. Да, так и есть: стоит долго, как камень, на котором пишут, что здесь когда-нибудь будет памятник!
Может быть, он вспоминает, что сделал бы в этом случае майор, или капитан, или бригадмилец из "Дела "пестрых", а может быть, он просто ждет, когда придут наши в лице участкового, дворника или просто прохожих. Но он стоит!
И только когда раздается свисток милиционера и когда мимо него проходят два парня и испуганная бледная девушка в сопровождении участкового и какого-нибудь парня в телогрейке, только тогда к нему возвращается способность действовать, но действует он тоже довольно странно. Он не идет следом за милиционером, чтобы дать хотя бы свидетельские показания, а оглядываясь, очень быстро направляется домой, а в голове почему-то все время вертятся слова: "Он ему ка-а-ак дал!"
Придя домой, любитель приключений рассказывает жене, что шестеро раздевали девушку, он хотел помочь, но не успел - приехала милицейская машина и всех забрали.
- Сиди уже,- буркнула жена,- читай лучше свои книжки, а голову нечего подставлять. Вон у нас случай был - в трамвае старушка увидела, как в карман лезут, и сказала. А он ей "Ты видела? Видела! Больше не увидишь",- р-раз по глазам бритвой. А ты - "помочь"! Не ввязывайся лучше!
- Ну, это ерунда,- храбро возражает любитель и про себя думает "Действительно, зачем голову подставлять!" И почитав на сон грядущий "Черную моль" и вспомнив о выигрыше в преферанс, о котором он случайно или специально не сказал жене, он засыпает.
И живет такой любитель приключений тихо, не ввязываясь. Ходит он по улицам, всегда по освещенным и поближе к милиционеру, играет, но не допоздна в преферанс и читает на сон грядущий что-нибудь из "Библиотеки военных приключений" - он ведь большой любитель приключений. И не дочитается он до Даниэля Дефо, да эти книги ему незачем читать.
Нет, уважаемый читатель из среды, не всегда нити преступлений наматываются на катушки, а клубок их похож на шерстяной. Бывают в жизни милиции и разведчиков очень суровые будни, и не всегда стреля[ю]т в плечо и вовремя приходят наши. Не всегда, хотя об этом иногда и пишут.
И если удачно заканчиваются многие дела и раскрываются преступления, то посмотри, кто помогает этому. Вчитайся повнимательнее. Такие же люди, как ты!
Хотя нет, не такие!
[конец 50-х]
***
«Человек должен мыслить…»
Человек должен мыслить. Между прочим, это и отличает его от животного. Еще человека отличает то, что он изъясняется при помощи языка, носит одежду и посещает футбольные состязания. Если он всего этого не делает, тогда он лишь наполовину человек. Нет, на одну восьмую. А на остальные семь восьмых он – только человекообразен.
Итак! Человек должен мыслить. Хотя бы иногда. Что было бы, если бы мысль не посещала его! Вернее, чего бы не было! «Тихого Дона», «Войны и мира», спутников, атомного ледохода и, наконец, – к чему скромность! – не было бы этих вдохновенных строк, которые вы читаете.
<конец 50-х>
Владимир Высоцкий (25 января 1938 г. - 25 июля 1980 г.) https://vk.com/pages?h....D%D0%AE
______________________________________________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 27.09.2024, 18:53 | Сообщение # 2856 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Говори, я слушаю. Как-то привык
Слышать голос твой, словно он наяву
Звучит. Поздний вечер. Сожгу черновик.
Все, что было, заново я проживу.
Говори, я слушаю, Родина – нам
Понимать бы друг друга. И не впервой
РасплачУсь по всем неоплатным долгам
И расплАчусь, что жив еще – что живой.
Что могу я еще слышать голос твой,
Что могу я еще говорить с тобой.
* * *
И коснется небесная влага чела,
И подумаешь, в небо вникая,
Что летит через поле шальная пчела,
Или, может быть, пуля шальная.
Будет дождь. Прижимается память к земле,
Птицы, словно обиды, уснули.
Только дождь не мешает упрямой пчеле,
А тем более маленькой пуле.
До каких я не смог прикоснуться высот
До сих пор в середине июля?
И подумаешь, целится прямо в висок,
Хорошо бы пчела, а не пуля.
* * *
Я не стал олигархом, не стал святым.
Ни звездой экрана. Похвастаться нечем.
Так что ты оставайся навек с другим.
И на небе не выйдет с тобою встречи.
Для чего встречаться? Болтать просто так.
Улыбаться, что как-то меняться поздно,
Что могло всё сложиться, что я дурак,
Что совсем не святой. И к тому же, возраст.
* * *
Очки поищи у себя на лбу,
Ведро поищи в колодце,
А в сердце своем находи судьбу,
Если она там найдется,
Если она не банальный сюжет,
Не просто знак зодиака.
Но если судьбы в твоем сердце нет,
Видать, не судьба, однако.
* * *
И немного вина. И немного вины.
Отчего вздрогнет память с осенней листвой?
Все ушли за свободой любви и войны –
Лишь один я остался живой.
И немного дождей. И немного вещей.
Почему бы тогда не рискнуть головой?
И осенняя память ревнует сильней –
Лишь один я остался живой.
И немного идей. И немного хлопот.
И куда я иду как во сне – сам не свой?
Не вернется никто. И никто не придет.
Лишь один я остался живой.
* * *
То саранча, то инопланетяне –
И вечно смотрят, как на обезьян,
Интересуясь, что у нас в кармане –
Какой позор и ядерный туман?
И говорят: - Карман держите шире,
Иначе непонятно, в чем секрет,
Как с саранчою не живете в мире,
С космическим содружеством планет.
И если не сумеете без драки,
А также без руля и без ветрил,
Вас назовут в созвездии Макаки
Весьма опасным сборищем горилл.
Такая проза. Ни любви, ни выгод.
На небе то же, что и на земле.
Народ молчит, в кармане крутит фигу,
Чтоб как-то выжить в межпланетной мгле,
Чтоб строить дом, на праздник выпить стопку,
Сходить в кино или сходить к врачу.
А мог нажать на ядерную кнопку,
Но пожалел привычно саранчу.
* * *
Жизнь идёт чередом.
Действует власть строго –
И все больше шлагбаумов и вахтеров.
Фарисеи готовятся к встрече Бога,
Он с проверкой веры должен придти скоро.
Подготовиться надо. Отбить поклоны.
И грехи заглушить монастырским хлебом.
Соблюсти все заповеди, все законы –
Все до буквы, до пресыщения небом.
Бог придет – и скоро, вдохнет атмосферу –
Войн, анафем, болезней, свечей, соборов.
Но найдет ли тогда на земле Он веру?!
А не только шлагбаумы и вахтеров.
* * *
Ночь требует все больше прав
На душу, как я ни гоню
Ее неисправимый нрав –
Не верить будущему дню.
Мол, всё кончается на ней –
Что гаснет солнце за рекой,
А череда грядущих дней –
Лишь продолженье тьмы глухой.
Ей близко слово «никогда»,
Ей так понятно слово «нет».
Горит далекая звезда,
Но до неё лететь сто лет.
А ночь, как ручка, под рукой –
Пиши кромешные слова,
Что все темнее твой покой,
Всё тяжелее голова.
* * *
Не считать бы годы и утраты,
Ни о чем в душе своей не споря,
Лишь смотреть спокойно на закаты
В домике на берегу у моря.
И надеждам никаким не веря,
Никого вокруг не замечая,
Наблюдать, как волны точат берег,
Сидя в старом кресле с чашкой чая.
Наблюдать, как ветер гонит к югу
Грусть и память, и рыбачьи шхуны.
И погладить кошку, как подругу
Вечной жизни на прибрежных дюнах.
* * *
Боже, как я состарюсь, на склоне лет,
Удержи от уверенности пустой,
Что на каждый вопрос дать обязан ответ,
Что молчать не могу, словно Лев Толстой.
И закрой уста, если сладко мне вдруг
Станет перечислять по сто раз на дню
Каждый новый хронический свой недуг,
Словно это в кафе дорогом меню.
Ты молчание мудрости приумножь,
Дай поверить отчетливей в Страшный суд,
Но не дай мне поверить, что люди – ложь,
Даже если они моей смерти ждут.
Дай мне в немощи силу являть порой,
Дай, чтоб в ближних я видел талант и свет,
Но помыслить не мог, что мой путь святой,
Боже, как я состарюсь, на склоне лет…
* * *
Умирать еще рано, отец Иоанн,
Не прими горький тон за обиду,
Не разгонит молитва военный туман,
Подожди начинать панихиду.
Не прими за браваду, за страх и за трёп
Лишний повод продолжить беседу.
Засыпает осколками смерти окоп –
Только ты помолись за победу.
Не рассеет молитва военную пыль,
Даже звёзды у нас постарели.
Но прикроет еще твоя епитрахиль
От огня и кассетной шрапнели.
Еще брат наш славянский на той стороне
Не спасёт свою братскую шкуру,
Еще нам побеждать на священной войне,
Чтоб закрыть ее, как амбразуру.
Еще хватит нам правды, тумана и ран –
Час последний да будет неведом!
Умирать еще рано, отец Иоанн,
Помолись! С нами Бог и Победа!
* * *
Господи, это Россия! Разве суров и дик
Благовест пасхальный, церковнославянский язык?
Сказка кончается скоро, но не скоро зима,
Горе бывает злосчастьем, луковым, от ума.
Господи, Ты это знаешь! Знаешь, они ни зги
В русских равнинах не могут видеть, Твои враги.
Мысли их нетерпеливы, в мудрых глазах темно…
Господи, дай им увидеть то, что Тобой дано!
С нами пусть сварят каши и с нами хлебнут кисель,
Только не дразнят медведей, не дразнят даже гусей.
Сказка кончается скоро, но не скоро война.
Господи, дай понять им, что это Твоя страна!
Попов Андрей Гельевич
____________________
163564
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 27.09.2024, 18:54 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 01.10.2024, 11:06 | Сообщение # 2857 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Засыпал как будто курок на взводе,
Сначала извёлся телом, потом извился,
Разливался свет по закону, что нет в природе -
Ангел, наверно, какой-то в мой дом вселился.
Но тосковалось вовсе не по тоске вселенской -
Тайны как раз-то выстроились на поверхность,
Потому не хотелось совсем анестезии мерзкой
И обещаний хранить тебе суеверность.
Кто ты такая, в общем? Но, в общем, слушай,
Раз уж тебе не свезло, чтобы меня услышать:
«Может, не будем снова лазить друг другу в душу?
Ясно же кто, чем дышит.
Не хотелось всуе, но всё же - побойся Бога.
Сколько таких иисусов в миниатюрах...
Сказано много? Это ещё немного.
Много нас душевных по плотским тюрьмам...»
Мысленно для тебя вот такие пишу пассажи,
Даже если ангелы в доме разводят свет.
Мысли мои просты, жить - это просто также,
Как, например, умереть во сне.
***
Если это раскручивать - не раскрутишь,
Ни повлиять не получится, подавлять
Всё равно не получится. Будешь? Буду.
Всё это было. Не до тебя.
Можно, конечно, выжить одной тобой,
Несмотря на сердечный гул, суеверный рёв,
Всё равно же в итоге наступит такой покой -
Вены мои сожжёт, артерии разорвёт.
Соберёшься в итоге с мыслью, а слов уж нет,
Или язык не вывернешь произнести,
Разве что напоследок поможешь мне
Землю в волосы заплести.
***
Не сказать, что я сноб и всегда неряшлив,
Ну, бывает, рот не закрою во время кашля -
Ну, надену футболку ту же, что и вчера с утра,
Отдающую потом и запахом из костра.
С не умытым лицом, обветренным разными видами
Я выхожу на улицу и чувствую, как все завидуют,
Приличные люди в метро то и дело косятся,
Как будто бы ангелы мне на колени просятся.
Покупаю жареное мясо, завернутое в лаваш,
А они смотрят так, будто я переплыл Ла-Манш,
Учат мои репортажи, делают селфи-фоточки,
Высовываются по пояс через свои комфорточки
Жирных автомобилей, когда иду по проспекту
В книжную лавку, к умственному просвету.
Думают, как же круто рыжим прослыть и дерзким,
А я как был так и умру деревенским
На очередной войне. Без комфортной лажи,
Изучая земли кровяные пляжи.
* * *
Внешне барочен, внутри готичен,
а задумаешься — тупо «техн.»
Если круг порочен — то он привычен.
Мне не нравится слово «текст».
Конечно, в нём есть ультрамодный месседж:
ну, типа «ткань» и «плести канву»,
но плетёшь, как правило, чушь вместо
того, чтобы по существу.
Общие мысли, сны и рефлексы,
метафизика, маски. Почти рецепт.
Доказательство вряд ли получится веским,
но изменит меня в лице:
буду выглядеть как сибиряк,
здоровым, за правду футболку рвать,
чем вживаться здесь в самого себя,
проще рассеяться, как трава,
всё, что угодно, — лишь бы субъект
наконец-то слился с объектом речи,
чтобы закончился этот бред:
раздавать и с кем-то делить увечья.
Выдохни. С языка кончика тьмы сплюнь.
Если не сделаешь — прямо сейчас завою.
И скажи погромче: «Я легкомыслю,
Следовательно существую».
***
Я не знаю тебя, но представляю ясно,
То ли душа представляется, то ли внешность,
Немота или голос такой долговязый,
Тёмная из него выглядывает кромешность.
В этой тени чувствуется человек,
Перфоратором месит будущего раствор.
Он стоит вверх ногами как бы на голове
И умирает каждое Рождество.
Это явление в покое не оставляет
И намекает тонко: «В церковь тебе пора бы».
Что-то во мне ломается, не молится, умоляет.
Меня окрутила, стянула упрямейшая парабола -
Последнее слово я называю первым,
Первая нелюбовь – та, что любовь вторая.
Тень надо мной растёт, как восемьдесят гипербол.
Я делаю всё, что угодно, но только не умираю.
***
ВЕТЕРАНСКИЙ НОКТЮРН
1
"Жажда жизни все-таки неоспорима.
Неоспоримее обходящего стороною
Состоянья материи… Я начал с Крыма,
Мне открылось око его степное", -
Молвил попутчик из Ордена камуфляжа,
Упирал на мистический смерти признак.
Дребезжал "икарус". Скользила лажа:
В батальоне "Спарта", в бригаде "Призрак" -
Перечислял взахлеб козырные фронты,
Под забором спрятан трофейный "стечкин",
В доказательство - вот! - расцветные фото -
Он и останки. По-своему человечьи.
Не смолчал сосед на переднем кресле,
С грубым оскалом, в раскраске штатской,
Воевал в разведке… Ответит… Если
Что - в гостинице "Ленинградской",
В той, что левее торгового центра "Глобус", -
Объяснил на пальцах. Все пальцы в кольцах.
Вдоль границы к столице летел автобус,
Усыпляя бдительность добровольцев.
2
Разрастался в салоне броженья плод.
Мысли, свойственные полукровке,
Разъедали память, взрывались. Вот
Все, что известно ему о вербовке:
С "Баррикадной" станции вор Савелий,
Подливая в пабе тягучий портер,
Говорил о сугубо военной цели -
Предлагал стать агентом с приставкой "контр".
"Революция - вымя для аферистов", -
Продолжал философские грызть пилюли
Тот, что из Ордена. В зоне риска -
Те, что в автобус как в Рай шагнули…
В голове вертелось: "Ну что, вояки,
Разобрали лимонки на сувениры?"
Приближалась столица. Граница яркой
Казалась между войной и миром -
Погранцы поголовно ведут на обыск -
Майору ты кажешься идиотом,
С козырька слепит нездоровый отблеск,
Всему виною светодиоды.
3
На гражданке царствует униженье,
За исключеньем сего аспекта -
Отдаленье прекрасно и приближенье
Одного к другому в ночи проспекта.
Из колонок песня "Порвали парус",
Наподобие сварочного автогена,
Разрезает трассу. Летит "икарус"
К МКАДу нового Карфагена.
Возвращенье болезненней ритуала -
Окопаться на точках твоей мечты…
Как шутили ребята: "Боец, сначала
Горловку высохшую промочи,
Только не падай лицом в Снежное,
Свыкнись с мыслью Ясиноватой:
Даже если дома обложат "ватой" -
Верь в ненавязчивые паранойи:
Кто захлопнул дверь, кто закрыл засов?
Ведь "язык" доводил, что пути на Киев
Открыты. Где теперь тот "Азов"
И все гады его морские?"
***
в февральских маршах высшие чины
осколками ракет посечены
степных алей вангоговы обрубки
троянски не обдуманы поступки
скребут умы купцы и гарлопаны
хрустят во рту азовские рапаны
погружены в прифронтовые дрязги
затвор над их затылками не лязглал
жуют песок бубенчатые тралы
торчат домов кошмарные каралы
на пепелище города Марии
где сто постов железом заморили
в разгар густой мучительной весны
азовские развилки и кресты
весною обезличенный состав
закатами надломленный сустав
и сколько тут за мужество ни ратуй
мы декабристы каторжане и пираты
идём на штурм бессмысленно горя
без неба в голове и без царя
смертями пустырей неомрачимы
голодно-первобытные мужчины
в безвременной и сладостной тоске
лежим на мариупольском песке
и души обезврежены войной
и кровь как хриситанское вино
по жилам жизнь размеренно гоня
подальше от купцов и цыганья
выстраивает роту в три ряда
моя новороссийская орда
***
От Сахалина до Зарядья
Мы наши пушки дозарядим -
Одеты скромно и неброско
Во флору, пиксель и берёзку,
Ведь фронтовая наша роба
Уютней, чем земли утроба.
Лежит в кармане мультикама
От мамы с папой телеграмма.
Пусть знают здесь и Наверху,
Что звёзды спрятаны во мху
И ни под мухой, ни случайно
Мы не раскроем нашей тайны
От Кинбурнской до Поозерья,
Как наши души озверели,
Бредя в атаку в пять утра
По обе стороны Днепра…
***
Мы сидим в окопе.
Сверху шарашат «грады».
Любим мать, любим Родину,
Поэтому так надо
По нашей лесополке разлетятся осколки
А могли бы снова в Европу
Да что в ней толку?
Сколько здесь в полях мы пролили кровинушки!
У соседа ранение –
Такова судьбинушка.
Завтра подвезут на край новую пехоту
И с рассветом снова в бой
Начинать на укропов охоту!
***
Кому в достаток слава дутая
С отличьями и прочей лажей -
Скажи "судьба" - услышишь "дурь твоя",
Тебе ж не в этот ряд калашный.
Не охай же, с чего, мол, бегаю,
Трясу полученной обновой,
Когда в разгрузку задубелую
Полезешь, словно в гроб дубовый,
А жилы будто все надорваны,
Таким и понуканья тщетны -
Уже не слушаются органы
И примороженные члены,
И нечего тут рот ощеривать,
А ну-ка, вспоминай скорее,
Как выходить в четыре с чем-нибудь
При недостаточном сугреве,
Как, среагировав на хлопанье,
Укладываться поплотнее,
И, отстреляв рожки холодные,
Разлеживаться на пленэре,
Чтоб не расслышать сердца тиканья
В изодранных шрапнелью шмотках,
И будто гибель репетируя
Пропавшим без вести уж год, как.
***
Как при нашествии горят монастыри,
Смешалось всё — шахиды, крестоносцы,
Фальшивые и древние погосты,
И мытари, и мцыри, и цари…
И рыцари, идущие на зов,
И глас земли расслышавшие вещий,
И хохот хлама — яростней и хлеще
Картавых идолов, оплёванных божков,
Разорванных случайностью орбит,
Изысканных и чёрных обелисков
Того, что стало безнадёжно близким,
Что мы должны на сердце зарубить, —
«Пространство сужено, но всем нам суждено
Растаять в языке родном и русском,
Гореть под Суджею, куражиться под Курском —
Своей войны вертеть веретено».
И в этой мельнице и трус, и балабол,
И тот, кто грозно может супить брови,
Способны совершить внезапный подвиг —
Продлить веков трагический помол,
В порыве прикрепить себя к плеяде,
Свою судьбу в истории рассеять,
Где каждому бойцу по Илиаде
И каждому отцу — по Одиссее.
***
Только нервный сон, боевые люди,
Порождает явь
Ту, что бессмертна. Забудь, что будет!
Господь, управь!
Я её поры, с упорством ябед -
Бередил до дна -
Вместе с настойкой из волчих ягод
И свойством льна
Расцарапал душу опять о её сосцы,
Уходил зазря
В космы лисии, в шерсть лисиц
Разгоревшегося сентября -
И меня полоскало, что тот каяк,
По волнам - проверь,
Точно рок медвежий, судьбы кулак
Из надежд и вер…
Лишь Любви кружевной глоток
И всей боли стать,
Точно исписанный мной листок,
Перестань листать -
Я давно не шелест всех тех страниц,
Но я твой чертёж -
Моя птичка, мой Бог перелётных птиц,
Ты меня поймёшь.
***
Дождь щекочет, погашены столики,
Вспышки реплик, тетради потерь,
Обновлённые осенью сонники
И флешбэков густая артель,
И в порыве сего раздражения
Сквозь эпоху напущена пыль —
Мы с тобою заочно поженены,
Моя нежная девочка-быль.
Моя сладкая, вечно капризница,
Разузорная, томная, всласть
Помогала мне быстро возвыситься,
Размечтаться и снова упасть.
Заковав в суеверья романсовы
Утончённо приспущенных джинс,
Я, твоею листвой опоясанный,
Беспробудно преследовал жизнь.
И в минуты тоски баротравменной,
Что крутила всего изнутри,
Я испробовал времени-пламени
Весь парфюм, все его пузыри.
Что о кафель надежды разбитые,
Что осколков неполный бокал,
Я клевал эпохальными битвами,
Но не сбил первозданный накал
Той Любви моей, точечно суженной,
Разъярённой и рьяной Любви…
Я сегодня рябиной отужинал,
У нас, кривичей, это в крови.
Семен Пегов
___________
163833
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 01.10.2024, 12:43 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 03.10.2024, 16:44 | Сообщение # 2858 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Условный стук
Лет пять Светка Солнцева не появлялась на горизонте, а тут неожиданно возникла ― как прыщ в день свадьбы.
— Маш, у тебя как сейчас дела? — начала Солнцева прогревать тему издалека и, не дав возможности ответить, задала второй вопрос: — Выручишь по старой дружбе?
— Привет, Свет. Денег нет, всё на брекеты потратила.
Маша была из тех людей, кто умеет говорить «нет».
— Ой, я тебя умоляю, родная, деньги — это последнее, что я попрошу, — голос Светы стал тягучим и противным, как сироп от кашля. — Мы со Степой в Тай хотим слетать, а животину кормить некому. Не выручишь?
[more] https://ic.pics.livejournal.com/terrao/7616468/1852484/1852484_900.jpg
— Животину? Не знала, что у тебя хозяйство. Вот время летит. Куры, козы?
— Да какое хозяйство, котопёс у меня. Папа умер полгода назад, а звери остались… Живут в его квартире, я себе их забрать не могу, прихожу кормить, убирать и выгуливать. Выручишь на недельку? Я уже всех обзвонила, никто не может…
— Свет, я не знала про папу, соболезную… Слушай, ну раз такое дело, то, конечно, без проблем.
— Супер. Подъезжай через часик, расскажу, что да как, — Светка не дала ответить и сбросила вызов.
***
Маша поднялась на третий этаж, вдыхая знакомые запахи подъезда, в котором не была со школы. Старая дверь в квартиру была приоткрыта. Протерев ботинки о коврик, девушка потянула за ручку и чуть не вскрикнула от неожиданности: из полумрака прихожей на нее смотрели две пары внимательных глаз.
Кот и пёс сидели у входа, как два профессора на конференции, ожидающие, пока лектор зайдет за кафедру и начнет доклад.
— Све-е-ет! — позвала девушка.
— Бегу! Ты уже тут? — послышалось почему-то снизу.
Через минуту на площадке появилась взмыленная Солнцева и сразу прорвалась внутрь квартиры.
— Опять, хулиганы, дверь открыли ― хоть замки меняй, — ворчала Светка, протискиваясь между животными. — Заходи скорее, мне уже ехать надо.
— А не укусит? — настороженно спросила Маша.
— Нет. Здесь не кусают, а только молча осуждают. Мы же у моего папы дома, забыла?
Маша подумала, что подруга шутит, но согласилась войти.
— Знакомься, это Петр Анатольевич, — представила Солнцева здоровенного беспородного пса с задумчивым видом академика, — и Виктор Анатольевич, — показала она на кота, чьи усы были такие длинные, что могли бы принимать некоторые радиостанции. — Сразу отвечаю на вопрос: они не родственники. Папа назвал их в честь своих бывших коллег из института и воспитал так, что звери полностью заменяли ему общение с людьми. Короче, еда подписана, воду менять каждый день, пса выгуливать с утра в семь и вечером в половине девятого. Утром я его уже сводила, — тараторила Света, носясь по квартире как ураган.
Всё было просто и понятно, пока Маша не спросила про шашки на полу.
— Да, самое главное: с псом надо два раза в день играть в шашки, иначе он не выйдет на улицу.
— Очень смешно.
— Я не шучу, — Солнцева напустила на себя нехарактерный для нее серьезный вид. — А коту надо новости читать, причем свежие. Он любит газеты, но если лень покупать, то читай из интернета, потерпит пару недель. Будут хандрить, поставь им пластинку Высоцкого или Окуджавы. Только не включай рок, могут поругаться.
— Пару недель?! Ты же сказала ― неделя!
— Маша-а-а! Ну кто в Тай едет на неделю? Всё, я помчала, ключи на гвоздике. Если замок будет заедать, постучи три раза, потом пауза и еще три, тебе откроют.
Солнцева закружилась в финальном вихре и как сквозняк удалилась в открытую дверь.
Петр и Виктор Анатольевичи ждали ее на кухне. Пёс сидел на стуле и смотрел в окно, а кот лежал у пустой миски, сохраняя достоинство и не опускаясь до мяуканья. На столе Маша нашла газету.
— Делать мне больше нечего, как газеты котам читать, — цокнула девушка и, наполнив миску сухим кормом, отправилась по своим делам, чтобы вернуться вечером и выгулять пса.
Остаток дня был переполнен какой-то суетой. Маша приехала пораньше, чтобы скорее со всем покончить. Дверь была закрыта. Вставив ключ, она покрутила им, но замок не слушался. Ключ страшно и бесполезно хрустел внутри. Маша вспоминала все обидные прозвища Солнцевой и порывалась уже вызвать слесаря, но тут в памяти всплыли слова Светки про условный стук. Ощущая себя полной дурой, она занесла кулачок и постучала по инструкции. Через минуту послышался звук отпираемого замка. Дверь открылась, на пороге сидела молчаливая пара хвостатых Анатольевичей.
— Да как вы вообще это делаете? — раздраженно спросила девушка, входя внутрь.
Первым делом Маша прошла на кухню, чтобы долить воды, и увидела, что кот даже не прикоснулся к своему гранулированному кролику.
— Слышь, деловой, я не буду тебе читать газету, — обратилась Маша к вошедшему следом за ней на кухню зверю, во взгляде которого отображалось то самое осуждение, о котором говорила Солнцева. — Так, где у вас поводок?
Маша обошла всю квартиру, но так и не смогла его найти. Зато обнаружила, что расположение шашек на доске изменилось. «Наверное, мне просто кажется. Ну не играли же они, пока меня не было», — думала она, продолжая поиски. Ситуация постепенно начинала ее раздражать. Телефон Светки был недоступен, кот не ел, а поводка не было.
Маша села на диван, написала сообщение Солнцевой и принялась ждать. Когда настенные часы пробили половину девятого, в комнату вошел Петр Анатольевич с поводком в зубах.
— Ты издеваешься? — спросила Маша, глядя в глаза псу, но тот ничего не ответил.
Девушка пристегнула поводок и дернула, но пёс не сдвинулся с места.
— Да что с тобой не так, глупая ты зверюга?
Пёс молча повернул голову в сторону шашек.
Маша начала подозревать, что стала жертвой какого-то пранка. Она изучила взглядом комнату, но камеры не нашла.
— Ладно, давай попробуем, — сдалась девушка и расставила шашки на поле.
На удивление, пёс начал аккуратно двигать кружочки лапой или носом, а если нужно было «съесть» фигуру, интеллигентно и негромко рычал. Виктор Анатольевич сидел в сторонке и наблюдал за поединком. После двух сыгранных партий Петр Анатольевич всё еще отказывался идти гулять, зато Солнцева появилась в сети.
— Света, мне домой надо ехать, а твоя собака не хочет идти гулять!
— В шашки играли?
— Играли! — кричала в трубку Маша.
— А ты ему дала выиграть хоть раз?
— В смысле ― выиграть? Он же пёс, у него нет шансов, — недоумевала девушка.
— Шансов нет, а самолюбие есть. Поддайся ты человеку разок, он же, пока не выиграет, с места не сдвинется.
— Издеваешься, что ли? Может, мне еще ему нижний брейк станцевать? — кричала Маша, но Солнцева уже покинула зону доступа.
Совет сработал. Когда Маша проиграла партию, Петр Анатольевич позволил себя выгулять. На улицу он шел, держа в зубах пакет для своих продуктов жизнедеятельности, которые Маше следовало за ним собрать.
— Раз такой умный, мог бы и сам справиться, — ворчала девушка, убирая за псом, а тот виновато отводил глаза.
Когда они вернулись, кот ждал на кухне, сидя на табурете; его миска все еще была полной.
— Как же вы меня бесите!
Маша взяла газету и принялась читать. Виктор Анатольевич внимательно выслушал новости спорта и прогноз погоды, а когда Маша перешла в раздел политики, спрыгнул на пол и, подойдя к миске, принялся хрустеть кормом. Стоило чтецу замолчать, как кот отрывался от еды и бросал на девушку требовательный взгляд.
Домой Маша вернулась злая и уставшая, да еще и позже, чем планировала. «И так еще две недели…» — именно с такими мыслями она закрыла глаза.
Утром замок поддался с первой попытки. Сонная Маша сразу направилась в комнату, где расставила шашки и в первой же партии проиграла псу по полной.
«Слишком сильно поддаваться тоже не стоит, он же не идиот», — объяснила Солнцева в сообщении, когда Маша написала, что его величество вконец обнаглело и не идет на свой утренний горшок.
Новости для кота Маша прочла с телефона. Виктор Анатольевич ел как-то неэнергично ― видимо, расстроился, что не было газеты.
Так продолжалось до первых Машиных выходных. В субботу она пришла пораньше, так как в ее доме морили клопов, а квартира Анатольевичей была в данном случае спасением. Животные сегодня были какие-то подавленные. Петр Анатольевич даже как-то вяло поскуливал, словно обнаружил на своей собачьей банковской карте нехватку средств.
Вспомнив про музыку, Маша не без помощи интернета завела проигрыватель и, совершено не задумываясь, поставила первое, что попалось под руку.
Как только заиграли Led Zeppelin, Виктор Анатольевич оживился и начал радостно скакать по комнате и беситься, а Петр Анатольевич обиженно зарычал и пару раз чуть не цапнул своего товарища за хвост. Нужно было срочно спасать ситуацию. Маша поспешила заменить пластинку, и как только из динамиков захрипел Высоцкий с песней о дружбе, оба животных забрались на диван и синхронно закрыли глаза на несколько секунд. На их мордах вырисовалось нечто напоминающее довольную улыбку или ухмылку ― в звериной психологии Маша была не сильна. Хандра отступила.
От нечего делать девушка навела в квартире какой-то поверхностный порядок. Протирая пыль, на одной из полок она обнаружила фотоальбом и уселась на диван. Виктор Анатольевич внезапно забрался ей на колени, а Петр Анатольевич положил на них свою морду. Маша листала страницы, с которых на нее смотрели молодые Солнцевы ― вся семья, включая отца Светки, а кое-где даже попадалась и сама Маша, когда-то лучшая Светкина подруга. Животные тоже смотрели на эти старые снимки, созданные еще до их рождения, и как будто улыбались.
Вечером Маша сыграла партию в шашки с псом и прочитала новости коту, а еще, сама не понимая зачем, рассказала им о своей жизни: о планах на грядущий год, о страхах перед новой работой, о квартире, которую никак не купит из-за высоких цен, о любви, что вызывает сомнения. Маша болтала без умолку, а Анатольевичи внимательно слушали и не перебивали, лишь изредка отвлекаясь на перекус и гигиенические процедуры.
С этого дня Маша стала задерживаться у своих новых знакомых. Кажется, они немного притерлись друг к другу, Маша изучила характеры животных. Петр Анатольевич оказался принципиальным консерватором, неврастеником и технарем, а вот Виктор Анатольевич, наоборот, был отвязный новатор, ленивый революционер и гуманитарий до мозга костей. Несмотря на такие разные характеры, оба были достаточно сдержанными и воспитанными, как и полагается интеллигентам. Любая их просьба или требование выражались малозаметными протестами вроде голодовки.
Маша смогла найти к каждому из них подход, а они шли ей на уступки. Виктор Анатольевич даже смог привыкнуть к отсутствию в доме газет.
Как-то раз, когда до приезда Солнцевой оставалось всего пара дней, Маша привела с собой молодого человека по имени Антон, на которого у нее были большие планы, связанные со словом ЗАГС. Она собиралась вместе с ним по-быстрому разобраться с текущими делами и отправиться на ужин в ресторан.
Маша попыталась удивить молодого человека условным стуком, но тот даже бровью не повел, узнав, что дверь ему открыли животные. Не имея привычки разуваться в гостях, Антон прошел мимо мохнатых хозяев и даже наступил Петру Анатольевичу на хвост, но тот не подал виду, а лишь тяжело вздохнул, как мастер, чей рассеянный ученик сломал очередное сверло.
— Сыграй, пожалуйста, с псом в шашки, а я пока коту новости прочитаю, — попросила Маша.
И здесь Антон отнесся к чудесам животного интеллекта с какой-то предвзятостью. Он семь раз подряд обыграл Петра Анатольевича в шашки и, не спрашивая разрешения, поставил пластинку Pink Floyd. Кот тут же сорвался с места и начал носиться по квартире, словно попал на концерт любимой группы. Пёс же лег на пол и прикрыл глаза лапами.
— Антон, ты зачем это включил? Их надо тогда по разным комнатам предварительно разводить, иначе поссорятся и потом разговаривать не будут целые сутки! И что с шашками? Ты проиграл?
— Я что, дурак, собаке проигрывать? — удивился Антон.
— Тош, ну пожалуйста, поддайся ты ему, иначе он гулять не пойдет, — просила Маша, меняя пластинку на Окуджаву.
— И не подумаю. Я никому не проигрываю.
— Ну ради меня, — мило улыбнулась Маша, и парень сдался. Он расставил шашки и сделал первый ход, но Петр Анатольевич не стал играть. Вместо этого он вышел из комнаты и заперся в ванной.
— Блин, мне же его выгулять надо! — Маша дергала за ручку, но дверь не поддавалась.
— Слушай, ну раз он такой умный, сходит в ванну. Пошли уже, я столик забронировал на девять тридцать.
— Антон, ты должен извиниться перед Петром Анатольевичем. Пока ты этого не сделаешь, я никуда не пойду! — голос Маши звучал как клич римского полководца, требующего немедленной капитуляции врага.
— А под хвост его не поцеловать? — удивился такому повороту событий парень.
— Ты чего так разговариваешь?
— А как я должен разговаривать в этом зоопарке? Чё ты меня сюда вообще притащила ― к этим идиотским животным?
— Да ты сам животное. Пошел вон! — резко показала Маша на дверь.
— В каком смысле? Ты офигела, что ли? Выгоняешь меня из-за какой-то псины?
— Это не псина, это уважаемый пёс.
— Больная? У нас столик забронирован, пошли, дурочка.
Парень схватил Машу за руку, та начала вырываться. В конце концов взбесившийся Антон дал Маше пощечину. Тут же дверь ванной распахнулась и наружу вырвался, рыча, уже не спокойный и рассудительный Петр Анатольевич, а дворовый хулиган и боец Петруха, которого когда-то подобрал Солнцев-старший. Несмотря на перевоплощение, пёс не стал применять зубы, а, используя физику, встал на задние лапы и надавил весом на грудь обидчика. Рычаг сработал. Антон полетел на пол, как поваленный ураганом ствол, а пёс придавил его сверху. Он открыл пасть, и все, включая Антона, были уверены, что собака сейчас заговорит, но Петр Анатольевич лишь очень глубокомысленно гавкнул ему прямо в лицо.
Через минуту Антон уже уносил ноги, обутые в туфли, которые Виктор Анатольевич заблаговременно осквернил своим непочтением.
— Вот и сходила в ресторан, — произнесла Маша, глядя на распахнутую дверь, в которую улетело ее иллюзорное счастье.
Петр Анатольевич позволил себя выгулять без шашек. Они вместе зашли в магазин, где девушка купила продукты и приготовила для себя и своих младших друзей вкусный ужин. Потом они включили музыку и весь вечер играли в шашки, читали книги, а еще Маша сделала фото хвостатых, которые очень ответственно ей позировали.
— Завтра распечатаю и добавлю в альбом, — пообещала Маша и, отыскав в шкафах чистое постельное белье, постелила себе.
Следующие два дня эти трое не расставались.
***
— Свет, а можно я котопса с собой заберу? — спросила Маша, когда загоревшая на тайском солнце Солнцева вернулась обратно.
— Ого, да вы никак сдружились? Слушай, я-то не против, но эти мохнатые упрямцы не переедут, понимаешь? Мы пытались их отдать кому-нибудь на время, но они не хотят, а я не могу их заставлять. Папа их очень любил.
— Ясно… Слушай, а что вообще с квартирой планируете делать?
— Продавать думаем. Но только после того, как Анатольевичи… Ну, ты понимаешь…
— А может, я у вас ее куплю? Ну не сейчас, еще немного денег подкопить надо. Я как раз работу сменила, там зарплата больше, правда, и аренду мне тоже повысили, но я попробую что-то придумать, время же есть еще, — внезапно предложила Маша.
— Так я только рада буду, Машунь. Слушай, а переезжай сейчас, не надо будет платить за аренду, быстрее накопишь, да и мне меньше забот с животными.
— Блин, неужели так бывает? — не веря своему счастью, произнесла Маша.
— Бывает-бывает. Папа всегда говорил, что счастье где-то за порогом, надо только найти нужную дверь и подобрать к ней ключ.
— Или знать условный стук, — улыбнулась Маша, глядя на своих новых, но уже таких родных друзей.
Александр Райн
_____________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 03.10.2024, 16:45 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 07.10.2024, 20:17 | Сообщение # 2859 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Непривычны разгулы гулянья,
Мне милей тишины благодать.
Я живу на таком расстояньи,
Что отсюда Москвы не видать.
Что с проблем - дураки да дороги,
Здесь и тех, и других - не всегда.
И Колян наливает Серёге:
-Ну, глубинка, так то - не беда!
И народ голосистый столичный
Этой думы никак не поймёт:
В тишине, к суете непривычной,
Нашу звёздность не всяк обоймёт.
Нет, бабуль, не спеши рассердиться,
Видишь - прибрана светлая прядь.
Если б выдали долю - решиться,
Только б ей разрешила принять.
Так сегодня - не песнь, не святыня,
Не хвалюсь, не прошу, не шучу.
Я твоим отголоском, Россия,
В каждом празднике звонко звучу!
Не ругайте ж меня: «Озорница!»
Успокоюсь сама как-нибудь.
Если б выпала доля светиться -
Только ей освещала бы путь.
Мне со сцены сойти, обессилев -
Жди, родная моя сторона.
Ты настолько глубинка России,
Что безмерна её глубина!
***
Разлился июль по лугу, млеет полдень у воды.
Я вчера сказала другу:
- Мне малы твои сады!
Мне узка твоя дорога, скучен праздник, скромен год.
Я искала долго-долго, где любовь моя живёт:
Выходила, чуть возьмётся лес позвёздной бечевой,
На тропинку у колодца - окропить росой живой
Побелевшую берёсту, охранительницу дум.
Миновав лихую росстань, дальний берег, ближний шум,
Я ручьёв златых пригорки очищала от репья.
Я роняла на задворки капли солнечного дня.
В дальнем логе чашей пчёлам разойдясь, что череда,
Я приглядывалась к сёлам, возвращаясь в города.
Я сама клепала избы, брёвен жалуя тепло.
Приглашала всех, кто избран, и кому не повезло.
Всех выспрашивала в зале, зная отклик наперёд:
- Вы случайно не видали, где любовь моя живёт?
Я её искала даже в сходнях тёса на стрехе…
Друг мой, что ж обескуражен?
Я нашла любовь -
В стихе!
В нежной строчке, нарождённой
Глаз бездонных красотой.
И встаёт любовь Мадонной
Из страницы золотой!
И живу теперь счастливой, свет - душе, восторг - уму
Оттого, что блещут нивы только Слову одному!
***
Чудеса не трогая рукой,
Излучаю счастье и покой,
Разукрасив слово до словес
Во стеклянной хрупкости небес.
Не нарушив долгой синевы,
Я любовь приветствую: живи!
И души исполненная трель
Растрезвонит золото земель,
Не прервав дыхания высот.
Долог миг, и краток жизни ход.
Лишь одно у времени - в чести:
Вздохи слов, зажатые в горсти
До восхода, схода, хода рек,
До того, как лучший человек
Бесконечность выразит строкой,
Чудеса не трогая рукой.
***
Нам выпало не время - времена.
-Который век? - воскликнули.
Смеркалось.
Не в рукопашном наши племена -
Сошлись умы
В разгулах карнавала.
Ни передышки не было, ни справ,
Мы стали - год, растерянность и слава.
Ржавели быстро - латы у держав,
Хирело войско, жаждая расправы.
А мы дробили горечь на слова,
Вбирали их. И ближних хоронили.
Но был средь нас - увидевший волхва -
И улыбался - пляшущим кадрили.
И стал январь на выжженной земле,
Ночник слабел, стихали передряги.
Рождался мальчик, принятый во мгле -
За верность делу, слову и присяге!
***
За них - И Белгород, и Курск,
Луганск, Донецк и Сунжа!
За них - к победе точный курс,
Жара за них и стужа.
За них - и боль, и страх, и твердь,
Решимость, злость, отвага.
За них - и жизнь, за них - и смерть,
И белая бумага,
Своей сияя чистотой,
Щит примет на поруки.
И нашим детям флаг святой
Вручит за наши муки…
***
Распахнул врата июль-кудесник,
Но тревожит сердце ветер ран.
К постаменту, времени ровесник -
Подходил, качаясь, ветеран.
У его молчанья - зелень крапа
И высот густая синева.
И в руках гвоздики - будто капли
Неистлевшей крови с рукава.
За его нетвёрдою походкой -
Гарь боёв и павшие друзья.
И нельзя спастись ни сном, ни водкой!
И вернуться заново нельзя
В тот горячий полдень у ложбины…
Наступая, враг палил с низин.
А они стояли, стиснув спины,
Расстреляв последний магазин,
До конца! До слабого сознанья,
До с гранаты вырванной чеки.
И тогда братишка с ликованьем
Вскинул вверх решительность руки:
-Вот вам, гады!
Взрыв…
Земли кипенье,
Не сдаются русские! Так честь
За одно короткое мгновенье
Вознеслась до вечности. Бог весть:
Дольше горя длится канонада,
Разрывая залпами простор.
И тревожить прошлое не надо,
Начиная долгий разговор,
Понимая, охая, взывая,
Сокрушаясь гладкости седин.
Вновь стоит у огненного края
Ветеран - с войною - на один…
***
Взволнует Слово смыслом негасимым,
Качнув мостков серебряные льны.
Я говорю с тобою из России…
Я говорю с тобою из войны…
Потомок мой, младой и беззаботный,
Остановись, летами проходя.
Смотри: в поля вгрызается пехота,
Ложась в закат предчувствием дождя.
Замри: вот-вот жужжанье смерти близкой
Определит тепло твоей души.
И стелит суходол позёмку низко,
Вновь прикрывая прелью рубежи.
Вновь АКМ рядами кроет балку,
И от осколков в клочья рвётся плоть.
А молодой пацан, горящий в танке,
Одним страданьем чувствует: Господь
Не закрывал в саду ворота рая,
Их принимая в доблестную рать.
И ты стоишь средь вёсен, понимая,
Что своего снаряда не слыхать.
Что не отыщет ключник между нами
Тех, от кого столетья нет вестей.
Затёрт до блеска требник с именами
Со всех высот и дальних крепостей,
Из всех воронок. Дерзкий мой, прости их,
Всех, чьи сердца страдой опалены,
Чтоб говорить с тобою из России,
Чтоб говорить с тобою из войны.
Да будет так, как знали мы - свершится,
За что в боях стоим какой уж век:
Земля родная - матушка, царица -
Увидит сны про белый-белый снег.
Ты и не вспомнишь, может быть, о встрече,
А только взгляд и книжицу в руке.
Лишь тишина пронзительна под вечер,
Как будто мы уходим налегке.
Когда расцветья радуг явят силу,
Чтоб оправдать чудовищность цены,
Ты расскажи мне, как теперь в России?
И опиши мне небо без войны…
***
Всходило над рощей светило,
В полях расправляя лучи.
Нас время с тобой не щадило,
И всходы губили грачи.
Нас так разбросало по свету,
Оставив один позывной,
Что в вечности кануло лето,
И ливни восстали стеной.
Что рожь налилась позолотой,
Колосья к земле приклонив.
И пашни, воздав за щедроты,
Взошли шелковистостью нив.
И сколько б ни ссыпалось вёсен
Листвою в излюбленный сад,
Об осени тёплой не спросим,
И слов не отправим назад.
Смотри, расстилаются вёрсты
Цветеньем под лёгкой стопой.
И все позабытые тосты
Ложатся златистой строкой
На годы. Мой милый, прости их,
Дороги сольются в кольцо.
Чтоб нас узнавала Россия
По слову родному - в лицо!
***
Во дворе построились «Уралы»,
И в молчаньи скорбном дрогнул дух.
Здесь своих мальчишек принимала
Мать-земля, раскладывая пух.
В этот час ветра не голосили,
Замер полдень, будто в небо врос.
И Господь склонился над Россией,
Окропляя праведностью рос.
Горемыкой маялась у тела
Тень души, покинув духоту.
Только я, не двигаясь, смотрела
На густую в каске пустоту.
Лишь вчера надёжно защищала
Жизнь в бою родимому бойцу.
Но пробил металл осколок малый,
И стекали кровью по лицу
Мощь брони и обвязь камуфляжа,
Штурмовой напор, желанье жить…
Облаков несотканная пряжа
Сквозь отверстье втягивала выть,
Отдаляя бой. А он - на месте,
Недвижим, как воля, свят - как Русь.
С ненавистной слуху цифрой «двести»
Я глазами встретиться боюсь
И стою поодаль, там где тополь
Устремил побеги в зрелость гроз.
Жар донецкий. Госпиталь. Некрополь.
Ни стихов, ни ропота, ни слёз,
Лишь беды бесформенная яма
Оттого, что каску - вижу я -
Санитар забросил в кучу хлама
Из пакетов чёрных и тряпья.
И не надо памятников выше,
И не надо памяти сильней,
Чем вот эта груда в ржавой жиже
И броня пробитая на ней.
И когда в лета вернутся краски,
Проявив сквозь горе жизни нить,
Капель крови с выброшенной каски
Мне до самой смерти не забыть…
***
Я не вспомню больше ни слезинки,
Ни росой омытого жнивья.
Мы с тобой - рассвета половинки,
Небосвода сводная земля.
Пусть под нами взрытые окопы
Восстают с тревогой наравне,
Мы с тобой - спасительные тропы
У России, бьющейся в огне.
И когда в линейности блокнота
Новый день для радости воскрес,
Два крыла у борта самолёта,
Высота над уровнем небес -
Это мы! -
Сияющие дали
Над землёй, где вновь идут бои.
И горят на коже, как медали -
Поцелуи нежные твои…
***
Клонись, головушка, устало,
Угадывая новый стих.
В святой поход их провожала -
Печалься, Родина, о них.
Смерть рассылает им приветы,
Прицел не пряча в рукаве.
А у тебя лежат рассветы
Косынкой алой по главе.
А у тебя - снега да вёсны,
Да лета красочный наряд,
И полной грудью дышат сосны,
Творя любви святой обряд.
А я, вжимаясь в гроз раскаты,
Иду с поникшей головой.
И улыбаются солдаты
Вот этой - новой - мировой.
На зорьке скорого привала
В минуты редкой тишины
Им так кукушка куковала,
Как будто не было войны.
Россия! Верою богата,
Сквозь слёзы выпрямись и стой!
Пусть возвращаются солдаты
Победной
Главной
Мировой!
***
Двадцать дней он числился «двухсотым».
А на двадцать первый - хоть убей! -
Прилетел под вечер в нашу роту
Неказистый серый воробей.
И таким же выдался плутишкой
Беспокойно-суетным таким,
Что покоя не было братишкам,
Будто летом - паркам городским.
Он и щебетал, и звал куда-то,
Запах кухни птаху не прельщал.
Норовил поближе к автоматам,
Затихал, смотрел на нас, серчал.
Подходили - будто торопился
К глубине оврага за холмом.
Улетел и снова воротился,
Так тревога билась в нём самом.
Не стерпев, шутя, за ним по следу
Двойка первых резво поднялась.
За спиной - привычное: «К обеду…»
Впереди - опорники и грязь,
Вражий глаз, следящий за дорогой,
Да кустарник редкий в стороне.
Воробей, тревожный недотрога,
Вдруг умолк, как понял - на войне.
Низко-низко, взмахами - ни звука,
Только торопливо правя путь,
За собою звал, как будто руку
Взять хотел, ускорив как-нибудь.
И когда, равняясь с словом крепким,
Добрались до балки у ручья,
Разглядели - ствол, разбитый в щепки,
И разгрузка рядом. Только чья?
…Он стонал тихонько, стиснув зубы,
Уцепившись крепко за валун.
Лишь глаза, неистово-голубы,
Пеленой затянуты.
Не лгун -
Проводник наш, серый воробьишка -
Присмирев, прижался у лица.
Как почуял - в смерти передышке
Бьётся жизнь пропавшего бойца?
Не забыть родительской субботы
В воскресенье верящей земли:
Двадцать дней он числился «двухсотым»,
А вчера живым его нашли!
***
Липнет к телу вязкая жара,
И война давно осточертела!
Помяни, великая хандра,
Как душа сдаваться не хотела
На потребу злобе и вранью.
Как в угоду ненависти лютой
Не отдала прелому гнилью
У кровавых рубищ промежуток.
Как, пробив грудину на лету,
Весть пронзила сердце резкой болью.
И луна - просветом во щиту -
Пала навзничь в небо голубое.
Как кружила птица над жнивьём,
Ни единым звуком не встревожив
Скорбь полей, погибших под огнём,
Напряженье выгоревшей кожи.
И душа, внезапно ощутив
Зов прохлады северного ветра,
У разбитых вёсен взяв в отрыв,
С нулевого взмыла километра…
***
Укреплённой линией окопов,
От войны строкою заслонясь,
Мы опять стоим у Перекопа,
И с большой землёю держим связь.
Заглушая дальние разрывы,
Подчиняя вере тишину,
Слова свод звучит неторопливо
Средь полей, увидевших войну.
К слову - слово, ручка - к автомату,
И душа притихшая - к душе,
Вновь стихи - плечом к плечу с солдатом
Зажигают свечи в блиндаже.
А наутро снова резким: «К бою!»
Встанет день за солнце воевать.
Вновь России чествовать героев,
Вновь России павших отпевать.
И, бушлаты скинув возле хаты,
Принимая в руки тишину,
Смотрят вдаль задумчиво солдаты,
На плечах пронёсшие войну…
***
Густой туман ложится на радар,
И обступает лес глухою чащей.
Я увезу с собой признаний дар,
Чтоб возвратить поэмой настоящей.
Чтоб в седине приспущенных небес
Ни звук, ни жест, ни взор не исказился.
Чтоб рук твоих безмолвный перевес
На дрожь мою уверенно ложился.
Прошедших дней весёлый жизнеряд
Пусть разберут охочие до строчек.
Творит дорога вновь простой обряд,
Соединяя души одиночек.
И у вершин нелёгкого пути
Туман спадёт — внезапным облегченьем.
И мы поймём, сквозь что пришлось пройти
Святой любви великим ополченьем…
***
Да, мне одной - ссудить календарю
Любовный жар исчезнувшего лета.
Стели закаты - тотчас одарю
Осенне-долгой нежностью поэта.
Качнётся тень, испуганно-тиха,
И слабой дрожью выдохнет теченье.
И превратится в письменность - река,
Как превратятся думы - в ополченье.
Так призван будь - хоть близкий, хоть далёк -
Да будешь здесь - в молитвах и уставах.
Да будет светом - слабый огонёк,
Зажжённый там, где вдруг тебя не стало.
Густой туман - согласием смолчит,
Былых восходов - призрачно - прощанье.
И календарь - прощением обид
Нанизывает дни на вспоминанья...
Света Размыслович https://stihi.ru/avtor/lukidebut
________________________________________
164262
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 07.10.2024, 20:19 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 11.10.2024, 22:51 | Сообщение # 2860 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Иосиф Прут
До 1983 года я только слышал о его существовании. Где-то есть такой драматург, написавший сценарии фильмов «Секретарь райкома» и «Тринадцать».
А в 83-м году мы с Хазановым поехали под Курск к бабке-целительнице. Мы сидели в купе вагона, когда к нам вошел какой-то большой мужчина с шишковатым лицом и заговорил с нами так, будто сто лет знаком. Он сыпал анекдотами, байками, очень интересно рассказывал, так мы с ним и познакомились.
В следующий раз я с Прутом встретился уже в Карловых Варах года через три. Мы подружились. Мне так было с Иосифом Леонидовичем интересно, что я, погуляв с ним и наслушавшись его историй, приходил к себе в номер и все эти истории записывал.
Пятнадцать лет назад мы шли с ним однажды вдоль длинного и высокого забора, и Прут сказал:
— Ты не думай, что я такой старый. Я до сих пор занимаюсь карате и спокойно могу тебя перекинуть через этот забор.
Ему тогда было 85 лет. Он брал тяжеленный стул за спинку и поднимал его на вытянутых руках.
Иосиф Леонидович Прут родился 18 ноября 1900 года. Ровесник двадцатого века и прожил почти весь век. Умер в 96-м году.
Отец Прута был болен туберкулезом. У сына по наследству тоже была чахотка. Онечку, так его многие называли и взрослого, в шестимесячном возрасте повезли из Ростова-на-Дону лечить в Швейцарию. В дороге отец Иосифа умер. Мать похоронила его в каком-то немецком городке и заплатила 500 золотых рублей за то, чтобы за могилой ухаживали сто лет, до 2001 года.
Затем семнадцать лет Оня с матерью прожили в Швейцарии. Мальчик там лечился и иногда приезжал в Ростов.
Окончательно он вернулся в 1919 году.
В 1912 году вместе со своим дедом Иосиф Леонидович был на открытии санатория «Империал» в Карловых Варах. Великая княгиня Елена обошла отдыхающих русских и собрала деньги на собор Петра и Павла. Построенный в 1898 году по образу и подобию церкви в Останкине при Шереметевском дворце, он и по сей день стоит в городе на улице Петра Первого. Княгиня собрала 350 тысяч рублей на отделку этого храма. Народ в Карловых Варах жил не бедный.
Иосиф Прут получил в «Империале» памятную медаль за пятикратное посещение этого санатория, потом серебряный империал за десять раз и наконец золотой за пятнадцать. А всего он был в «Империале» восемнадцать раз. Главврач санатория сказал, что Прут — главный советский империалист.
В Швейцарии Прут жил в одном интернате с греком Костой. Отец Косты жил на каком-то греческом острове. Однажды отец Косты, богатый судовладелец, приехал с греческого острова Итака посмотреть, как учится его сын. И тут с ним случилась неприятность. Страдая недержанием мочи, он едва добежал до гостиницы, но до номера добежать не успел. Обмочился в коридоре. Пришел директор гостиницы и накричал на него. Отец Косты заплатил горничной за уборку и попросил познакомить его с хозяином гостиницы. На следующий день они с хозяином пообедали. Результатом обеда было то, что отец Косты купил гостиницу и тут же выгнал директора. Гостиница по наследству перешла к Косте. И Прут всегда жил в ней бесплатно.
А Коста говорил:
— Вот видишь, если бы у отца не было недержания мочи, тебе пришлось бы платить за гостиницу.
Впоследствии, уже в 80-е годы, Коста позвонил Пруту и попросил встретить в Москве Кристину — дочь Онассиса, которая приехала в Россию просто как туристка. Прут встретил ее и пятерых сопровождающих. На улице Кристину никто не узнавал. Она этого не понимала — ведь во всем мире она была знаменитостью. Во Франции ее плащ разорвали на куски на сувениры, а здесь на нее никто не обращал внимания.
Прут рассказал ей анекдот:
— Портной в Америке не смог сшить из двух метров ткани костюм президенту Никсону. Наш посол посоветовал обратиться к портному в Одессе. Никсон приехал в Одессу, и старый еврей сшил ему костюм и еще кепочку и пояснил: «Это там вы величина, а здесь вы говно».
Кристина долго смеялась. Потом она поехала на поезде во Владивосток, чтобы посмотреть Россию, а дальше через Японию — домой.
Через полгода она вышла замуж за русского парня Сергея. Он понравился Кристине своей речью на международном совещании по фрахту. Прут говорил, что Сергей — лысоватый, кривой на один глаз, но очень умный человек.
Кристина так объясняла Пруту свое замужество:
— В первый раз я вышла замуж назло отцу за то, что он женился на Жаклин, и выгнала мужа через три недели. Второй раз потому, что отец умирал и хотел видеть меня замужней. Вышла за школьного товарища, одного из директоров. Это произошло в двадцать семь лет. А теперь, в двадцать девять, я полюбила Сережу и честно сказала об этом мужу. Вот теперь выхожу за Сережу.
Греческий посол в СССР спросил Кристину: «Вы хорошо подумали?»
Она не пригласила его на свадьбу, жену посла пригласила, а его нет.
— Я содержу Грецию не для того, чтобы он задавал мне такие вопросы, — объяснила она Пруту.
Иосиф Леонидович был на свадьбе посаженым отцом. Он был приглашен с женой, но жена не смогла приехать.
Милиционер во Дворце бракосочетаний на улице Грибоедова спросил, глядя в пригласительный билет:
— А где жена?
Прут ответил:
— Она не приедет.
— Да вы что, это же свадьба века!
— Слушай, занимайся своим делом и не задавай вопросов, которые тебя не касаются! — огрызнулся Прут.
— Проходите, — сказал милиционер. Множество корреспондентов толпились на улице, но в зал их не пустили.
Прут, правда, рассказывая, упомянул 2000 корреспондентов, но я здесь написал «множество».
Когда-то Владлен Бахнов мне говорил: «Если хотя бы половина того, что говорит Прут, — правда, то уже хорошо».
На церемонии бракосочетания Прут попросил Сережу поторопить представителя Дворца.
Сережа отправился его искать.
А Кристина тем временем спросила Прута:
— Где Сергей?
Прут ответил:
— Ушел жениться.
— Как так?
— Разве тебе не говорили, что у нас женятся сразу на двоих?
— Как это так? — не унималась Кристина.
— Ну, ты же уедешь в Грецию, а ему надо с кем-то жить!
Но тут Сергей вернулся, и розыгрыш закончился.
Кристина называла Прута папой. Как-то звонит ему из-за границы:
— Папа, деньги нужны?
— Нет, — говорит Прут.
Она вешает трубку. Он ей перезванивает в банк, просит, чтобы она снова позвонила. Через двадцать минут звонок:
— В чем дело?
— Ты бы хоть спросила, здоров ли я.
— Голос у тебя здоровый.
— Есть же, в конце концов, какие-то другие вопросы.
— Я, между прочим, звоню за свой счет.
Рассказывая эту историю, Прут всегда добавлял:
— Богатый не тот, кто много имеет, а кто, имея много, мало тратит.
Кстати, сам Прут по советским меркам был человеком состоятельным. У него всегда в театрах шли пьесы. А до войны сценаристам платили, отчисляя долю от проката фильмов.
Интересно воспоминание Юрия Нагибина о Пруте в его дневниках: «Вчера в поликлинике Литфонда видел в коридоре сидящего восьмидесятилетнего Прута, который без очков читал в «Советском экране» статью о себе».
А дальше Нагибин не без сарказма пишет о том, что Прут в детстве учился в швейцарском интернате и теперь ездит туда на юбилеи: «Трогательная любовь наших органов к выпускникам этого интерната». Дело в том, что Прут был почетным пограничником СССР за фильм «Тринадцать» и свою шефскую работу. А пограничники тогда относились к КГБ. А Прут был и почетным чекистом, и кем только почетным он не был.
Но вернемся к друзьям его детства. Коста через много лет, будучи уже компаньоном Онассиса и одним из его директоров, когда заболела жена Прута, вызвал двоих профессоров из Америки и двоих из Швейцарии, и они в течение сорока дней пытались в Париже спасти больную. Однако спасти ее не удалось.
Прут мне рассказывал много интересного. Кое-что из этих рассказов я попробую здесь вспомнить.
Некоторое время назад в СССР приезжал писатель Стейнбек. Когда ему надоели официальные приемы, он попросил у Прута карту Москвы, чтобы найти лес. Нашел Серебряный Бор. «Бор» по словарю — большой лес. Не поехал. Нашел Марьину Рощу — маленький лес. Поехал.
Действительно, увидел небольшой парк вокруг церкви. Он погулял по парку, сел на скамейку. К нему подсел какой-то человек, вынул рубль. Стейнбек тоже вынул рубль. Подошел третий, тоже вынул рубль. Взял деньги, вернулся с бутылкой водки. Они выпили. Стейнбеку это понравилось. Он вынул рубль. Второй тоже и третий. Распили вторую бутылку. Стейнбек вынул еще рубль. Те двое развели руками. Тогда Стейнбек вынул три рубля. После того, как выпили третью бутылку, Стейнбек отключился.
Когда очнулся, первое, что он увидел, — свой ботинок, который лежал в стороне. Второй ботинок был у него на ноге.
Перед собой он увидел сапоги, а подняв голову, увидел всего милиционера. Понял, что сделал что-то нехорошее, вынул из кармана бумажку и прочел: «Я американский писатель, живу в отеле «Националь» Милиционер отдал честь и сказал:
— Продолжайте гулять, товарищ Хемингуэй.
Прут в 1916 году в Швейцарии был соседом Ленина и даже был с ним знаком. Я спросил:
— Вы разговаривали с ним?
— Нет, в те времена младшие только слушали.
Кто-то сказал Ленину:
— Прут хочет умереть за революцию.
Ленин ответил:
— За революцию надо жить.
В 1919 году Прут вернулся в Ростов-на-Дону. Город был занят белыми. Красные наступали. Его дед, крупный торговец зерном, сказал:
— Ты должен выбрать, с кем ты — с белыми или с красными.
Прут спросил:
— Красные — это те, которых ты эксплуатировал?
— Да, — ответил дед.
— Тогда я выбираю красных.
Дед сказал:
— Одобряю твой выбор.
Я не удержался и спросил Прута, почему же он все-таки выбрал красных.
— В то время Дон был красным от погромов.
Прут пошел в Первую Конную к Буденному.
— А что ты можешь? — спросил Семен Михайлович.
— Говорить по-английски и по-французски.
— Это нам не нужно, белые говорят по-русски.
— Могу еще на коне ездить.
— Попробуй, — и Буденный показал на своего коня.
Прут вскочил в седло — конь стал его сбрасывать, однако швейцарская школа верховой езды дала себя знать. Через минуту конь шел испанским шагом.
Буденный закричал:
— А ну слазь, коня мне испортишь!
Прут слез. Буденный спросил:
— Это что? — и показал на лежащую на земле шашку.
Впоследствии он признался Пруту:
— Загадал: если скажешь «сабля», не возьму.
— Шашка, — сказал Прут.
— Иди в строй, — велел Буденный. Позднее, уже лет через пятьдесят, Буденный позвонил Пруту, позвал к себе. Прут приехал. Буденный лежал на диване.
— Что с вами? — спросил Прут.
— В туалет шел, упал, сломал шейку бедра.
— Вот дела, — сказал Прут. — Две тысячи верст на коне отмахали и не падали.
— Так что же мне, в туалет на коне ездить? — Буденный не острил, но все вокруг, в основном генералы, засмеялись.
— Вы чего смеетесь? — буркнул Буденный. — Прут, он ведь не только еврей, он у меня эскадроном командовал.
Как-то Буденный сказал Пруту:
— На семидесятилетие к тебе я прийти не смогу, но вот Нинка (дочь Буденного. — Л. И.) тебе подарок сделает. Ты где-то выступал и сказал, что литературе тебя учил Горький, а военному делу — Буденный.
В день юбилея Нина вынесла на сцену фотографию — Буденный и Горький у Мавзолея.
Друг Прута Коста был женат на принцессе Кенигсбергской и, когда приехал с ней в гости к Пруту, попросил:
— Ты только не вздумай показывать ей медаль «За взятие Кенигсберга».
— Я, — объяснял Прут одной женщине, — могу посмотреть на стадо коров и сразу сказать, сколько там голов.
— Как это вы так быстро? — спросила женщина.
— Я считаю, сколько ног, и делю на четыре.
В 1945 году Прут, командовавший отделением, оказался в немецком городке. Посмотрел на название и понял, что это именно тот городок, где похоронен его отец. Он со своими солдатами, переодевшись в немецкую форму, отправился на кладбище. В городке все еще были немецкие войска. На кладбище Прут попросил смотрителя найти записи за 1901 год. По числу и месяцу нашли запись «Леонид Прут». Пошли на могилу. Она была тщательно убрана. Все цветы были на месте в соответствии с договором.
Смотритель сказал:
— Вам надо будет в две тысячи первом году приехать и заплатить за дальнейшее.
Прут пообещал приехать.
Дед Прута был полный Георгиевский кавалер. Всем тыкал, но себя позволял называть только на «вы».
Когда в Ростов приезжал царь Николай II, дед преподнес ему золотой портсигар и со словами: «Это тебе от нас», — указал на себя.
Прут рассказывал:
— Когда пришли брать жену Ворошилова, он сказал ей: «Встань спиной к моей груди», — вынул два «парабеллума» и крикнул: «Кто шаг сделает, уложу на месте!»
Отстоял.
— Это был мой комиссар, — сказал Прут.
Речь Прута на юбилее Леонида Утесова:
— Утесов с детства завидовал мне, тетя водила меня к Столярскому и учила музыке. Леня пришел к моей тете и сказал:
— Зачем вы зря тратите деньги, у него же нет слуха!
— Ну и что, — возразила тетя, — там его учат не слушать, а играть.
Когда ввели «лит» на исполнение произведений на эстраде. Прут с Утесовым сделали такую сценку в саду «Эрмитаж».
Прут, сидя в ложе театра, чихнул. Утесов взял бумажку и спросил:
— Кто чихнул?
— Я, — ответил Прут.
Утесов прочитал по бумажке: «Будьте здоровы!»
Когда И. Л. Прут уходил на войну, Любовь Орлова подарила ему две стальные пластинки на грудь. К одной из них она приклеила свою фотографию с условием, что Прут отклеит ее, когда война кончится. Орлова была уверена, что Прут останется в живых.
Во время взятия Берлина Прут со своей группой шел под землей по канализационным каналам.
Вдруг появился фашист и выстрелил с четырех метров в грудь Пруту. Пуля попала в правую пластинку. Пластинка прогнулась. На груди под ней осталась вмятина, которую Прут охотно давал пощупать женщинам.
Прут говорил, что Любовь Орлова была добрым человеком, но некоммуникабельным.
Троюродный брат Иосифа Прута, Изя Юдович, жил в Одессе. В четырнадцать лет сбежал на французский корабль, плавал юнгой.
Началась Первая мировая война, и Юдович, уйдя во французскую армию, стал гражданином Франции. Когда он уехал из России, там осталась девочка шестнадцати лет по имени Мара, которую он любил. В 1922 году он приехал за ней в Екатеринослав.
Во Франции Юдович стал богатым человеком, имел свое предприятие. Началась Вторая мировая война. Они бросили все и уехали на юг Франции. Он работал плотником, она возила что-то на мотоцикле. Оба были участниками Сопротивления. Она подорвалась на мине. Осталась инвалидом и хотела покончить с собой. Он вошел в комнату, когда она писала прощальное письмо.
Юдович сказал:
— Если бы ты это сделала, я бы лег рядом.
Кончилась война. Юдович оказался без денег. Попросил тридцать тысяч франков у какого-то друга. Тот отказал:
— Тебе нечем отдавать.
Тогда он взял взаймы у своей бывшей секретарши. Через год стал миллионером на финском лесе. В знак благодарности купил секретарше дом за городом. Секретарша жила там со своей дочкой и внучкой. Юдович полюбил дочку. Начался роман. В конце каждой встречи он оставлял своей любовнице 1000 долларов на жизнь. Однажды, когда он в очередной раз приехал, внучка секретарши сказала, что ее мама умерла. И подала Юдовичу коробку. Там лежали все до единого чеки и записка: «Я была с тобой, потому что очень тебя любила».
История эта описана Валентином Катаевым в его повести «Кубик».
А получилось все так. В. Катаев перед отъездом в Париж, зная, что у Прута там родственники и друзья, попросил Иосифа Леонидовича дать ему рекомендательное письмо к кому-нибудь. Прут дал к Юдовичу. Оба они, и Юдович, и Катаев, из Одессы — будет о чем поговорить. Катаев жил у Юдовичей. Более того, когда он заболел, Мара в Ницце, оплатив Катаеву отель на целый месяц, ухаживала за ним. А Юдович вел с ним долгие откровенные беседы, в частности, рассказал всю приведенную выше историю, добавив при этом, что его жена до сих пор ни о чем не догадывается.
Кстати сказать, Юдович переживал тогда не лучшие времена. Он, имея дело с «Совэкспортом», погорел на нефти. Катаев решил, что Юдович разорился,
и написал в своей повести, будто его герой покончил с собой в подвале, предпочтя смерть позору и нищете. Но он не знал, что основной капитал Юдовича был в швейцарском банке на имя Мары, и, таким образом, они сохранили свои деньги.
Через некоторое время Юдович с Марой приехали в Москву, и как раз вышел журнал «Новый мир» с катаевским «Кубиком».
Прут не знал, что делать. А Юдович сразу спросил:
— Где Катаев? Я хочу с ним увидеться.
Прут сказал:
— Он болен.
Однако Юдович настоял на встрече. И Катаев сам подарил ему книгу с надписью: «Если можете, простите».
Юдович, естественно, читать по-русски не стал.
А Мара прочла и сказала мужу:
— Ты мне веришь?
— Верю.
— И без вопросов?
— Без.
— Тогда я тебе скажу: Катаев — чужой нам человек.
Прут, когда после этого был в Париже, вдруг сказал Юдовичу, показав на подвал:
— Ты здесь покончил с собой?
— С чего это? — удивился Юдович. — Ты что, с ума сошел?
Прут понял, что он ничего не знает.
Однажды Прут встретил Катаева. Тот, улыбаясь, протянул Пруту руку. Прут руки не подал и пошел дальше.
Пастернак с Сельвинским шли по Переделкину. Навстречу Катаев, подал руку Сельвинскому, потом пожал руку Пастернаку.
Когда Катаев отошел, Пастернак спросил:
— Кто этот господин?
— Катаев, — ответил Сельвинский.
Пастернак пришел домой и написал Катаеву письмо: «Извините, я не знал, что это вы, иначе руки бы вам не подал».
Маленькие девочки, внучки известных писателей, спросили Иосифа Леонидовича:
— Дедушка Прут, почему вы не ходите в ту аллею?
Прут сказал:
— Потому что там Мариэтта Шагинян караулит Катаева, чтобы его убить. Вдруг она перепутает и по ошибке убьет меня.
Тут же в аллее появилась Мариэтта Шагинян. Девочки побежали к ней и закричали:
— Тетя Мариэтта Сергеевна! Это не Катаев, это дедушка Прут!
Иосиф Леонидович Прут с Жискаром д’Эстеном, президентом Франции, снимались на Красной площади для французского телевидения.
Речь шла о Бородинском сражении. Ж. д’Эстен сказал, что правым флангом командовал маршал Понятовский, чей потомок является теперь министром в правительстве Франции. И что он стал маршалом в числе двенадцати знаменитых — Мюрата и так далее.
Прут сразу понял ошибку, но ни слова не сказал. Однако потом режиссеру объяснил, что французский президент допустил две неточности. Понятовский в Бородинском сражении был генералом, а маршалом стал через год, когда во время сражения прискакал к Наполеону в крови. Наполеон спросил: «Вы ранены?»
Понятовский ответил: «Я убит», — и упал замертво.
Посмертно получил маршала.
Режиссер спросил Прута, где он хочет получить деньги — во Франции или в СССР. Прут захотел во Франции.
Когда он был там, его двоюродный брат, много лет живущий в Париже, сказал:
— За восемь минут интервью с президентом ты должен получить десять тысяч франков.
Сын брата поправил:
— Думаю, только пять тысяч.
Второй сказал:
— Радуйтесь, если получите три тысячи.
Прут взял такси за 35 франков, выпил с режиссером за 35 франков и получил за интервью ровно 70 франков.
Он заявил:
— Можете свернуть эти семьдесят франков и сунуть их в задницу президенту телекомпании.
Через некоторое время в посольство Франции в Москве пришел перевод на 200 франков.
Когда-то Прут дружил с Горьким и даже считал себя его учеником.
Я спросил Прута, был ли Горький человеком эрудированным.
Прут сказал:
— Не очень. Он, Горький, любил цитаты, но часто произносил их невпопад и неточно.
Однажды приятель Прута, корреспондент «Правды», попросился на обед к Горькому. Прут передал просьбу Алексею Максимовичу.
Тот поинтересовался:
— Ему что, нечего есть?
— Нет, он просто хочет с вами познакомиться.
Приятель был приглашен. Во время обеда Горький сказал:
— Как говорил Франциск Второй… — и дальше шла цитата.
Прут ошибку заметил. Но промолчал. А приятель громко заявил:
— Эта фраза принадлежит Франциску Первому.
Воцарилась тишина.
— Нет, Второму, — сказал Горький. Больше приятеля в гости не звали.
Прут заметил, что в путеводителе по городу Калининграду есть фраза: «В городе Калининграде родился великий немецкий философ Иммануил Кант».
Выступая в Доме литераторов на вечере Академии наук. Прут рассказал про своего друга академика, что в его трудах нашел фразу, которая одна уже увековечила ее автора. И процитировал:
— «В Ленинграде на Дворцовой площади стоит колонна…»
— Ну и что? — спросил академик из первого ряда. — Все правильно.
— Я не закончил, — невозмутимо продолжал Прут. — «А на ней изображение ангела в натуральную величину». Получается, что моему другу известна натуральная величина ангела.
Эстрадный артист, куплетист Н. Рыкунин когда-то отдыхал в «Империале». Вышел на улицу и увидел, как к санаторию подъехал шикарный автомобиль. Из него вышел молодой человек и спросил:
— Вы, наверное, русский? Только русские так рассматривают автомобили.
— Да, — признался Рыкунин, — я из Москвы.
— А вы знаете Прута?
— Это мой друг, — сказал Рыкунин. Молодой человек отдал Рыкунину свою машину на целый месяц.
Это был сын школьного друга Иосифа Леонидовича Прута.
Когда Прут однажды приехал в Лозанну, местная газета написала: «Из Советского Союза приехал господин Прут. Не вздумайте говорить при нем тайное по-французски. Он этот язык знает лучше нас».
Прут сказал мне:
— Никита Богословский у меня вот здесь, — и показал кулак.
— Почему?
И я услышал такую историю.
Однажды Пруту позвонил Павел Лисициан и попросил послушать его концерт, который будет по радио после двенадцати ночи.
— Тебя, — сказал Прут, — я готов слушать и после двенадцати.
Прут сел в кресло и стал слушать. Объявили «Вступление к трем неаполитанским песням» и заиграли мелодию песни «Темная ночь».
Прут тут же позвонил Богословскому и объявил:
— Ты говно.
— Кто это говорит? — спросил спросонья Богословский.
— Весь город говорит. Я только что слушал «Вступление к неаполитанским песням».
А дальше Прут сказал мне:
— Хорошо ему теперь знать, что Прут у него всегда в тылу? Это даже немцам не нравилось.
А это четверостишие Прут сам сочинил и спел в ОДРИ в присутствии Соловьева-Седого на мотив «Хризантем»:
Соловьев, Соловьев, Соловьев ты седой,
Только песни твои вот с такой бородой.
В восемьсот девяносто четвертом году
Отцвели уж давно хризантемы в саду.
В «Империале» одна женщина пожаловалась Пруту, что не может здесь спать, поскольку фонари ночью с улицы светят ей прямо в окно.
Прут сказал мне:
— О, это то, что я себе сам сделал в Москве. У нас возле дома не горели фонари. Я позвонил начальнику милиции и сказал ему, что, если мне ночью встретится академик из соседнего подъезда, я его зарежу.
— Почему? — спросил начальник.
— Я буду думать, что это бандит, а отвечать придется тебе.
— Почему?
— Потому что я знаком с министром МВД, а ты нет.
Вечером все фонари перед домом горели, и никто в доме не мог спать, в том числе и Прут.
Наум Лабковский, переводчик и сатирик, перевел с украинского на русский Остапа Вишню.
Прут сказал: «Перевел с малорусского на еще менее русский».
Память у Иосифа Леонидовича и в восемьдесят пять была потрясающая. Он помнил логарифмы разных чисел и даже число пи до восьмой цифры. Я проверял.
Поэт Рудерман, написавший песню «Тачанка», жил на Тверском бульваре. Пошел на улицу Горького покупать диван. В магазине ему дали тележку, и он повез свой диван на тележке.
В это время улицу Горького оцепили — по ней ехал какой-то высокий гость.
Рудерман подошел к постовому и сказал:
— Я писатель Рудерман. Я купил себе диван.
Милиционер подумал, что это какой-то чокнутый, и отмахнулся от него, послал к капитану.
Рудерман подошел к капитану:
— Вы товарищ капитан? Я писатель Рудерман. Я купил себе диван.
Капитан послал его вместе с диваном. Хорошо, что оцепление через час сняли. Это про Рудермана, который болел туберкулезом, Светлов сказал:
— Если бы не туберкулез, он бы уже давно умер.
Дело в том, что туберкулезникам давали дополнительное питание.
Никита Богословский однажды пришел на собрание композиторов и сказал:
— Я у вас отниму всего одну минуту. — Вынул ноты и спросил: — Кто может сыграть с листа?
Кто-то вышел и по нотам сыграл песню «В лесу прифронтовом».
— Что это? — спросил Богословский.
Все ответили:
— «В лесу прифронтовом» Блантера.
— А теперь прочтите, что написано на нотах. Там стояло: «Вальс из оперетты «Черная пантера». Композитор Имре Кальман».
Дядя Прута умер в Париже в возрасте ста лет.
Когда ему было девяносто восемь, позвонила секретарша врача и стала заполнять анкету: адрес, диагноз, этаж, код и наконец возраст.
Дядя сказал:
— Девяносто семь лет.
Прут спросил:
— Зачем ты соврал, тебе же девяносто восемь.
Дядя ответил:
— Врачи не любят лечить стариков.
Прут на встрече с труппой Карловарского театра рассказывал:
— Меня часто спрашивают, как мне удалось прожить столько лет. Обычно я отвечаю так. Я был женат несколько раз. Каждый раз, женившись, я говорил жене: «Я человек тихий, не скандальный, если ты будешь повышать на меня голос, я тут же уйду на улицу».
Итак, я всю жизнь живу на свежем воздухе.
Прут инсценировал «Театральный роман» Булгакова, который, как известно, не окончен.
В «Театральном романе» есть сцена с пистолетом. Прут с нее начал инсценировку и пистолетом закончил.
Отнес инсценировку жене Булгакова. Она прочла и попросила не отдавать пьесу в театр.
— Почему? — удивился Прут.
— Вы знаете, почему Михаил Афанасьевич не закончил роман?
— Нет.
— Потому что он не мог придумать концовку. А вы придумали, поэтому не надо.
Прут так и не отнес пьесу в театр.
Я спросил Прута:
— Наверное, Михаил Афанасьевич был очень сложный человек?
— Да.
— Обидчивый?
— Нет, он считал, что обижаться — это унижать себя. Я тоже ни на кого не обижаюсь. Человек, равный мне, не может меня обидеть намеренно, а обижаться на неровню не стоит.
Когда о Пруте плохо написала английская газета, лорд Болингброк спросил:
— Почему вы не ответили?
Прут сказал:
— Я вам удивляюсь, ведь вы лорд и знаете, что нельзя драться на дуэли с лакеем.
А однажды Прут сказал мне:
— Надо сделать все, чтобы умереть здоровым.
Я ответил:
— Мне это уже не удастся.
Когда Луначарский ушел с поста министра культуры, на его место назначили начальника Политуправления. А тот поставил во главе реперткома заведующего гаражом.
Прут привел к нему М. Булгакова с новой пьесой. Бывший завгар сказал, что пьеса Булгакова не пойдет, как и все последующие.
— Как это так? — возмутился Прут.
— Атак, — сказал бывший завгар. — Бул Гаков, и нема Гакова.
Восьмидесятилетний Иосиф Леонидович Прут пошел на лекцию о долголетии. Врач Путовкин говорил о средней продолжительности жизни вообще и о том, что у нас она в связи с чудовищным улучшением условий жизни дошла аж до семидесяти лет. Потом почему-то вдруг заговорил о неграх и спросил чисто риторически:
— Ну кто может быть несчастнее безногого нищего негра в США?
— Только безногий нищий негр в СССР, — сказал Прут.
Лектор нервно рассмеялся и кивнул на Прута: — Какой остроумный молодой человек.
Прут победоносно посмотрел вокруг себя. А лектор продолжал говорить о пользе умеренности. О вреде излишеств.
— Вот посмотрите, среди вас сидит молодой человек довольно преклонного возраста. Он наверняка сдержан в своих жизненных проявлениях. Как говорится, «живи просто, доживешь до ста». Вы курите? — спросил он у Прута.
— Нет, — ответил Прут.
— Вот видите! — обрадовался лектор. — А пьете?
— А как же!
— Но уж наверняка всю жизнь прожили с одной супругой?
— Женат в четвертый раз! — гордо заявил Прут.
— Ну что ж, бывают исключения, — сказал лектор и стал рассказывать о том, что надо каждый вечер пить кефир и есть поменьше мяса.
— Вот наш любезный э-э-э… долгожитель наверняка не ест мяса и обожает кефир.
— Мясо ем каждый день, — сурово сказал Прут, — а кефир терпеть не могу.
Тут лектор потерял терпение:
— Вот вы и выглядите на семьдесят лет.
— Спасибо, — улыбнулся Прут, — мне уже восемьдесят.
Прут ездил во Францию и Швейцарию к своим родственникам и всегда привозил оттуда чемодан лекарств — д ля всех своих друзей и знакомых.
Однажды, узнав, что у меня нет видеомагнитофона, он предложил мне чеки. Тогда видеомагнитофон можно было купить только в «Березке» на чеки. И вот я заехал за ним домой на Аэропорт и повез аж на Сиреневый бульвар, там была «Березка» с аппаратурой.
Мы приехали, а магазин закрыт на учет.
Я долго перед Прутом извинялся и отвез его домой. Больше бы я к нему, конечно же, не обратился. Однако Прутик недели через две сам позвонил и предложил поехать в «Березку». Мы поехали, и я наконец купил себе видеомагнитофон.
Помню, однажды он вдруг позвонил и спросил:
— У вас все нормально?
— Да так, по-разному, — сказал я, — а почему вы спрашиваете?
— Мне Леночка твоя приснилась, я решил позвонить, справиться.
Как раз в это время Лена попала в больницу.
Чем я ему мог быть полезен? Практически ничем. На его девяностолетие я подготовил поздравление. На сцене ЦДЛ я, пародируя Урмаса Отта, брал интервью у Ельцина и Горбачева, которых изображал пародист Михаил Грушевский. Речь шла, естественно, о Пруте. Он был очень доволен. Это было 18 ноября 1990 года. А в декабре я собрался в Америку. Случайно встретил Прута. Он спросил, где я был
за границей. Я сказал, что весной был в Англии.
— И что же ты не сказал?
— А что, — ответил я вопросом на вопрос, — у вас там, конечно же, подруга — королева Английская?
— Нет, — сказал Прут, — герцог Бэкингемский. Между прочим, я единственный не королевских кровей состою в Клубе королей Европы. А куда ты направляешься сейчас?
— В Америку. У вас там тоже кто-то есть?
— У меня там, чтобы ты знал, во-первых, Бел Кауфман, писательница, автор книги «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Ты читал?
— Читал.
— А заодно она внучка Шолом-Алейхема. И, во-вторых, у меня там миллиардер Джон Джонсон (фамилия мною выдумана. — Л. И.). Когда я еду в Швейцарию, он садится на самолет и летит в Европу, чтобы встретиться со мной. Так что приезжай ко мне, я тебе дам к ним письма.
Я приехал к Пруту, он мне показал фотографию: маленькая девочка сидит на коленях у Шолом-Алейхема.
— Это Бел Кауфман, — сказал Прут.
Он дал мне два письма. Одно к писательнице, другое к миллиардеру.
Приехав в Америку, я не очень-то спешил звонить друзьям Прута, понимая, что им не до меня.
Однажды мой хозяин Джозеф, у которого мы жили, повез нас с женой в магазин Трампа, и там я увидел витрину с бриллиантами. Над витриной висела табличка, на которой было написано имя моего миллиардера.
Я похвалился, что у меня есть к нему рекомендательное письмо.
Джозеф изумился:
— Как, у тебя к нему письмо и ты не звонишь? Сегодня же звони, для меня это очень важно.
Правда, и Джозеф совсем не бедный человек, сам миллионер, но, услышав про этого Джона Джонсона, так разволновался…
На другой день я позвонил Бел Кауфман и Джонсону.
Кауфман, узнав, кто я, тут же радостно закричала:
— Что же вы не появляетесь? Я вас жду. Скажите, как прошел юбилей Онечки? Приезжайте, попьем кофе, поговорим!
Я пообещал вскоре приехать.
Что касается Джонсона, то его, конечно же, не оказалось на месте. Секретарша сказала, что он куда-то улетел. А буквально на следующий день я заболел и провалялся неделю с температурой.
Звонила Бел Кауфман, я перед ней извинился, что не могу приехать.
А этот Джонсон пропал. На что мой Джозеф философски заметил:
— Бедные сами тебя найдут, а богатого никогда нет.
Выздоровев, я поехал на Ниагарский водопад, вернулись мы дня через три. Меня встречал возбужденный Джозеф:
— Слушай, тебя разыскивает этот Джонсон, его секретарша уже три раза звонила. Кто этот Прут, который так всем нужен?
Я перезвонил Джонсону, но он опять куда-то уехал. А мне уже пора было домой. Я не увидел ни Бел Кауфман, ни Джонсона, но мне было приятно, что они так уважительно относятся к Пруту.
В 2000 году вышла книга воспоминаний Прута. Я очень рад, что поспособствовал ее выходу.
Издатели боялись, что книга не разойдется. Кто теперь помнит Прута? Однако я был уверен в успехе. Так оно и получилось. 5000 экземпляров разлетелись буквально в месяц. И не удивительно. Прутик в своей жизни встречался с такими интересными людьми. И сам Иосиф Леонидович был замечательным человеком… Я счастлив, что дружил с ним.
А вы, дорогой читатель, обязательно купите книгу Прута. Она называется «Неподдающийся» и вышла в издательстве «Вагриус».
Прочтите. Не пожалеете.
Лион Измайлов https://kniga-online.com/books....ov.html
____________________________________________
164786
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 11.10.2024, 22:53 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 12.10.2024, 17:11 | Сообщение # 2861 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Иосиф Прут - «Неподдающийся»
***
Значит, у моего деда Прута был дядя: брат моего прадеда Иосифа, в честь которого я назван.
Жил брат прадеда Иосифа — Яков — в Азове. Он был посессором: арендовал у городских властей участок земли и разводил на нем индюков. Индюков этих прадед Яков поставлял на стол наказного атамана Всевеликого войска Донского в город Новочеркасск.
Индюки были — огромные, но и цена на них — по тогдашним временам — очень высокая: оптом тридцать пять копеек штука.
Хоть прапрадед Яков и считался евреем, в синагогу не ходил. Его синагога не принимала, потому что он ругался матом. Причем в матерщину свою еще вкрапливал имя Бога.
К тому же жил Яков с русской женщиной, которая была у него в услужении, да еще и курил по субботам.
Кроме всего, он был отцом знаменитой тети Ани, жившей в Одессе. Но так как отец и дочь являлись людьми особого характера, они встречались довольно редко. В 1912 году я приехал в Россию летом. Дед Яков в это время гостил у нас.
Он приехал за день до меня. Поэтому о многом поговорить со своим племянником (моим дедушкой) не успел.
Был поздний вечер. Я уже лежал в постели, а в соседней комнате — гостиной — сидели дядя с племянником. Дед Прут спросил у Якова:
— Что там за история вышла у вас, дядя, в Азове?
На вопрос племянника дед Яков ответил не сразу. Он, очевидно, покосился на дверь моей комнаты и кивнул головой. На что дед Прут ответил (имея в виду меня):
— Он уже давно спит. Рассказывайте!
И старший в нашем роду начал:
— В Азове я не хожу в синагогу. И вообще нигде не хожу! Коли надо поговорить с Богом, так я с ним не при людях разговариваю. А местные меня за это дражнють. То и слышу: «Какой вы наш?! Молиться не молитесь, — живете с русской женщиной, ругаетесь в бога-мать, курите по субботам и плюваете на всех и на все!..»
Вдруг… я заболел. Ходила за мной моя Маруська, но что-то прихватило сердце, и встать не могу! Думая, что мне уже идеть конец, Маруська их позвала. Пришли эти умники с книгами и начали мене отпевать, читая громко молитвы. Будешь, Соломон, смеяться, но мне стало легче, а тут еще одна история… В общем, выздоровел я… Вышел и сижу на лавочке у себя в саду. Эти старые пердуны являются, и один из них мне говорит:
«— Ну, Яков, где ж твои выражения насчет Бога? Вся твоя грубость? И твоя Маруська с папиросами?
— А что такое? — спрашиваю я.
— Значит, Бог есть, если он тебя спас?!
— А почему вы думаете, что это его работа? — задаю я им вопрос.
— Ну, Яков, вы нахал! Мы сидели около вас и читали молитвы, в тот момент, когда я провозгласил: “Господи, опусти твой взгляд на грешника и спаси его!”, вы, старый хулиган, открыли глаза, повернули голову — посмотрели на священные книги, что мы держали в руках. И на вашем лице появилась улыбка. Улыбка счастья, что Бог вам помог!
— Та глупости все это! — сказал я им. — Когда я посмотрел на ваши книги, то подумал о другом. С месяц назад я ехал полем на возу с сеном для моих кормильцев. На обочине стояла девка и говорит: “Дядя, подвези!” Я ей: “Садись”. Она влезла на воз, и я полез на нее. Но у меня ничего не получилось!
— Почему? — заинтересовался дед Прут.
— Да потому что я пихаю, а она уходит в сено! “Так вот, — говорю этим старикам. — Кабы тогда ей под зад ваши книги!.. Потому — когда я их увидел — я и улыбнулся: вспомнил!”»
Однако всему приходит конец. Пришел конец и ухарству деда Якова. Когда он вновь приехал в Ростов и пожаловался своему племяннику — моему деду, что его не пускают в синагогу, в Ростове происходили большие религиозные события: из Вильнюса прибыл Великий раввин Ашкенази.
Мой дед взял с собой Якова в синагогу, чтобы тот смог помолиться.
Великий раввин читал проповедь. Синагога сияла огнями. Она была переполнена верующими. Женщины, как полагается, сидели наверху отдельно. Мужчины — внизу. Казенный раввин Гольденберг переводил с древнееврейского на идиш то, что говорил Великий раввин.
Когда тот закончил молитву, мой дед с ужасом увидел, что перед Великим раввином вырос дядя Яков.
Мой двоюродный прадед закричал:
— Я молиться хочу! Дарм вил их! А они — в Азове — не пускают меня, еб их мать! — При этом он бил себя кулаком, и Георгиевский крест трепетал на его груди. — Не пускают, суки, из-за этого креста!
Великий раввин ничего не понял из русской речи моего прадеда, но обратился к Гольденбергу:
— Я не знаю, что говорит этот человек, но мне кажется, что он говорит правильно. Почему он показал на свой крест?
Гольденберг объяснил раввину суть дела. Тогда Великий раввин сказал:
— Этот крест — не крест черной сотни, которая мучает наш народ. Такую награду человек получил потому, что героически сражался за свою великую Родину — Россию — нашу мать, мать всех народов, населяющих ее огромные пространства. И его крест является символом величия и храбрости, а не порабощения! Пусть этот человек ходит в синагогу, как все. Передайте в Азов, чтобы ему там разрешили молиться.
Побывал в синагоге раз и я (десять золотых, обещанные дедами, стоили того!). Помню, как оба старика — Прут и Аптекман — между молитвами переговаривались: «Наш внучек с головой! Я заглянул в его задачник: ничего не понял! Из одного бассейна переливали воду в другой, а поезд ехал с такой-то скоростью… Вопрос: сколько было воды в бассейне? Наш (тут последовал жест в мою сторону) шмырк-шмырк карандашиком… И ответ, точно как в задачнике!» Оба с любовью и гордостью погладили меня по голове.
Иногда деды брали меня на ссыпку: место, где из мешков хлеб пересыпали в бункера или в трюмы кораблей, которые его увозили за море.
Для разминки старики боролись на поясах. По кубатуре они были одинаковыми. Дед Аптекман — пониже ростом, но шире в плечах. А дед Прут — повыше, но в плечах уже. Силы они тоже были одинаковой и никак не могли опрокинуть один другого.
Помню это зрелище: они, как быки, зарывались ногами в прибрежный песок, но победить один другого не могли, из-за чего всегда огорчались. Выручал старший рабочий деда Прута — Александр Максимович Поддубный — брат знаменитого впоследствии русского борца. Он спрашивал:
— Чего расстроен, хозяин?
Дед отвечал:
— Не можем опрокинуть друг друга…
— Так давайте я вас покидаю обоих!
К удовольствию дедов, Александр Максимович схватывал их за пояса и через секунду, взметнув обоих в воздух, клал на лопатки. После этого каждый из дедов вручал победителю по полтиннику.
Буйный характер отличал не только дядю Якова. Оба деда, как по отцовской, так и материнской линии, были тоже нрава крутого, ибо род наш происходит из горного аула Даргкох. И во мне временами проявляются некие странности, присущие, может быть, только моим далеким предкам.
***
Первый приезд в Россию
В декабре 1908 года я впервые был привезен на рождественские каникулы домой.
Дед Прут взял меня с собой из Ростова в Москву, потом мы вернулись в Ростов, откуда я вновь отбыл в Швейцарию.
Об этом — моем первом — приезде на родину, пожалуй, стоит кое-что рассказать.
Дед Прут дружил с Федором Ивановичем Шаляпиным. И в Москве я попал в его гостеприимный дом на детский бал. Давался он в честь старшей дочери великого певца — Ирочки, моей однолетки.
Мы сразу подружились, ибо и она, и я лихо говорили по-французски.
Балом руководил сам хозяин. К нему подошла крошечная пятилетняя девочка и, волнуясь, стала что-то говорить. Шаляпин погладил ее по головке, осмотрелся, остановил свой взгляд на мне, подозвал жестом и сказал:
— Ты, Оня, уже знаешь расположение наших комнат. Отведи, пожалуйста, ребенка пописать.
Я выполнил поручение: довел девочку до туалета, помог ей, и мы вместе вернулись в зал. Девочкой этой была Наталья Петровна Кончаловская — дочка известного уже тогда художника и внучка великого живописца Сурикова, впоследствии — великолепный литератор, супруга Сергея Михалкова и мать Андрона и Никиты — прославленных мастеров российского кино.
Когда — через много лет — на юбилейном вечере Натальи Петровны (а стукнуло ей в ту пору восемьдесят!) я рассказал со сцены Центрального Дома работников искусств, где проходило торжество, о нашем знакомстве, сидевший в президиуме Сергей Владимирович Михалков громко заметил:
— Н-н-у, после эт-того я тоже ее часто водил!
На что я немедленно ответил:
— Возможно. Но я все-таки был первым!
Вернусь, однако, к балу у Шаляпиных.
Не прошло и получаса, как Федор Иванович объявил «белый вальс»: это значило, что «дамы» должны были приглашать «кавалеров».
Я приготовился, уверенный, что Ирочка, с которой я все время танцевал, выберет меня. Но в этот момент открылась дверь… и все замерли, потому что в зал впорхнуло неземное существо. Именно не земное, а небесное, ибо оно не вошло, а возникло. Да, это, безусловно, была маленькая фея из сказки: роскошные белые локоны, увенчанные огромным розовым бантом, воздушное кружевное розовое платье… Скажу честно, даже я ничего подобного не видывал!
Царственным оком девочка окинула сразу же притихших детей, подошла к хозяину и, приподнявшись на цыпочки, дотянулась до его лица, чтобы с ним поцеловаться.
Федор Иванович, прижав ее к сердцу, опустил затем это необычное существо на пол и громко повторил:
— Белый вальс!
Царевна-фея осмотрелась и, очевидно, приняв решение, прямо подошла ко мне и произнесла «со значением»:
— Я приглашаю вас.
И мы пошли танцевать. И было ей шесть лет. И была это Любовь Петровна Орлова — будущая великая кинозвезда.
С ней мы дружили всю жизнь. Но с той первой минуты нашего знакомства у меня никогда не повернулся язык перейти с этой удивительной женщиной на «ты».
Лидия Русланова
И все-таки упомянутыми двумя знаменательными встречами для меня 1908 год не закончился. На мои весенние каникулы мы с дедом поехали в Саратов.
Прибыв в этот город на великой русской реке, остановились у друга деда — купца Евстигнеева.
После завтрака хозяин предложил пойти к службе в Кафедральный собор: там пел хор, в котором выделялся один удивительный детский голосок. Весь город ходил слушать этого ребенка. Так в Саратове и говорили: «Идем сегодня на сироту!»
Пошли и мы, благо храм находился почти напротив.
Народу было много. Поэтому остановились мы втроем недалеко от входа.
То, что вы прочтете ниже, было написано к круглой дате со дня рождения моей дорогой, но уже покойной подруги — Лидии Руслановой.
Детей в этой семье родилось трое: две девочки и мальчик. Лида была старшенькой. Мать умерла, когда младшему из ребят исполнился год, а Лиде в ту пору стукнуло уже четыре. И тогда все стали жить у отцовых родителей — бабки и деда.
Отец был единственным кормильцем многочисленной семьи: дед харкал кровью и мог помогать ведущей хозяйство бабке только по дому. Лида — с малолетства — ходила за меньшими братом и сестрой. Концы с концами сводили еле-еле. Но тут началась русско-японская война, отца забрали в солдаты, погрузили в теплушку, и воинский поезд направился на Дальний Восток. Вскоре в дом пришла нужда. Кормить детей стало нечем. И пошла нищенкой по дворам маленькая Лида: просить милостыню и петь для прокорма своей родни.
И представьте себе, у этой девочки-певицы появилась своя «аудитория». Ее стали зазывать во дворы. А одна купчиха, подавая милостыню, даже обучила «жалостливости»:
— Ты, девица, раньше чем петь, сначала о себе расскажи! Так, мол, и так, остались мы на свете одни, горемычные, а батя наш — солдатик — веру, царя и Отечество защищает! Подайте копеечку ради Христа! А уж когда тебе бросят, только тогда рот и открывай. Нечего для них задаром петь!
Хождения с сумой продолжались почти год. На журчащий голосок пятилетней девочки особое внимание обратила какая-то чиновница, вдова. И сделала она доброе дело: определила всех троих детей по разным приютам. Так началась у моей подруги самостоятельная жизнь.
В приюте был детский хор. Регенту ее голосок понравился, и состоялись ее первые выступления: дети пели на похоронах, свадьбах, в церкви, на днях рождения.
Я уже говорил, что в 1908 году приехал с дедом Прутом в город на великой русской реке в Страстную неделю и мы вместе с купцом Евстигнеевым, с которым дедушка во время Турецкой кампании служил в одном взводе, пошли в собор послушать хор и особо — сироту… Оба они — иудей и православный — были полными Георгиевскими кавалерами, поэтому религиозных споров между бывшими воинами не возникало.
В тот день внимание мое в соборе приковал стоящий у дверей солдат-инвалид. Опирался он то ли на костыль, то ли на палку. Мне было непонятно: ведь солдат должен был находиться на войне или в казарме. Я не спускал с него глаз. Он стоял ровно, обыкновенно, равнодушно. Вдруг человек весь преобразился: вытянул шею, подался вперед, до предела напрягая слух. Тогда уже стал прислушиваться и я. На угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первородной чистоты. Мне показалось, что никто в этой массе народа — и я в том числе — не дышал. А голос звучал все сильнее, и было в нем нечто мистическое, нечто такое непонятное, что я… испугался, соприкоснувшись с таким волшебством и задрожал, услышав шепот монашки, стоящей рядом: «Ангел! Ангел небесный!»
Я, словно зачарованный, робея, смотрел в потолок, надеясь увидеть, как — через крышу — ангел улетит в свои небесные покои…
Пришел в себя, лишь когда Евстигнеев, подмигнув моему деду, сказал:
— Ну, юноша, не желаешь ли познакомиться с артисткой? Пойдем, покажу ее тебе!
Служба кончилась. Люди стали расходиться. Проковылял к выходу и безногий солдат, на которого я вначале смотрел: меня больше интересовал этот человек, потерявший на войне ногу и опиравшийся на костыль, его Георгиевский крест, висевший на выгоревшей гимнастерке, нежели окружающие и пение хора. От солдата я отвлекся, только заслышав тоненький голосок «ангела»…
Мы направились в глубину опустевшего храма, где — за алтарем — собирался хор. У стены стояла девочка моих лет. Темноволосая, аккуратно причесанная, в скромном ситцевом платьице.
— Подай руку сиротинушке! — сказал мне Евстигнеев, не отличавшийся особой деликатностью. — Да еще приложи полтинник: ей на конфеты, а то их в приюте этим продуктом не балуют!
Дед незаметно сунул мне в карман серебряную монету, и я сказал девочке:
— Здравствуйте.
Она ответила:
— С добрым днем, сударь!
Дед толкнул меня в спину. Я подал девочке полтинник, но сказать больше ничего не мог. Она сама выручила меня:
— Спасибочки, господин хороший! Это нам на ириски!
— Ну, буде! — заключил Евстигнеев. И мы ушли.
Так закончилась моя первая встреча с этой девочкой, ставшей впоследствии мне очень близким другом.
С уже знаменитой певицей — Лидией Андреевной Руслановой — я встретился через пятнадцать лет.
Шел 1923 год. Отгремели залпы боев с интервентами и белогвардейцами, я отслужил свое в рядах Первой Конной, затем участвовал в формировании пограничных частей, в разгроме басмаческих банд и — после демобилизации, — будучи журналистом, оказался в родном Ростове-на-Дону.
На летней эстраде бывшего Коммерческого клуба впервые выступала со своими песнями Лидия Русланова. Профессиональная певица с большим опытом, ученица чудесного певца и педагога Михаила Ефимовича Медведева — профессора Саратовской консерватории, бесплатно обучавшего четырнадцатилетнюю сироту. За спиной юной Руслановой были уже бесчисленные выступления перед рабочими — гвардейцами революции, а затем перед бойцам и регулярной Красной Армии в течение всего периода Гражданской войны. Она пела им русские народные песни, те, что пела всю свою жизнь.
Первый ростовский концерт прошел очень успешно, и началось ее полувековое триумфальное шествие по эстрадным площадкам и театральным сценам нашей страны.
Представьте себе, что мы — тогда — узнали друг друга. И после концерта, предавшись воспоминаниям, попытались точно восстановить события далекого, как нам казалось, прошлого. И, уже прощаясь, я упомянул о солдате-инвалиде, стоявшем в соборе и с особым вниманием слушавшем хор. Улыбка мгновенно слетела с лица молодой женщины. Русланова с грустью сказала:
— Этот солдат был… мой отец! Он всегда приходил меня слушать! Я знала это и пела только для него одного. Но «объявиться» отец не мог. Сделай он это, ему бы сразу вернули из приюта всех троих детей… А прокормить нас он не имел возможности…
— Жив ли твой отец? — спросил я. — Где брат и сестра?
— Не знаю. Вот встану на ноги, начну всех искать. Может, найду.
С 1925 года Русланова жила в Москве. И она — с первых шагов — завоевала любовь столичных зрителей. Ее участие в концертной программе обеспечивало аншлаговый сбор. Высокая московская эстрадно-артистическая элита, столь взыскательная и требовательная в отборе, сразу же приняла в свой круг это жизнерадостное молодое существо, обладавшее таким чарующим и одновременно таким могучим меццо-сопрано, до конца отданным одной теме: русской народной песне, услышанной на дальней окраине и пришедшей к нам из глубины веков.
Лидию Русланову и ее мужа Михаила Гаркави — одного из лучших конферансье того времени — всегда окружало непосредственное веселье, юмор и шутка, острое слово, тонкий анекдот, и — обязательно — музыкальным фоном — русская песня. Меня в Руслановой неизменно поражала сила ее духа. Она проявлялась у моей подруги буквально во всем. Казалось, не было жизненного компонента, в котором бы не чувствовалось это особенное, такое могучее, такое «руслановское». Лидия Андреевна была непоколебима в отборе репертуара, в оценке лично своего исполнения, в прямоте суждения о творчестве музыкантов и товарищей по совместной работе в концертных бригадах.
Я преклонялся перед ее принципиальностью в выборе друзей. Ни в чем не терпя пошлости и фальши, она никому не прощала их. Но принципиальность ее заключалась еще и в том, что особо строга Русланова была главным образом к себе.
В ее доме бывали только близкие, только те, кто был ей дорог. Проницательность ее состояла в умении дать подлинную оценку дружбе, учитывая не внешнюю импозантность, не форму носа, а температуру сердца.
Сила ее духа ощущалась в любом, даже бытовом, проявлении, во всем, за что бы она ни бралась. Зачастую не имея о чем-то ни малейшего представления, никогда этому не учась, она преодолевала все препятствия лишь силой своих воли и духа и неизменно достигала цели. Лидия Андреевна, например, добилась больших успехов в искусстве составления букетов (в Японии это — целая сложная наука!) и не меньших успехов в искусстве приготовления пищи (лучшие — по мнению гурманов — пироги с капустой, когда-либо изготовлявшиеся в частных домах столицы).
Но к отдельным сторонам жизненного обихода Русланова была совершенно равнодушна. У нее никогда не было ни малейшего интереса к нарядам, чисто женского культа одежды, внешнего вида. В этом отношении моя подруга была более чем скромна, хотя на официальных приемах выглядела царственно. Будучи женщиной среднего роста, она казалась высокой, такая была в ней стать и особая, присущая только ей одухотворенность. Поэтому она и приносила с собой на сцену величавость русского женского обаяния, нечто такое чисто народное, сельское, что описать стихами мог бы только великий Некрасов.
Драгоценный камень в кольце требует достойной оправы, песня — хорошего аккомпанемента. Сопровождали выступления Руслановой саратовская гармошка Владимира Максакова, баян и аккордеон Льва Комлева, а партию рояля вели Ставицкий и Борис Мандрус.
Не знаю, то ли это были отголоски тяжелого детства, то ли выработалось скачкообразно прожитой жизнью: из холода в жар, из нищеты в благополучие, из успеха в неудачу, но Русланова обладала удивительным свойством: предчувствовать приближение радости или беды — большой либо даже самой малой. Это чувство сохранилось у нее до последнего часа: она все знала наперед, поэтому успела своевременно с нами попрощаться.
Ее не баловала судьба. Счастье — творческое и личное — давалось ей не легко. Русланова не имела положительных рецензий в прессе даже в ту пору, когда заслуженно считалась яркой звездой советской эстрады.
Происходило сие то ли потому, что русская народная песня еще не классифицировалась как часть большого творческого наследия, то ли потому, что сама эстрада признавалась лишь второстепенным искусством — не знаю, но я констатирую факты.
Зато бывало и обратное. Надо заметить, что совершенно исключительным — каким-то особо восторженным — успехом пользовалась Русланова вне Москвы. Учитывая эту необыкновенную любовь зрителей, местные филармонии часто в летнюю пору устраивали концерты столь популярной певицы на стадионах.
Так однажды было в столице большой приволжской национальной автономной республики. Все места заняты: просто яблоку негде упасть.
Я находился в этом городе как автор пьесы, премьера которой прошла накануне в местном русском драматическом театре. Проводив Лидию Андреевну до артистических комнат стадиона, я вдруг услышал от нее:
— Плохое у меня настроение, брат! Что-то обязательно случится!
Я, как мог, постарался отвлечь ее от дурных мыслей, напомнил, что до выхода на сцену осталось менее получаса, и собирался уже было выйти, чтобы успеть добраться до ложи на трибуне и дать возможность Лидии Андреевне переодеться. Но в уборную без стука ввалился какой-то развязный молодой человек, оказавшийся репортером областной газеты. Сначала он спросил у меня: не муж ли я Руслановой? Услышав отрицательный ответ, перестал интересоваться моей персоной и сразу забросал Лидию Андреевну вопросами, имеющими весьма отдаленное отношение к ее амплуа: сколько она получает за концерт на стадионе — больше или меньше, чем в зале филармонии? За кем замужем? И правда ли, что…
Русланова вообще не переносила наглости. Поэтому она резко, но подчеркнуто вежливо остановила вопрошающего, затем — для своего успокоения, — сдерживаясь, выпила, как всегда перед концертом, почти полный стакан негазированной минеральной воды и попросила неожиданного визитера оставить ее одну, чтобы она смогла подготовиться к выступлению.
Мы с репортером вышли вместе и молча разошлись по своим местам.
Русланова появилась в своем концертном наряде и направилась к стоящему на середине поля возвышению, где ее уже ждали аккомпаниаторы. Не заметив лежащих на земле проводов, она споткнулась и чуть было не упала. Но удержалась и сдавленным от волнения голосом крикнула рано начавшим вступление баянистам:
— Повторите, ребятки, еще раз!
Затем Лидия Андреевна поднялась на эстраду и запела — как всегда, прекрасно.
Каков же был краткий газетный отчет об этом концерте?
Писалось, что выступление артистки вряд ли могло удовлетворить присутствующих, так как «Русланова перед выходом хватила стакан водки, затем — пьяная — шатаясь, чуть не грохнулась на землю и в первой же песне дала петуха».
Рецензию Лидия Андреевна получила уже в Москве и сказала, показывая ее мне:
— А ты не верил, что эта поездка плохо закончится.
У Руслановой было уникальное — присущее только ей одной — страстное отношение ко всему, с чем она соприкасалась. Назову его условно «самоотдачей». В первую очередь это относится к ее творчеству, к сбору русского народного фольклора и народного юмора. Всю себя она отдавала собирательству того, что дала музыкальной культуре русская деревня.
Будучи настоящей — во всем величии этого слова — русской женщиной, хозяйкой своей родной страны, она дружила со всеми многонациональными представителями советского искусства и литературы. Но в квартире Руслановой все было только русское: посуда, мебель, картины и лучшие образцы народного творчества.
— Европу — уважаю, а Россию — люблю до боли.
Она была русской в своем крестьянском уборе, когда выходила на советскую сцену, но представляла Россию Советскую, выступая перед иностранцами.
До войны жена одного из послов государства-сателлита Гитлера осмелилась, прощаясь после приема, «преподнести» Руслановой пакет с шестью парами шелковых чулок. Лидия Андреевна улыбнулась, поблагодарила, но закончила так:
— Советской актрисе эдаких «подарков», мадам, не делают!
И тут же отдала чулки, добавив к ним сто рублей, горничной посольства, которая помогала Руслановой надеть норковую шубу.
Из нас — своих самых близких друзей — больше всех ценила Русланова Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Любила она его за смелость суждений, за возвышенное преклонение перед русской книгой, за его всепоглощающее увлечение собирательством редчайших экземпляров отечественной библиографии, за идеальное знание всего печатного, за писательский талант и умение поделиться своими знаниями о жизни и творчестве русских художников.
Вспоминаю такой разговор. Пришел я к ней с небольшим свертком.
— Хочу тебе, Лида, подарить маленький заварочный чайник! — сказал я.
— Железный?
— Нет. Фарфоровый.
— Русский?
— Немецкий. Старинный. Красивый.
— Все равно не надо, Анисим (так звала меня только она). Зачем иноземщиной портить мою кухню?
— М-мда!.. Плохо бы тебе, мать, жилось при царе Петре! Он за такую косность боярам бороды брил!
— Ну, я — не боярин и борода у меня не растет. А русский народ, между прочим, потому царей и прогнал, что они свое — родное — презирали. Чайник ты подари Николаю (Смирнову-Сокольскому. — И. Прут.). Он чай требует каждые двадцать минут: на него посуды не напасешься!
В области вокала Русланова никогда не имела партнеров. Но с одним человеком она обожала петь дуэтом. Конечно, не в открытых концертах, а — дома, для себя и только для своих. Это был наш общий друг — Веня Рискинд, личность далеко не заурядная, фронтовик, поэт и баянист, остроумный писатель, удивительный рассказчик, любимец И. Бабеля и Ю. Олеши.
Вместе с Рискиндом, под его музыкальным руководством и с его сопровождением, исполняла Русланова сочиненную им, такую любимую ею песню: «Письмо молодого солдата».
Здравствуй, мама, родная старушка,
Я сегодня иду в первый бой.
Набросаю фашистам игрушки
И с победой вернуся домой!
А игрушек имею немало…
Или еще одну — «Огонь на меня!» Начиналась она так:
Живым остался на том берегу
Из роты — один лишь комроты…
У Лидии Андреевны, не получившей никакого специального образования, было феноменальное художественное чутье. Развивала она столь редкое качество пытливым знакомством с обширной русской искусствоведческой литературой. Многому училась, терпеливо перенося его буйный характер, у своего друга. Н. П. Смирнова-Сокольского. А уж он, поверьте мне, в этом деле разбирался досконально. И представьте себе, выучилась!
Когда ленинградские друзья Руслановой — гостеприимные супруги Нина Васильевна Пельцер и Николай Яковлевич Янет принимали нас у себя, хозяин дома, после обеда, снял со стены свое любимое полотно — это был «Пастушок» кисти великого Репина — и показал его Лидии Андреевне. Она сказала:
— Вещь, что и говорить — преотличная! Только вот ноги у мальчонки не Илья Ефимович писал.
— А кто же? — спросил, вздрогнув, владелец картины.
— Брат его родной. Ведь произведение это из Псковской коллекции…
Эксперты вскоре подтвердили заключение певицы.
Или вот еще — в том же Ленинграде. Жили мы все обычно в гостинице «Европейская». Там летом на эстраде Сада отдыха одновременно с Руслановой выступал и другой гастролер — Владимир Яковлевич Хенкин.
Дело было утром. Ко мне раздался звонок. Сняв трубку, я услышал голос Руслановой:
— Собирайся, Анисим!
— Куда?
— На четвертый этаж. Володя купил что-то интересное и просит нас зайти, чтобы мы посмотрели и сказали свое мнение.
Я поднялся, встретил Русланову на площадке и вместе с ней вошел в номер Хенкина.
Владимир Яковлевич, после обычных приветственных поцелуев, показал нам стоящий на кровати — в отличной раме — писанный маслом портрет полного мужчины.
Я невольно залюбовался мастерством живописца — работой явно полуторастолетней давности.
— Тропинин! — торжественно объявил Хенкин. — Портрет Ивана Андреевича Крылова! Уникум? А?!
Русланова взяла картину в руки, внимательно ее разглядела и со вздохом произнесла:
— Ну, что не Тропинин, так это не обязательно: ошибиться может каждый. Но изображен-то и не Крылов!
— А кто же? — сразу расстроился Хенкин.
— Это, Володя, собственной персоной Михаил Семенович Щепкин! Был у тебя в прошлом такой коллега!
И тут не ошиблась Русланова! Вот так!..
Последние двадцать пять лет своей жизни Лидия Андреевна была женой Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Владимира Викторовича Крюкова — великолепного военачальника, командира кавалерийского корпуса, добрейшей души человека.
Встретились будущие супруги на фронте в самое суровое время, разделяя в дальнейшем поровну дни счастья и горя.
В те короткие моменты, когда им удавалось быть вместе, Русланова, несмотря на сложность боевой обстановки, постоянное передвижение конных и механизированных частей корпуса, всегда сама готовила пищу. Больше того: к удивлению некоторых женщин, в домике, где останавливался В. В. Крюков, она сама мыла полы, занавешивала окна кусками цветной ткани, стирала мужу белье.
Отдавая все заработанные за концерты деньги в фонд обороны, Русланова подарила армии построенные на ее личные средства две батареи «Катюш».
Рейхстаг дымился. Враг был повержен. На ступеньках этой твердыни гитлеризма состоялось последнее фронтовое выступление Руслановой.
Она пела, стоя перед притихшим войском, а у ног ее сидели баянисты и гармонисты. Они играли, едва прикасаясь к клавишам, стараясь не заглушить голос своей любимой артистки.
Когда я, чуть не загнав коня, добрался до Бранденбургских ворот, концерт был уже закончен. Русланова уехала, солдаты долго не расходились, восторженно отзываясь об этой женщине, так напоминавшей кому — мать, кому — сестру, кому — жену или невесту, то родное существо, что ждет не дождется своего защитника там, далеко, дома.
Когда мы хоронили нашу подругу, провожая ее в последний путь, я вспомнил слова — определение моего деда, которые так подходили к этому грустному событию:
— Ушел от нас неповторимый, уникальный — штучный — человек!..
Читать: https://libking.ru/books....ml#book
__________________________________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 12.10.2024, 17:23 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 15.10.2024, 18:56 | Сообщение # 2862 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| ПАРАДОКС
Необъяснимо свойство хмурых дней:
Чем громче дождь, тем прошлое слышней.
* * *
Мне кажется, солнце встало
В то утро не с той ноги.
Я камни бросал с причала,
Как собственные долги.
Круги по воде... За ними –
Лишь камень, идущий вниз…
И кольцами годовыми
Моя становилась жизнь…
* * *
Понурые дни. В магазине «Продукты»
Лежат на прилавке сезонные фрукты,
Стоит продавщица с лицом отстранённым,
Болея неврозом и кашлем сезонным.
Я к ней подхожу, точно поезд к перрону,
С тоскою протяжной, согласно сезону.
…А, помнится, было недавно, в апреле –
Сезонно грачи надо мною летели.
Причины надежд и печалей резонны.
Так что остаётся в душе внесезонным?
Задумаюсь – нет в размышлениях лада…
Но греется сердце о кисть винограда.
* * *
В эпоху больших эпидемий
Надежды даются с трудом,
И к нам обращённое время
Уходит незримым путём.
Мы злимся, что мир в беспорядке,
Что век опрокинут судьбой.
А годы бредут без оглядки
Затерянной в буднях тропой.
И вдруг возникает из дали
Вопрос о насущно земном:
А сам я чьи-либо печали
Хоть чуточку скрасил добром?..
* * *
Всё подвергается сомненью,
Как будто видится сквозь дым.
Бесспорен только факт рожденья
И смерти факт неоспорим.
Так много слов пропало даром,
Надежды канули в траву,
А я хожу средь яблонь старых
И греюсь фактом, что живу.
Хотя кора и листья дряблы,
Но меж ненастий и кручин
Бессмертны факты спелых яблок
На тонких веточках причин.
* * *
Опять кругом волнения и шум.
Кипят года меж рифмами и бытом,
Но чаще всё приходит мне на ум,
Что я напрасно городом воспитан,
Что, может быть, в одной из деревень,
Где небо с человеком не в разладе,
Облокочусь когда-то на плетень
И так замру, на дождь вечерний глядя.
И долгий час ни шага не ступлю,
Как будто в землю врос я, точно ясень…
И запою – хотя не во хмелю –
О том, что дождь отчаянно прекрасен.
А буду стар – всему есть свой черёд –
В закатный свет окрасит солнце крыши,
Душа к спокойной истине придёт:
Я для земли не первый и не лишний…
* * *
На ветхой, как мир, антресоли
Нечаянно я отыскал
Пылящийся в скучной неволе
Свой школьный потёртый пенал.
Находка – не горечь, не праздник,
Но жжёт ученический стыд,
И чудится, что первоклассник
С пенала в лицо мне глядит.
Быть может, я болен сегодня
И брежу, сознанье дразня,
Но вижу: глаза он отводит,
Как будто стесняясь меня.
Как будто ему не по нраву,
Каким я со временем стал...
Не знаю, имею ли право
Открыть позабытый пенал,
Приблизиться к детству немного,
И, вытащив карандаши,
Раскрасить мечту и дорогу
На контурной карте души.
***
Чего-то мне всегда не достаёт,
И я гоню судьбу за идеалом,
А на окне мурлычет мудрый кот,
Умеющий довольствоваться малым.
Его лишь поприветствую рукой –
И он уже, от счастья неотступно,
Глядит на мир с влюблённостью такой,
Какая мне пока что недоступна.
Не верю я крикливым голосам,
Которые вошли в людской обычай.
Пускай того не ведает и сам –
Спокойно кот о вечности мурлычет…
Так часто речь заумная пуста,
Хотя она и кажется почтенной,
А тихое мурлыканье кота
Наполнено гармонией Вселенной.
* * *
Поступаем по обстоятельствам,
Не пытаясь сменить обычай.
Из теории невмешательства
Вытекает закон двуличий.
Если ложь непристойно чествовать,
Отчего же тогда пристало
Покупать у хирургов девственность,
Будто жизнь начинать сначала?
По ночам обретать прозрение,
Что душе не дано согреться,
И врагам даровать прощение,
А вчерашних друзей от сердца
Отрывать, будто пластырь разовый,
Сокрушаясь потом о прошлом….
Карамазовы, Карамазовы –
Смердяковы с душой Алёши.
Поступаем по обстоятельствам,
Если к небу не пригвоздило…
Путь от преданности к предательству –
Как от дома до магазина.
* * *
«Займите мне, пожалуйста, любовь,
Я вам отдам ответною любовью…»
Душе моей не радостно, не плохо.
Всему виной – бюджетный дефицит.
В бумажный век в погоне за эпохой
Я тоже получил судьбу в кредит,
Кредит, не допускающий возврата,
Плачу теперь проценты из сумы.
Быть должником особенно приятно,
Когда берёшь участие взаймы.
Не задавайте сбивчивых вопросов,
Друзья мои, расходятся круги…
Быть должником особенно не просто,
Когда не знаешь – чем отдать долги.
Не убежать от вечного налога,
Банкротством неумелость не прикрыть.
И если занял истину у Бога,
То по счетам придётся оплатить.
Не важно, как вершилась жизнь в начале,
А что в конце – не знают даже сны.
Но мы долги друг другу не отдали,
И потому друг другу мы нужны…
***
У картины А. Саврасова «Грачи прилетели»
Видно, боги смеяться устали
И не смеют Любви отказать,
В голубую беспечность проталин
Загляну, будто Небу в глаза.
Я боюсь изменений погоды:
Словно память, растают снега –
И сиротское чувство свободы
Снизойдёт на пустые луга.
Точно крестик на раненом теле,
Выручает Надежда опять –
Понимаешь, грачи прилетели,
Не боясь никуда опоздать.
Не боясь оказаться чужими
На своей неуютной земле,
Возвратились домой пилигримы
На поклон престарелой зиме.
И дрожит горизонт на пределе,
Как дрожат на пределе слова:
Если к дому грачи прилетели,
Значит, Родина наша жива…
* * *
В пустынном саду я опять без ночлега стою.
Звезда у калитки – дороже часов на запястье:
Неспешно мерцает моё первобытное счастье,
Бескрайним лучом прорезая судьбе колею.
* * *
Моя душа бедна и заскорузла –
Всё меньше поклоняется мечтам.
Надежда не сбежала, но обрюзгла –
Дешёвый кофе пьёт по вечерам.
Я тоже пью. Хотя не только кофе.
На ужин – спирт. К рассвету – аш-два-о.
Давно распяли Бога на Голгофе.
А больше не случилось ничего.
Зубчатый круг стального циферблата,
Как диск пилы, эпоху разрезал.
Была любовь из помыслов изъята.
Разбилось в кухне несколько зеркал.
Мечту уже давно я не ревную –
Она других затягивает ввысь…
Но даже в эту осень обложную
С надеждой мы ещё «не развелись».
* * *
Всему виной, как водится, начало.
Всему венец, как сказано, финал.
И ничего весны не предвещало,
А может, я о времени не знал.
Но воробьи чирикали негромко,
Был горизонт надломлен вдалеке…
Стояла конопатая девчонка
С берёзовою веточкой в руке.
Так солнце в золотом своём уборе
Сквозь паутинку кажется родней!..
Она ещё не думала о горе,
И горе не задумалось о ней.
На ветерке душа слегка дрожала,
Бежала рябь по медленной реке,
И девочка судьбу свою держала
Берёзовою веточкой в руке…
* * *
Человек – не звание, а должность.
Честь собаки тоже высока…
Нежатся в кювете придорожном
Два нетитулованных щенка.
Им, наверно, хочется обняться…
Лают вдохновенно невпопад:
Под навесом яблонь и акаций,
О погоде просто говорят,
Будто на младенческом наречьи
Упрекают будничную злость.
Как они живут по-человечьи!
Нам с тобою так не довелось.
Разве что в заснеженном начале
Мы ещё смеялись по-людски...
В сумерки из детства убежали
Наши беспородные щенки.
* * *
Ах, боже мой, продай на рынке сердце,
Коль жизнь тебя к базару привела –
Здесь по закону Джоуля и Ленца
Почти не выделяется тепла.
А без тепла, как ангелу без крыльев,
Душе придется вытерпеть молву…
Ах, чёрт возьми, Иванушка, не ты ли
Надежду заправляешь в тетиву?
Лягушка не всегда слывёт царевной,
Но сказку эту как ни назови, –
Так холодно бывает во Вселенной,
Что и лягушке хочется любви.
Повсюду ночь. В эпоху лихолетья
До горизонта ветер и тоска.
И звёзды, как свидетели бессмертья,
Оглядывают смертных свысока.
А я бреду к далёкому рассвету,
Порою спотыкаюсь, но иду,
Жалея путеводную комету,
Как падшую от горести звезду…
* * *
Буду делать хорошо,
И не буду – плохо.
В. Маяковский
От крика нервного до вздоха –
Недолго ехать по шоссе.
Я научился делать плохо,
Я научился жить как все:
Припоминать друзьям обиды,
Считать соседа подлецом,
Молчать с надменностью Фемиды,
Смеяться истине в лицо.
По вечерам точа балясы,
Клеймя огнём кого-нибудь,
Я стал врагов делить на классы
И перед сильным – шею гнуть.
Так жизнь плетётся: крестик, нолик –
В моём архиве вместо лиц…
Подай бутылку, братец Кролик!
За Ваше счастье, братец Лис!
…а ночью вновь придется плакать,
Хватая блики с потолка.
Душа – как старая собака,
Что телу предана пока…
* * *
До чего же родная улица,
На углу – магазин «Надежда».
Может, всё-таки что-то сбудется,
И окажется неизбежным
Наше счастье, что не заслужено
Выдаётся порой авансом…
И найдется на сердце дюжина
Слов для простенького романса.
Я его пропою вполголоса,
Побеседую с тишиною.
Пусть взойдёт наша вера колосом –
Не в небесное, а земное,
Пусть окажется счастье прозою
И запишется сердцем чистым…
И не надо туманных образов,
Как не нужно высоких истин.
Что-то выронил в хрупкий иней я
На пустую, как ночь, дорогу,
Так живу без любви, без имени –
Без причины и под предлогом
Веры в счастье. А жизнь сутулится,
Не укутаешь боль в одежду…
Я иду по замёрзшей улице,
Но закрыт магазин «Надежда»…
***
«Счастье для всех, даром,
и пусть никто не уйдёт обиженный!»
Братья Стругацкие
Не зовите меня поэтом:
Я пишу нарочито плохо, –
Словом, выпавшим из газеты,
Не прикроешь свою эпоху.
Мы же, занятые пиаром,
В рай не станем мостить дорогу –
С транспарантами «счастье даром!»
Митингуем у входа к Богу.
А когда по весне порою
Бойко лезут мечты наружу,
Так охота банкет устроить,
Раскрошив по тарелкам душу.
Но не хочется лезть на рею,
Где верёвка играет с ветром.
Поглядите, как чайки реют!..
Не зовите меня поэтом.
***
Суета для души инородна,
И порой, оставляя жильё,
Я иду к тишине полноводной –
Будто в реку, ступаю в неё.
Замерев, ощущаю теченье,
Удивляюсь картине простой:
Так нетвёрдо лица отраженье,
Что качается вместе с водой.
Даже годы, плывущие мимо,
В тихой ряби заметны едва.
И единственно несокрушима
Отражаемая синева...
Возвращаюсь к делам торопливым,
Где не видно надежд вдалеке,
А из крана вода терпеливо
Всё зовёт к молчаливой реке.
***
Так хочется сердцу читать научиться,
Да видно, пока я ещё не дорос.
На тихом снегу, как на книжной странице,
Чернеют бессонные буквы берёз.
С рассвета гляжу на ветвей очертанья,
На смутные знаки холодных стволов
И в них замечаю Вселенной посланье,
Где ясны душе только несколько слов.
Слова-то простые – «Любовь» да «Молитва»,
А слоги надежды от ветра звенят:
И слышатся рифмы, безумствуют ритмы,
В которых восходом наполнен закат.
И страшно мне браться за стихотворенье –
Имею ли право? Совсем не пойму:
Пока столь обрывочны навыки чтенья,
Всерьёз невозможно учиться письму.
* * *
Снова осень в прихожей замешкалась,
На плаще – пережитки дождя.
Ни театра в округе, ни вешалок –
Начинается хата с гвоздя.
И войдёт в обветшалую хижину
Безымянная чья-то душа.
Заскрипят половицы пристыжено,
Безнадежною пылью дыша.
Шумный чайник, кряхтя, постарается
Не оставить скитальца в беде.
А промокшая шляпа останется
Одиноко висеть на гвозде.
Пусть бродяга ночлегом утешится,
Разбавляя усталость вином.
Наше счастье надеждою держится,
Будто шляпа – угрюмым гвоздём.
Неприметный, забытый поэтами,
Гвоздь сутулится, как старожил.
Гнулся он под чужими портретами
И несчастным одежду сушил.
Слышен говор сомнения дошлого,
Снова стала судьба на ребро.
Гвоздь – непризнанный памятник прошлого –
Держит шляпу, как душу – добро.
* * *
Непогодою строчки взъерошены,
Холодает – куда я пришёл?
Ни души. И у церкви заброшенной
Одиноко стоит частокол.
Пробираясь чужими подворьями,
Я не видел покинутых мест,
А за тонкими частыми кольями
Покосился единственный крест.
Покосились добро и доверие –
Я не смог удержаться на них.
Что мне нужно в богатой империи,
Кроме этих развалин скупых?
Если сердце ещё откликается,
Надо хлеб раскрошить снегирям –
Может, будет не поздно покаяться
И расчистить тропинку к дверям…
***
Терпенью полагается лимит –
Я ухожу от ругани и лести,
И, может быть, мой голос не уместен
В той жизни, что литаврами гремит.
Ни петь, ни выть не хочется теперь,
Ни штукатурить водкою недуги
И ни искать под сенью дикой вьюги
В страну чудес ржавеющую дверь.
Я отправляю на переучёт
И неизбежно – на переоценку
Картины снов, где в блекнущих оттенках
Душа былые краски узнаёт.
Мой лифт застрял на стыке этажей,
Как будто в нём запала кнопка «счастье»,
И память превратилась в одночасье
В музей уже ненужных мне вещей.
И кажется, что фактам нет числа:
Теряю век в пространных разговорах
И обижаю только тех, кто дорог,
На остальных не тратя даже зла.
Но я найду себя чуть-чуть другим
И отыщу словам своим обитель.
Да я люблю вас, люди, вы поймите!..
Смотрю вокруг, как смотрит в окна зритель,
А жизнь восходит к небу,
словно дым…
Дмитрий Игоревич Ханин
_____________________
165113
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 15.10.2024, 19:00 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 22.10.2024, 23:30 | Сообщение # 2863 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Ты мне пишешь, что выпал снег,
Бахромою укутав сосны…
Драгоценный мой человек!
Необъятный мой свет, мой космос!
А на улице… Вот бедлам!
И снежки, и замёрзшие слёзы.
По волшебным спешат делам
Захмелевшие дедморозы.
Ты мне пишешь, что каждую ночь
Просишь Бога явить нам милость.
Что взрослеет без папы дочь,
Что тебе наша свадьба снилась.
Пусть зима и метели пусть,
Пусть молитвенник в изголовье!
Отвечаю, что я вернусь.
Я живой! Из Донецка с любовью!
***
Сапёр
Семнадцать мин стояли в ряд,
Пугая танки и пехоту.
– Тут дел на пять минут, солдат,
И по домам, в родную роту, –
Сказал мне взводный сгоряча
И гильзу пнул на скользкой трассе.
Семнадцать мин. Но нет ключа,
Чтоб каждую обезопасить.
– Вперёд, сапёр! Чего ты встал?
– Я не пойду, – ответил сразу.
– Ты захотел под трибунал?
Невыполнение приказа…
– Товарищ. Старший. Лейтенант.
Запрещено взведённой мины
Снимать взрыватель.
– Да, всё так.
Но завтра здесь пойдут машины.
Пойдёт колонна на Херсон,
А ты, боец, чего-то бредишь.
Там мины, вон за тем углом,
И ты сейчас их обезвредишь.
И он вздохнул, как тяжелобольной,
И спрятал свои руки за спиной.
И я пошёл, не напоказ
(Першило в горле, рвалось сердце),
И точно выполнил приказ,
Держа «тээмку», как младенца.
Семнадцать раз за тем углом
Я вспоминал, что я крещён,
И липкий страх давил на плечи.
– Ты скоро? – взводный мне кричал.
Но я ему не отвечал,
На час лишившись дара речи.
А после, полностью без сил,
Сидел на блокпосту, курил,
Решал, как буду хвастать в роте.
И цокал языком стрелок,
Из охраненья паренёк:
– Ну, бл…, сапёры, вы даёте!
***
Солёный ветер, капли на руках.
Твои глаза, туманные спросонок.
Из моря вырастает Кара-Даг,
И мы – одно: ты, я и наш ребёнок.
И этот кадр цел и невредим,
Он тяжелей военного билета.
И мы с тобою отвоюем Крым
У прошлого, у памяти, у лета.
Но я сейчас пишу тебе о том,
Что вижу утром, выпрыгнув с КАМАЗа,
Не Кара-Даг вдали, а террикон
Израненного минами Донбасса.
Что путь домой лежит сквозь смерть, сквозь снег
И в этом не упрямство виновато.
Он не меняется из века в век –
Путь русского мужчины и солдата.
Но верь, душа моя, наступит срок,
Когда не будет ни тревог, ни страха
И мы с тобою ляжем на песок
Под ласковою тенью Кара-Дага
И будем слушать, как шумит волна.
Из года в год, из века в век, по кругу…
И будем твёрдо знать, что жизнь дана,
Чтоб никогда не отпускать друг друга.
***
Илья Муромец
– Я однажды встану – и выйдет толк.
Обойду полмира в стальных башмаках.
Верным спутником станет мне серый волк,
Добрый меч заалеет в моих руках, –
Илья Муромец зло говорит во тьму.
Тьма хохочет, укрывшись за потолок:
– Если встанешь, то я за тобой приду,
Чтобы снова лишить тебя рук и ног.
И лежит богатырь на своей печи,
Обездвижен, немощен, сир и слаб.
Басурмане чёрствые калачи
Раздают на площади всем подряд.
Только шепчет упрямо Илья в бреду:
– Я не мир с собой принесу, но меч.
Соловей, паскуда, ведь я приду,
Чтобы взмахом поганый твой рот рассечь.
И прольётся кровь, и взовьётся дым,
Задрожат терриконы по всей степи…
Боже праведный, я Твой сын,
Дай мне сил, чтобы ношу свою нести!
Но нахально свистит Соловей во тьме,
Льётся кровь тягучая через край.
И тогда приходит Господь к Илье
И говорит:
– Вставай!
***
Штурм
Хорошо под хмельком, небритый,
Битый жизнью, войною битый,
Он смолил одну за одной.
Был обычный донецкий вечер:
Била «саушка» недалече,
Тёплый ветер дышал на плечи
Бархатистой взрывной волной.
Угловатый и неуклюжий,
Голос тих и слегка простужен,
Сам себе, похоже, не нужен,
Он глядел в пустое окно.
Улыбнулся, кулак сжимая:
«Я в полшаге стоял от рая!»
И Россия, от края до края,
Отразилась в глазах его.
«Мы три дня штурмовали горку.
Было тяжко, и было горько.
У хохла там стоит укреп.
В первый день нам сожгли три танка.
Типа доброго, хлопцы, ранку.
У парней посрывало планку.
Кореш мой в том бою ослеп.
Положили нас в чистом поле,
Миномёты попили крови,
Над башкою свистит и воет,
Непонятно, куда стрелять.
Ни поддержки, ни карт, ни планов…
В штабе точно сидят бараны.
За ночь мы зализали раны
И попёрли на штурм опять».
Он рассказывал твёрдо, долго,
Был похож на степного волка.
«Мы три дня штурмовали в лоб их,
Там “двухсотых” лежит везде…
Всё в дыму, все в крови и в саже,
Трупный запах всё ближе, гаже.
Но об этом нам не расскажут
По “Оплоту” и по “Звезде”.
Мы на сутки укреп тот взяли,
Но к рассвету не удержали
Заколдованный чернозём».
И боец замолчал устало.
Ближе к ночи похолодало.
САУ чаще загромыхала.
«Завтра снова на штурм пойдём!»
***
"Мы умрём под Авдосом", - сказал мне на выходе смежник,
Поглядев немигающим взглядом и руку подав.
Будет солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И на плечи нам лапы положит век-волкодав.
Позывные оставшихся в поле у Царской охоты
Утекают сквозь пальцы, но память хранит имена.
Я не сплю по ночам и часто курю отчего-то,
Я пока ещё жив. Я пока ещё жив. Я пока...
Как побитые птицы - идут, ковыляют по роте
Те, с кем раньше шутил, собирал нехитрый багаж.
Я и сам, как подранок, кричу, кувыркаюсь в полёте,
Я как дрон-камикадзе, пикирую к Царской охоте,
Чтоб на бреющем врезаться точно в немецкий блиндаж.
Нас не надо жалеть, у военных другие замашки.
Человек выживает не хлебом и страхом одним.
Мне всю жизнь будут сниться Туманы, Мосты, Чебурашка
И пропитанный смертью, горящий в огне Коксохим.
Пацаны из Москвы, Ленинграда, Донецка, Ростова
Навалились на стену всей мощью натруженных плеч,
Чтоб в осенней степи растворилась увядшая мова,
Чтоб в Авдеевке вновь зазвучала русская речь.
"Мы умрём под Авдосом, - сказал мне на выходе смежник. -
Или выживем. Тут как получится. Надо суметь".
Этой ночью мне снился убийственно белый подснежник
И буграми заросшая дикая дивная степь.
***
Полюд и Хэм
Полюд и Хэм остались на нейтралке,
На безупречном мартовском снегу.
Тела забрать хотели. Оба раза
Подняться не давали снайпера.
У Хэма дочка скачет на скакалке,
Полюд в порыве приобнял жену,
Нырнув рукой куда-то в область таза…
На фото все живые, как вчера.
И рюкзаки ещё хранят их запах,
Но смерть уже приподнялась на лапах,
Чтоб всё стереть, чтоб не осталось нас.
Ей помогают ночь, мороз и ветер.
Но верю я, что всех смертей на свете
Сильнее этот хрупкий снежный наст.
Пока он держит Хэма и Полюда,
Они незримо с нами и повсюду,
След в след идут и источают свет.
Тот свет, что не бликует днём на касках,
Волшебный, из забытой детской сказки,
Где мама говорит, что смерти нет.
Весною снег, конечно же, растает,
Отдав окоченевшие тела,
И зазвучит мелодия простая
Капели, мира, счастья и тепла.
Когда-нибудь им памятник поставят.
Когда-нибудь закончится война.
***
За терриконом
Допустим, завтра кончится война
И не начнётся Третья Мировая.
Тоску и копоть с наших лиц смывая,
Зарядит тёплый ливень до утра.
Что тебе снилось, девочка родная?
Открой скорее сонные глаза –
Я победил! И ты со мной незримо,
Любовь твоя крепка и нерушима,
Она меня от гибели хранит.
Или хранила? Впрочем, всё неважно.
По небу самолёт летит бумажный,
И вновь звезда с звездою говорит.
Всё схлынет, как волна, и будет так:
Закончится война (допустим, в марте).
Водяное, Авдеевка, Спартак
Останутся лишь точками на карте.
Останутся зарубками в душе,
Колючим сном, фугасом у дороги,
Разрывом мины, схроном в гараже,
Осколками рассеянной тревоги.
Любимая, мир наступил уже,
Родившись в муках на твоём пороге.
Не плачь, моя родная, не кричи.
Я не привёз от Киева ключи
И потерял в степи ключи от дома.
И если даже я сейчас с тобой,
Пью чай и удивляюсь, что живой,
Я – там, остался там, за терриконом.
***
Отпуск
Через полгода нам дали отпуск. Так решил президент,
Подарив возможность увидеть родных воочию.
В первой партии убыл от взвода Дед.
Ему Макс уступил свою очередь.
У Деда на днях юбилей, а ещё больная мозоль.
Он от радости, как воздушный шарик, надулся,
Собрал рюкзак, а Макс поехал работать «за ноль».
Дед из отпуска не вернулся.
На Донецк навалилась расхлябанная весна,
Проползла траншеями и дворами…
И сказал командир, отводя глаза:
«Глаз за глаз. Тело за тело. Решайте сами».
И пустую бумажку вытягивает, конечно, Макс.
На секунду забыв, что дома остались жена и дети.
Он, щурясь, глядит на солнце, как первый раз,
И говорит: «Твою ж мать… Какая весна на свете!»
***
Разговор с братом
Как вкусно пахнет этот день:
Весна, шампанское, сирень!
Я жду, пока обнимет тень
Проспекты Ленинграда.
Мой отпуск улетает вспять,
И дней примерно через пять
Мне отправляться воевать.
Так надо, брат, так надо.
И я живой, навеселе,
А ты уже лежишь в земле,
В сырой земле, в кромешной мгле,
Где нет вина и хлеба.
Но смерть, конечно, ни при чём:
Ты станешь солнечным лучом,
Прозрачным ледяным ключом,
Бескрайним русским небом.
От Питера до Кременной
Весь этот мир по праву твой.
Ты назови свой позывной –
В раю тебя узнают.
И если даже ты грешил,
То Бог тебя давно простил.
Там в рай разведку (я спросил)
Бесплатно пропускают.
Ты рос упрямым пацаном
(Спасибо матери с отцом)
И там, за Северским Донцом,
Не вздрогнул, не заплакал.
Лежал спокойный, как вода.
И задрожали города.
И дочь приёмная тогда
Тебе сказала: «Папа!»
Пять дней летят, как пять минут,
А возвращаться – тяжкий труд.
Там пот и кровь, там люди мрут,
Там жизнь – дурная повесть.
Но, оглянувшись вдруг назад,
Я вижу твой упрямый взгляд.
Ты пригляди за мною, брат.
Бывай. Пошёл на поезд.
***
Вам скажут и в Мадриде, и в Сараево,
В Венеции, Монако, Вилла Пьяцца,
Что если нет майора Исинбаевой,
То дело швах, и лучше сразу сдаться.
Не важно, что на «Леопардах» свастика,
Не важно, что Клещеевку разбили.
Ведь есть Генштаб, спортивная гимнастика,
И значит, мы почти что победили.
Нас поздно убеждать и успокаивать,
Мол, привезём снарядов, но попозже.
Пишлите нам майора Исинбаеву.
В Авдеевку. А лучше, в Запорожье.
Но, говорят, она на карантине.
Но, говорят, устала от народа.
Нас поведёт на штурм майор Мартынов,
И мы за ним пойдём в огонь и в воду.
***
Каждый третий уже был ранен,
Каждый первый терял друзей.
Это дети рабочих окраин,
Соль усталой земли моей.
В шалом взгляде - упрямство волка,
Обманувшего цвет флажков.
Вновь уходят на штурм посёлка
Дети серых и злых дворов.
Доставая из-под подушки
Письма с ворохом теплых слов, -
Улыбаются добродушно,
Не стесняясь беззубых ртов.
Не садились за руль Бугатти,
Не сидели в кафешках Ницц,
Только знаете... Не испугать их
Ни свинцом, ни жужжаньем "птиц".
Не из стали, не из титана
Появлялись они на свет.
Если рана, то значит рана.
Если смерть... Ну, так значит смерть.
Надевая броню на плечи
Перед выходом к огневой,
Вспоминают любимых женщин,
Самых верных на свете женщин,
Что живыми их ждут домой.
Каждый третий давно контужен,
Каждый первый войною бит.
Но пока эти парни служат,
Мир шатается, но стоит.
***
Да я то что, я жив-здоров вполне.
Воюем, бьем фашистов, как и прежде.
Поставьте памятник моей жене,
Что год уже живёт одной надеждой.
Что вопреки всему - честна, верна,
Ревёт в подушку темными ночами.
Живет в тылу солдатская жена,
И каждый день воюет вместе с нами.
Дмитрия Филиппов, позывной Вожак https://t.me/s/vozhak_Z
___________________________________________________
165452
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 22.10.2024, 23:31 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 24.10.2024, 19:50 | Сообщение # 2864 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| «Проблема»
В первые же годы моей жизни я узнал, что существует русский язык.
То есть тот, на котором папа и мама говорят со мной. А ещё есть другие языки. На которых говорят в далёких странах. И эти языки мне непонятны. Иногда я пытался изображать иностранную речь. Коверкая слова. Но мама и папа почему-то сразу злились, слыша это моё подражание иноземной речи.
Когда родители обращались ко мне, я прекрасно понимал их. Ведь они говорили по-русски. Но когда они разговаривали между собой, речь их была мне совершенно непонятна и казалась иностранной. Лишь по отдельным фразам я догадывался, что говорят-то они на родном языке, но делают это так быстро и с таким количеством непонятных мне слов, что складывается впечатление полной тарабарщины.
Однажды вечером, когда в нашем Питерском дворе-колодце зацвела черёмуха, и асфальт после первой грозы блестел, как покрытый свежим лаком паркет, мы втроём вышли на прогулку из нашего двора на Разъезжей улице. Мне было около четырёх лет, и моё приподнятое настроение в тот вечер определялось двумя замечательными, новыми в моей жизни событиями.
Во-первых, мне купили мороженое, которое до этого времени относилось к категории "ребёнку это вредно" и я впервые понял, как вкусно в жаркий день лизать языком холодное эскимо. Тонкий чёрный шоколад мгновенно таял во рту, и даже обёрточная бумажка с изображением пингвина казалась волшебной. А деревянная палочка и подавно стала моим сокровищем на ближайшие несколько дней.
Во-вторых, впервые мне разрешили погладить кошку. Раньше в отношении кошек применялось понятие "не трогай, это может быть заразно". Я не знал, что такое "заразно", но в этот день полосатая кошка вылезла из окна соседки бабы Шуры, и мне разрешили её погладить.
Гладить кошку было не менее интересно и ново, чем лизать эскимо. Удивительное ощущение мягкости и тепла живого существа разительно отличалось от контакта с плюшевым мишкой или бабушкиным меховым воротником. Мне даже показалось, что кошке нравится, что я её глажу, и она сама подставляет мне шелковистую спину. Это был невероятный успех, потому что, пожалуй, впервые в жизни я делал что-то самостоятельно, и это нравилось окружающим.
Мы пошли на прогулку по Разъезжей, свернули на Загородный и потом направо, на Гороховую. К этому времени я уже изрядно устал и то и дело норовил поджать ноги и повиснуть на руках у папы и мамы, державших меня за руки с двух сторон.
Родители оживлённо о чём-то разговаривали на своём непонятном взрослом языке. Я лишь догадывался, что речь идёт о работе отца и он хочет, чтобы мама тоже стала работать вместе с ним.
В пылу обсуждения папа и мама не сразу заметили, что я поджал ноги и, как обезьяна, повис на их руках. Но, обнаружив это, строго выговаривали мне за баловство. Я терпел ещё минут пять и потом повторял свой трюк. Так повторялось многократно.
В перерывах между своими гимнастическими упражнениями я пытался разобрать скучные и непонятные слова, которые они говорили друг другу. Но мало что понимал.
– Это не надо афишировать, – сказал папа в ответ на непонятную мамину фразу.
Я задумался. Что бы это значило? Я знал, что не надо баловаться, кривляться, а что значит, не надо афишировать?
Минут пять я мучился в догадках. Потом, не выдержав, громко спросил,:
– Что значит не "афишировать"?
Родители остановились. Посмотрев сначала друг на друга, а потом на меня, они впали в замешательство. Первым нашёлся отец.
– Это значит не показывать окружающим то, что знаешь ты один. Понятно?
– Понятно.
Значит, я никому не должен говорить, что я знаю о том, что ночью можно перевернуть подушку холодной стороной к лицу, чтобы приятнее было спать, — подумал я. Это не надо афишировать.
Может показаться странным, но я до сих пор не афиширую этот факт. Наверное, не я один.
Когда мы уже свернули на Гороховую и подходили к улице Гоголя, в родительской речи промелькнуло незнакомое слово "проблема". Меня распирало любопытство. Что же это такое "проблема"?
До этого мне приходилось слышать слово "эмблема" и даже видеть нашивку в виде раскрытой книги на рукавах у школьников. Мне объясняли, что раскрытая книга – это эмблема, символ знаний. А вот проблема представлялась мне чем-то не менее занятным.
Я пристал к родителям с этим вопросом именно в тот момент, когда мы проходили перекрёсток Гороховой и Гоголя. На мой дурацкий вопрос о проблеме последовал короткий ответ.
– Не перебивай.
Я и не собирался больше перебивать и в очередной раз повис на руках у папы и мамы, запрокинув голову в небо. Перед моими глазами распластался маленький кусочек синего неба, испещрённый хаотично пересекающимися на перекрёстке улиц троллейбусными, электрическими и телефонными проводами. Этих проводов было так много и перепутаны они были в воздухе настолько хаотично, что казались огромной паутиной повисшей над перекрёстком. Одни из них были натянуты туго, как струна. Другие лениво провисали в воздухе. Третьи вообще заканчивались ничем и были примотаны к соседнему проводу. Все они вместе образовывали, по моему мнению, огромную ловушку, в которую может упасть с неба даже слон, который благополучно будет пойман и не разобьётся об асфальт.
Эта сеть хитросплетённых проводов над перекрёстком Гороховой и Гоголя ещё долгие годы оставалась в моей детской памяти под загадочным понятием "проблема", услышанным впервые именно в этом месте. И лишь спустя годы я понял, что проблемы висят не только над этим, знакомым мне с детства перекрёстком, а простираются гораздо шире.
***
«Фашист»
Гололёд нынче сильный. Мороз ударил нежданно, после оттепели, и дороги превратились в сплошной каток. Стараясь двигаться аккуратно, я прошёл Лиговку от площади Восстания до Некрасова и свернул направо к Суворовскому. "Не хватало ещё растянуться посреди улицы и вывихнуть себе что-нибудь, в канун Нового года", — думал я, перебирая в голове нескончаемый список запланированных дел, завершить которые уже явно не успевал.
Навстречу мне, вдоль ограды сквера, с трудом переставляя ноги и опираясь на деревянную палку, ползла укутанная в невероятное количество шерстяных платков старушка, c клетчатой полотняной авоськой в руке. "Вот кому точно не стоило сегодня выходить из дома", — подумал я и понял, что пройти мимо и не помочь невозможно.
– Бабуля, давайте руку!
– Ох, миленький, мне бы на ту сторону, к Мальцевскому рынку.
– Пойдёмте, конечно. Держите руку, я не спешу. Что же вы в такую погоду на рынок? Магазин и на этой стороне улицы есть.
– Да я, сынок, всегда только на рынок хожу. Меня там все знают. Вот, говорят, баба Оля к нам пришла. Никогда не обвесят и всё самое свежее дают. Каждый продавец знает, и русские, и нерусские. А то, что цены там высокие, так мне всегда скидку делают. Да и беру я немножко. Иногда и даром отдают помидорку или яблочко. А я молюсь за них. За всех молюсь. И за нерусских тоже.
– Давайте-ка, мы с вами, баба Оля, здесь дорогу переходить не будем. А на пешеходный переход пойдём. Вот туда. Сможете?
– Смогу сынок. Я всю жизнь с раннего детства много ходила и сейчас ещё хожу немало, только ты держи меня покрепче. Сколько я за свою жизнь прошла? И не сосчитать. Как пошла перед войной за мамкой в поле, держась за подол, так и хожу с тех пор, – морщинки на её лице собрались в согревающую улыбку, а глубокие тёмно-зелёные глаза дарили почти материнскую нежность.
– У меня мама тоже в войну ребёнком была. В блокаду выжила здесь. Я понимаю.
– Нет, сынок, я не блокадница. Мы в деревне жили, в Псковской области, и под немцами были, и голодали тоже. А брат мой старший к партизанам ушёл в лес. Сами мы недоедали, а партизанам носили лепёшки из лебеды и конского щавеля. И я носила. Помню, иду полем, маленькая, ниже полыни горькой. В руках узелок с лепёшками. Смотрю, на дороге мотоцикл немецкий стоит, и два фашиста на нём. Один ест что-то за обе щеки, другой на губной гармошке играет. Завидел меня тот, что с гармошкой, поднял автомат и выстрелил два раза. Я от испуга упала и узелок с лепёшками под себя прячу. Лежу в траве, не шелохнусь. И фриц молчит тоже. Встала я и снова пошла. А он улыбается крысиными зубками, сам серенький такой, холёный. Улыбнулся, и опять два выстрела. Я — в траву. Слышу, немцы между собой смеются над чем-то. Поняла я, что пугает он меня. Поверх головы бьёт, развлекается гад. А я глупая была, нет бы сразу бежать... Встала во весь рост и сначала кулаком ему в воздухе погрозила. Вот так.
Баба Оля подняла правую руку с клетчатой авоськой и потрясла ею над головой. В авоське неприятно брякнули какие-то железные предметы. Она трясла сумкой, и зелёные глаза её сделались злыми и холодными.
– Что у вас там? – удивлённо спросил я.
Баба Оля как будто задумалась, медленно возвращаясь из прошлого на ступени Мальцевского рынка, к которым мы уже подошли.
– Конфорки от газовой плиты, – тихо ответила она.
– Зачем?
Она молча смотрела на серый лёд под ногами и не отвечала. Сбоку подул холодный ветер, и я развернулся к нему спиной, прикрывая старушку, которая замерла, будто потратив последние силы на взмах сумкой.
– Внук у меня алкоголик. Всё из дома вынес. Всё пропил. Когда ухожу, конфорки с собой забираю, чтобы не сдал на цветмет.
Нам обоим отчего-то стало неловко, и мы с полминуты молчали.
– А как же другие родные? Дети ваши? Неужели нет на него управы? Участковый? Соседи?
– Никого нет. Дочь моя покойная одна его растила. И ведь всё у него было. И английскому учили, и на хоккей ходил заниматься, и мотоцикл купили ему. Всё, что захочет. Молюсь вот и за него тоже. А он пенсию у меня ворует потихоньку. Уж не знаю, куда прятать. Да бьёт еще, когда с похмелья.
– А полиция, соцзащита, местные власти, общественность? – я перебирал варианты, не сильно веря в их эффективность.
– Да он уж и в психиатричке сидел, и в тюрьме год за хулиганство, и лечился. Всё жилплощадь продать хочет, да я мешаю. Ох, боюсь, убьёт он меня скоро, прости, Господи. Вот, может, после Нового года опять в клинику его положат, так поживу хоть спокойно маленечко.
Я помог бабе Оле подняться по ступенькам, чтобы войти на рынок. Мне не хотелось прощаться с ней на такой ноте. Мы обменялись телефонами, и я обещал помогать. Она с радостью приняла моё предложение, и мне показалось, что нам обоим стало легче.
– А что же фашист? – спросил я, вспомнив незаконченную историю с немецкими мотоциклистами.
– Да что с ним делать? Куплю ему картошки немного, супчик сварю да помолюсь. А то лежит там бледный весь с похмелья, серенький, как мышь, только зубки торчат.
***
Должок
Ему уже давно за шестьдесят, а его всё Сашкой зовут. Потому что мужик весёлый, общительный, простой. Нос картошкой, глаза добрые и походка смешная, подпрыгивающая. Всегда приветливо здоровается, ещё издалека начинает рукой махать в знак приветствия. Всё шутки-прибаутки всякие рассказывает. Особенно если навеселе. Выпивает, конечно. Живёт один. Жена давно ушла, а дети выросли. Пенсия маленькая. Подрабатывает дворником на овощной базе, пока здоровья хватает.
Встречаю как-то я Сашку вечером у магазина. Отозвал он меня в сторонку и говорит тихонько.
– Слушай, сосед, выручи, одолжи тысячу до завтра, позарез надо!
Я немного засомневался. Во-первых, что-то многовато, чтобы похмелиться старику. Во-вторых, у самого в кармане пару тысяч только, а мне завтра с утра в город ехать, машину надо чем-то заправить. Но не могу я соседа не выручить в такой момент. Протягиваю деньги.
– Саша, только до завтра, ладно? Не подведи.
– Что ты! Клянусь! Спасибо тебе, дружище! Я к тебе завтра зайду.
Конечно же, завтра он не зашёл. Не пришёл и на следующий день. И вообще перестал попадаться мне на глаза. Встречаю я через неделю соседку Веру Максимовну, пенсионерку.
– Здравствуйте, Вера Максимовна! Что-то я Сашку давно не видел. Не знаете, где он?
– Не знаю. А что, он у тебя денег занял, что ли?
– Да. Было такое, – отвечаю я.
– Ну и дурак. Ему нельзя давать. Он у всех берёт и не отдаёт никогда. Выпьет и забудет. А потом говорит, что не брал ничего. Он у Людмилы три месяца назад взял, а теперь говорит, что не брал. Ему давно никто не даёт.
– Не может быть, чтобы Сашка так всё забывал, — ответил я. — По общению Сашка производит впечатление вполне здравомыслящего человека, да и пьёт он немного. Неужели специально придуривается, чтобы не отдавать?
– Конечно, придуривается. Строит из себя добренького. Терпеть не могу таких лицемеров.
Я немного расстроился. Не то чтобы мне было жалко тысячу рублей. Скорее, меня расстраивало, что я обманулся в Сашке, которого считал открытым, прямым и приятным человеком. Кроме того, мне было неловко, что Вера Максимовна, которую я недолюбливал по причине её склочности и мерзкого характера, оказалась мудрее и прозорливее меня. Я видел, каким злорадством блестели её глаза. Вся её натура торжествовала от собственного превосходства надо мной простачком.
Через неделю я решил зайти к Сашке сам. Конечно же, я не застал его дома. Прошло ещё несколько недель, и я увидел Сашку. Он шёл по другой стороне улицы и приветливо махал мне рукой, как ни в чём ни бывало. Я понял, что теперь он будет старательно делать вид, что не брал у меня денег. Мне не захотелось с ним здороваться, и я отвернулся. В душе я костерил Сашку самыми непристойными словами.
Каждый раз, встречаясь на улице, Сашка, как прежде, приветливо махал мне рукой, но я каждый раз уходил в сторону, не отвечая на его приветствия. Краем глаза я ловил его удивлённый взгляд. Вот артист, думал я. Надо же так ошибаться в людях?
Как-то раз, подходя к дому, я увидел машину «неотложки». Спросил у соседей, к кому? Говорят, у Сашки сердце прихватило. Его госпитализировали. А через неделю он умер в больнице. Всего за два дня до Нового года. Почему-то мне всё равно было очень жаль его.
В предновогодней суете я полез на верхнюю полку кухонного шкафа за какой-то посудой и обнаружил там маленькую бутылку коньяка. К ней резинкой была прикреплена шоколадка и тысячерублёвая бумажка. Я спросил у дочери, откуда это?
– Так это давно тут стоит. Это же Сашка, сосед покойный, у тебя занимал. Он тогда на третий день пришёл с извинениями и отдал. Тебя дома не было. Вот коньяк тебе принёс и маме шоколадку. Я как раз в командировку улетала, спешила очень, вот и убрала в верхний шкаф. Но я думала, ты видел, а что?
– Да уже, пожалуй, ничего, — ответил я. Меня охватило странное ощущение. Как будто бы я забыл очень дорогую мне вещь в убежавшей навсегда электричке…
***
«Одинаковые пули»
Полусгнившая жёлтая маршрутка, пахнущая грязной ветошью и соляркой, тряхнула кузовом и завелась, подрагивая под мерный рокот не убиваемого японского дизеля.
– До города доеду? – спросил я, открыв переднюю дверь кабины.
– Конечно, доедешь, мой дорогой, садись, – ответил бородатый брюнет с лёгкой проседью в густых волосах и добродушной улыбкой.
Пока я рылся в бумажнике, оплачивая проезд, маршрутка пополнилась ещё несколькими пассажирами, и мы поехали.
За окнами понеслись вереницы тёмно-зелёных кипарисов, маленькие покосившиеся домики, утопающие в зарослях винограда, а вдалеке, за холмами, виднелись заснеженные вершины гор, сияющие на фоне прозрачного синего неба.
Бородатый водитель бесцеремонно курил в кабине и оживлённо разговаривал по телефону. Всё существо его изнемогало от потребности жестикулировать. Руки были заняты, и, чтобы выпустить эмоции, он раскачивал головой, добавляя к своей речи восклицания, которым каждый раз придавал разный оттенок.
Его протяжное "ай" то имело характер возмущения, то радости, то сожаления.
– Гоча, возьми за проезд, – послышалось из салона. Водитель протянул назад руку с телефоном, и свободным пальцем подхватил протянутую ему купюру.
– Тебе у больницы остановить? – спросил Гоча, не оборачиваясь.
– Да, к дяде Артуру еду, – ответил голос.
– Скажи ему, пусть перестанет валять дурака и натирает колени настойкой из адамова яблока, а то его не выпишут и к свадьбе Марьяны. Дай, Бог, ей вырасти первой красавицей!
– Обязательно передам. Брату твоему привет! – пассажир выскочил, хлопнув дверью.
Гоча объехал двух вальяжно лежащих прямо на дороге тёмно-бурых коров, и мы снова помчались меж кипарисов. Бородач по-прежнему беспечно болтал по телефону, успевая постоянно сигналить в знак приветствия проезжающим навстречу машинам. Заметив на обочине сгорбленную спину старика, с котомкой в руках, Гоча резко принял вправо и остановился. Дед, кряхтя и чертыхаясь, забрался в маршрутку.
– Ох, спасибо сын. Возьми вот, пожалуйста, – дед протянул водителю измятую бумажку.
– Да что ты, отец? Тебе не надо платить. Скажешь, где выходить, я поближе подвезу.
– У дома Серго мне надо выйти. Знаешь? У водокачки.
– Конечно, знаю. Присядь, отец, сейчас быстро поедем.
За окном вновь замелькали деревья и горы. Наговорившись вдоволь по телефону, Гоча запел. Сначала тихо, как будто бы только для себя, сбиваясь и хрипя, потом всё громче, чисто и с душой. Покачивая головой, он выводил протяжный и грустный напев. Я не понимал слов, но если бы мне нужно было подобрать слова к этой мелодии, то это были бы слова об утраченном счастье, потерянной любви или далёкой родине.
Внезапно за моей спиной песню подхватил женский голос. Он бережно встроился в мотив, будто обвивая мужской вокал, как лоза винограда обвивает прочный ствол дерева. Через мгновение ещё несколько голосов слились в песне, сделав её широкой полноводной рекой.
Мне, столичному жителю, привыкшему к людской разобщённости и равнодушию, казалась добрым, сладким сном эта страна белоснежных гор, остроконечных кипарисов и простых, открытых людей, не ведающих высокомерия и взаимной вражды.
– Гоча, останови у старого вокзала, – послышался женский голос.
– А у вас здесь что, ещё и новый есть? – Усмехнулся Гоча, недовольный тем, что пришлось прервать песню.
– Нового вокзала не увидят даже мои внуки, – послышалось в ответ, – но этот-то весь развалился, значит, он старый.
– Пусть будет по-твоему. Сейчас подъеду к самому вокзалу.
У вокзала вышло большинство пассажиров, и мы с Гочей остались в маршрутке вдвоём.
Вдоль дороги замелькали полуразрушенные постройки, корпус завода с выбитыми окнами и серый ангар с надписью "Автомойка", где буква "й" была написана с перекладиной в обратную сторону. Возле надписи, уткнувшись в мобильные телефоны, сидели на корточках два молодых парня.
Я невольно усмехнулся, заметив забавную неграмотную надпись. Гоча недовольно хмыкнул в ответ на мою улыбку.
– А что ты хотел? Они после войны родились. Школы все разрушены. Где им было толком учиться?
– Понимаю, – ответил я сочувственно.
– А тебе куда ехать-то? – Спросил Гоча через некоторое время.
– Мне к дому доктора Давида. Знаешь?
Гоча от удивления перестал следить за дорогой.
– Ты с ним знаком? Он же никого к себе не пускает.
– И я не знаю, пустит ли. Читал его книгу. Написал ему письмо. Он ответил, что будет рад, если я заеду. Вот и всё.
– У нас не каждый может похвастаться тем, что видел доктора Давида. Он что-то вроде отшельника, почти святой.
– Возможно, я не всё знаю, но у него очень интересная книга о войне. Я читал её, и хотел встретиться с автором лично.
– Люди говорят, что Давид лечит гипнозом. Правда, я в это не верю. Но, если ты пойдёшь к нему, и он тебя пустит, разреши мне пойти с тобой. У меня зуб по ночам ноет уже вторую неделю. Может, Давид снимет мне боль.
– Да пожалуйста.
Ещё какое-то время мы ехали молча. Потом внезапно Гоча сбавил скорость и начал протяжно сигналить. Я осмотрелся по сторонам, но никакой аварийной ситуации на дороге не заметил. Машины, следующие по трассе за нами, проделывали ровно то же самое. Сбрасывали скорость и сигналили.
– Что это значит? – Спросил я из любопытства у Гочи.
– Вертолёт, – спокойно ответил он.
– Где вертолёт?
– Здесь. Ах да, ты не местный, не знаешь. Во время войны враги сбили в этом месте наш вертолёт. В нём перевозили женщин и детей подальше от линии фронта. Там было тридцать восемь женщин и детей. Убийцы знали об этом и всё равно сбили. Вот здесь они все и погибли, – Гоча указал рукой на пригорок.
Оставшуюся часть пути мы не разговаривали. Вершины гор были, как прежде, величественны и прекрасны. Я смотрел на них и испытывал искреннюю симпатию к этому простому, открытому и дружелюбному народу, заплатившему немалую цену за свою независимость.
Через некоторое время мы подъехали к маленькому дому из красного кирпича, обвитому виноградом. Его окно, выходящее на улицу, было открыто. В нём развивалась на ветру белая занавеска. Кирпичная стена вокруг оконного проёма была вся сплошь изрешечена следами пуль. Видимо, по этому окну долго, хотя и не слишком прицельно, работал пулемёт.
Мы вышли из машины, и подошли к маленькому, увитому плющом крыльцу. На пороге нас уже встречал невысокий человек лет семидесяти с белой от седины головой и большими живыми и невероятно глубокими чёрными глазами. Его взгляд не был враждебным, но был строг, печален и как будто заведомо знал о нас всё. Поверх его плеч было накинуто длинное чёрное пальто, полностью скрывающее под собой фигуру.
– Меня зовут Евгений, я писал вам о встрече, – начал я, протягивая руку для приветствия.
Давид ответил мне лишь неуловимым одобрительным движением глаз, но руки не подал. Гоча, увидев мою протянутую ладонь, поспешил меня одёрнуть за рукав. Не зная местных обычаев, я отнёсся к этому спокойно. Давид пригласил нас в дом, и мы прошли в маленькую, чисто убранную комнатку, с железной кроватью и накрытым белой скатертью столом. В углу тлела лампада возле иконы Богородицы, а на стене висели несколько пожелтевших фотоснимков советских времён.
Мы сели за стол. Я заметил на лице Гочи сильное волнение. Он смущённо убрал свои руки под свисающую со стола белую скатерть и нервно подёргивал губами.
– На меня произвела большое впечатление ваша книга, – начал я, обращаясь к Давиду.
– Выбрось её, я написал дрянь, – сухо ответил Давид, но взгляд его оставался приветлив. – Если бы я не читал твоих рассказов, то вообще не стал бы с тобой на эту тему разговаривать.
– Я хотел спросить у вас, Давид, об эпизодах, которые, как мне показалась, не вошли в книгу.
– Послушай, ты же из Питера? – глаза Давида оживились при этих словах и даже немного помолодели.
– Да.
– Я окончил Ленинградский медицинский институт в семьдесят шестом году. Мы очень любили гулять белыми ночами после экзаменов. Какое это было время, если бы ты знал! Одна гитара и пятнадцать голосов со всех республик союза. Пели по ночам песни Визбора на стрелке Васильевского острова, – взгляд Давида устремился поверх моей головы и потерялся за окном.
На пороге комнаты появилась молодая женщина. В её руках был поднос, на котором стояли три стакана красного вина.
– Давид, мне кажется, что-то помешало вам написать в своей книге всё, о чём хотелось? Или у меня сложилось неправильное впечатление? – спросил я, желая вывести хозяина на интересующую меня тему.
– А ты сможешь ли написать? – воскликнул Давид. – Ты тоже не напишешь то, что нужно писать об этом.
Давид сделал глазами знак женщине с подносом, и та подошла ближе. Она поставила один стакан перед Гочей, другой передо мной, а третий продолжала держать в своих руках.
– За мирное небо над вашей Россией. Мудрости вашим детям и здоровья вашим старикам, – произнёс Давид.
Женщина поднесла стакан с вином к его губам.
Он запрокинул голову и выпил до дна. После этого его плечи дёрнулись, и чёрное пальто упало на пол. Я обомлел. Вместо рук висели худые обрубки, которые заканчивались чуть ниже локтя.
– Ты спрашиваешь, о чём я не написал? А о чём вообще говорить? Я — врач. Я не воевал. Больницу, которую я создавал много лет, сравняли с землёй. Раненых с фронта везли прямо ко мне домой. Я оперировал здесь, в этой комнате. А там, – он указал глазами на соседнее помещение, – был морг. Я работал по двадцать часов в сутки. В моём саду хоронили наших ребят, которых я не сумел спасти. Эти доски на полу пропитаны их кровью насквозь. Кровью наших мальчишек.
Давид резко встал и подошёл к иконе, висевшей в углу. Он стоял ко мне боком, но я видел, как двигаются его губы. Гоча был бледен и не смел пошевелиться.
Через некоторое время Давид вернулся за стол и продолжил.
– Ты хочешь знать, о чём я не написал? Ты чувствуешь, что я не сказал всё? Так я тебе расскажу. Писать у нас об этом нельзя, но говорить мне никто не запретит. Когда наши ополченцы отступали, я не смог уйти с ними. В доме оставалась моя парализованная мать, которую я не мог бросить. Всё произошло быстро, за один вечер. Передо мной появились эти люди. В такой же, как у нас, форме, с таким же оружием. Они волокли за собой раненых бойцов. Я не успел вымыть здесь пол, как в моей операционной уже лежали их покалеченные парни. Это были обычные мальчишки, понимаешь?
Давид встал и нервно заходил по комнате.
– Они точно так же, как и наши, были изуродованы осколками. У них точно так же торчали переломанные кости из-под обгорелого, прилипшего к телу окровавленного камуфляжа. Они так же звали на помощь своих матерей и плакали, не желая умирать в девятнадцать лет. Понимаешь ты меня?
Давид снова подошёл к иконе, и плечи его задрожали. Спустя минуту, он резко обернулся ко мне и продолжил:
– Я окончил Ленинградский медицинский институт. Я давал клятву лечить. А они умирали на моих глазах. У каждого на шее был крестик и оберег, повешенный матерью в надежде на спасение. И я спасал. Я работал, как прежде, по двадцать часов в сутки. И их тоже хоронили в моём саду. Вот там, – он указал глазами за окно, – я не знаю, сколько в этом саду наших, а сколько чужих, мне некогда было считать.
Лицо Давида стало багровым, и большие чёрные глаза наливались какой-то неистовой злостью. Казалось, он был готов воткнуть нож в сердце войны, если бы у неё было тело. Если бы оно было, Давид точно нашёл бы в нём сердце, для меткого удара штыком.
– Мой отец был хирургом на Сталинградском фронте, – продолжил Давид. – Он говорил, что безошибочно отличал дезертира от героя при операции. Немецкие пули и осколки отличались от наших. Ему не составляло труда определить, выстрелом из какого оружия был ранен боец. А я вынимал одинаковые пули из людей, одетых в одинаковую форму, говорящих на одном языке. Из людей одной веры, которую все они предали, потому что люто ненавидели друг друга. Кто-то запустил эту цепочку злодеяний, и ненависть стала настоящей. А я перестал видеть между людьми разницу. Я лечил их, выполняя свой человеческий долг, и был жестоко наказан за это...
Я заметил, что женщина, приносившая вино, вернулась в комнату и присела у порога. Только теперь я увидел, что вся левая сторона её лица искажена последствием глубокого ожога.
– А потом вернулись наши, – продолжил Давид, и я почувствовал сарказм в его голосе, – вернее, наших там было уже меньше половины. Остальные наёмники из других стран. Они сочли всех, кто оставался в оккупации предателями. Жгли дома, стреляли всех без разбора. Их ненависть не имела границ. Среди них я узнал одного лейтенанта, которого оперировал полгода назад после тяжёлого ранения. Теперь он был полковником и командовал расстрелами на футбольном стадионе, где казнили всех, кто казался им подозрительным или просто возражал против грабежа и насилия. Я же, лечивший врагов, был предателем номер один. Моя участь была решена, – глаз Давида задёргался, и он отвернулся в сторону.
Гоча нервно мял кисти рук, не находя им места. Он поглаживал ладонями колени, потом бороду и снова сплетал дрожащие пальцы в тугой узел.
– В моём доме оставались двое тяжело раненных бойцов, – произнёс Давид сдавленным голосом, – враги попросту бросили их при отступлении. Мне приказали отвезти их на тележке в парк культуры, где зарывали трупы, и сбросить в яму. Затем дали в руки лопату и приказали закапывать. Тот самый, спасённый мною молодой полковник, приставил дуло автомата к моему затылку и посоветовал лечь в яму к своим пациентам, если я не захочу взять в руки лопату. А из ямы на меня смотрели с ужасом глаза человека, самочувствием которого я интересовался несколько часов назад. Человека, которого ещё утром я укорял за не вовремя принятое лекарство и радовался, что его состояние стабилизировалось. Теперь я смотрел на него сверху, и в моих руках была лопата. А в его глазах была жизнь, за которую он цеплялся из последних сил, умоляя взглядом не убивать его. И я цеплялся за свою жизнь, потому что я не герой. Как все люди, я боюсь смерти, тем более глупой и напрасной. У меня не хватило духа лечь в яму рядом с ним, и я, зажмурив глаза, начал закапывать. Песок был сырым и тяжёлым. В нём попадались камни, и я слышал только лязг моей лопаты, ударявшейся о них. Этот звук до сих пор стоит в моих ушах. Иногда я слышу его по ночам, и тогда я бужу Динару и заставляю её громко петь мне.
Присевшая на пороге женщина с обожжённым лицом молча кивнула в подтверждение его слов.
– А после меня отволокли на проспект Героев. Он и тогда так назывался. В честь павших героев Великой Отечественной, когда и мы, и наши теперешние враги были по одну сторону фронта. Там меня, как и многих других, привязали к фонарному столбу. Мои руки были связаны с обратной стороны столба проволокой. Командовал всё тот же полковник, вчерашний лейтенант. А я вспоминал, как собирал по частям его ногу, вынимал осколки из живота и зашивал кишечник. Я до сих пор отчётливо помню его кишечник. Помню каждый сантиметр его бедренной кости, собранной мною, на последнем, оставшемся в моём доме штифте. А теперь он командовал расстрелом и не обещал нам лёгкой смерти. Все, кто висели на столбах левее меня, поэтапно были облиты бензином и подожжены заживо. Когда загорелась привязанная рядом со мной женщина, я понял, что жизни не спасти, и лучше было принять смерть, оказав сопротивление в самом начале. Но разве я мог знать всё заранее?
Женщина с обожжённым лицом, сидевшая на пороге, прикрыла глаза руками и поднялась с места.
– Не слушай меня, Динара. Незачем.
Динара с тревогой посмотрела на Давида и молча вышла.
– В тот момент, когда я это понял, начался ураганный обстрел. Выбитые из города враги работали по нам "Градом". Я тогда уже отличал эту смертельную машину от других по звуку. Где-то сзади прогремел разрыв. Я увидел красные отблески в окнах дома напротив. Тут же эти окна стали пустыми, а меня как будто что-то ужалило сзади. Словно огромная собака укусила мои связанные за столбом руки. В ту же секунду я упал на землю лицом и потерял сознание. Потом, в госпитале, мне говорили, что фонарный столб сохранил мне жизнь, прикрыв мою спину от осколков. Но руки так и не сберегли. Хотя я говорил этим коновалам, что нужно было делать.
Давид снова вскочил и нервно зашагал по комнате.
– Они прислушались к моим словам, лишь когда спасали женщину, обгоревшую на соседнем столбе. Она осталась жива. Пойди сюда, Динара. Я не стану больше ничего говорить. Помоги мне надеть пальто.
Давид поднялся из-за стола и направился к выходу. Мы, как заговорённые, последовали за ним.
Во дворе дома, возле умывальника, были прибиты к стволу дерева опасная бритва и расчёска.
– Я многое делаю сам, – заявил Давид в ответ на удивлённые взгляды при виде приколоченной расчёски.
Динара обняла Давида за плечи и прижалась щекой к его затылку.
– Напиши там, как сможешь: у вас, наверное, разрешат, – сказал мне на прощание Давид.
– Попробую, – ответил я.
– А за больной зуб не беспокойся, – обратился Давид к Гоче, – он тебе ещё послужит, главное – не спеши удалять. Сейчас не болит?
Гоча удивлённо вытаращил глаза и отрицательно замотал головой.
Вот и не будет больше, – заключил Давид.
Пропахшая соляркой жёлтая маршрутка задрожала ветхим кузовом и завелась. Мы ехали молча, и белоснежные вершины гор были по-прежнему прекрасны. Но сопки были где-то высоко, а обшарпанный салон маршрутки постепенно заполнялся пассажирами. Они не замечали нашего с Гочей молчания. В них кипела сегодняшняя свежая жизнь. Двое мужчин обсуждали, откроется ли после ремонта баня к ближайшим выходным. Женщины сетовали, что тётя Тамара перестала торговать на рынке сметаной. Одни говорили, что у неё заболела корова. Другие судачили, что к Тамаре привезли из города пятерых внуков на каникулы и теперь сметана ей нужна самой.
Я смотрел на пролетающие мимо кипарисы и вспоминал о военных складах, где мне прежде приходилось бывать. Там хранятся тысячи комплектов для систем залпового огня "Град". Они лежат там не напрасно. Когда-то снаряды будут выпущены. Пролетят ли они мимо внуков тёти Тамары? Кто из этих ребят за полгода станет из лейтенанта полковником? Им неизбежно придётся соприкоснуться с какой-либо войной. Будут ли на этой войне все пули одинаковыми или судьба подарит благоразумие будущим поколениям?
– Мне эта баня нужна, как воздух, – услышал я мужской голос позади себя, – без парилки у меня спину ломит. Это с войны ещё. Два осколка вынули, а третий — во мне. Теперь, после ремонта, баня наверняка дороже станет. А где деньги брать? Хорошо тебе: ты полковник, герой войны — у тебя мытьё бесплатно, – говорил незнакомец своему соседу.
– Знал бы ты, как я этого героя получил. За полгода из старлея полковником просто так не становятся. Я бы с удовольствием променял своё ветеранское удостоверение на твою нищету, – ответил хриплый басок позади.
Мне очень хотелось обернуться, чтобы увидеть этого человека. Но я не стал на него смотреть.
Мирмович Евгений Владимирович
____________________________
165646
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 24.10.2024, 19:51 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 26.10.2024, 20:54 | Сообщение # 2865 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| FICUSS, не молчи.
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 27.10.2024, 18:38 | Сообщение # 2866 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| БОЯРКА
Вдруг вспомнилось : ходили по боярку,
в Сибири так боярышник зовется,
в шафранных ягодах, сгущеных, крупных , ярких,
чуть-чуть качни и ярый свет прольется
мне на цветущий маками подол,
в суглинок иль серебряный подзол
cкользнут оранжевые ядрышки - частицы,
Чтоб новою бояркой народиться.
Брат ловит, их подставив котелок,
и клювом схватывает удалая птица
а ежика зажмуренный клубок
В гирлянде ягод ни гугу, не шевелится.
Я помню пальцы мамины. Она
как будто доит куст, куста доярка,
за пять минут уже не видно дна.
Вот полведра, вот ярая боярка
наполнила ведро и даже с горкой,
и мама этот сказочный надой
накрыла марлей, будто пеною парной.
И говорит, пшеницы прядь откинув,
« Никак отцовский трактор, вон, у речки!»
И мы бежим, а нам с горы навстречу
квадратик неба – синяя кабина!
На всю округу трактор тарахтит.
И счастья пыль под ноги нам летит.
Как полюбила я воспоминанья,
чтоб мыслью возвращать к себе иль словом
родное сердцу, облики былого,
лишь позовешь, они уж тут как тут,
они ведь не исчезли, но живут
в надзвездных горницах,
в светлицах мирозданья.
***
Мне восемнадцать, я в санчасти медсестрою,
свирель бы мне пошла, но шприц в руках у Хлои,
из Меда практиканты, как приматы
глаза таращат. Клочья зимней ваты
летят весь день за медленным окном,
пенициллином пахнет, хлором острым,
снуют по коридору сестры, сестры,
кричат больные, боли полон дом.
Но поступают новые страдальцы,
я принимаю их. Взяв кровь из пальца,
определяю группу – это просто,
но и волшебно, на тарелке плоской
четыре капли крови. Я над ней
колдую, как заправский чародей.
Здесь – первая, всех ярче и щедрей,
владелец юный, Агриков Андрей,
в твой крови живет лихой напор,
тельца как воины летят во весь опор
и рыцарями бьются фагоциты
в доспехах крепких с воплем : cito! сito!
ты победишь, перерастешь недуг,
ты будешь друг мне, более чем друг,
ты будешь жить мальчишечка-краса,
из рук Костлявой выпадет коса!
Не знала я, что через тридцать лет
она в тебя направит пистолет.
А эта кровь мне кажется седой,
безжизненною, жидкой и больной.
Эритроциты, красные цветы,
так бурно осыпаются, что скоро
сосудов сад останется весь голый.
Я изучаю желтые листы
истории болезни втихомолку:
ты из ракетных войск Василий Волков,
красавец, богатырь, но ты лучом
поганым весь изранен, как мечем.
Я тайно плакала над горькими вестями,
так и жила тогда –
их жизнями, смертями,
о каждом радовалась и скорбела я,
душой еще дитя, умом совсем дитя.
Теперь сама в недугах на постели,
в лоскутном забытье лежу как в маках Элли,
и на тареле белой вижу
четыре капли крови, будто вишни
они перезревают, сохнут плотью
теряют сахар,
и рассыпаются, становятся щепотью
таинственного праха,
мнишь ли,
того, быть может,
из которого мы вышли.
***
Из горестей земных,
всех виденных страданий,
я не могу забыть твои, Авдеев Даня.
По улице иду или брожу по лесу,
где на тропе поваленная ель –
вдруг времени взрывается завеса,
сворачивает небо, нету леса
и в коридор больничный, как в туннель
я попадаю. Колпаки, халаты...
Там Даня, сын полка, верней – палаты.
Мальчишка. Лет двенадцать. Как с картинки,
но весь худой, ни мышц в нем, ни кровинки
в походке легкость, чуть сутулится спина,
сквозь смуглость проступает желтизна,
припухлость глаз китайская и щек:
нажмешь – враз ямочка, а значит есть отёк.
Cчитай, он в отделенье нашем жил,
медсестрам стал сынком,
кто помоложе - братцем,
дружил со мной и часто говорил,
что смерть фигня, что нечего бояться,
он с детства звал ее.
(И это если вкратце).
Зайдешь в палату утром в тишине,
еще он спит, что видишь ты во сне?
Наверно что-нибудь соленое:
пупырчик,
груздок соленый, в банке помидорчик,
ковун из бочки – алую середку,
чухонь сушеную, иль волжскую селедку,
все съел – а сам живой и невредимый!
Ну хоть во сне посолонкуй, родимый.
Был случай: вор в больничную столовку
прокрался ночью да лягнул неловко
железный стул, тот лязгнулся об угол,
сбежались сестры, санитарка Люба
примчала, бравая такая тетка,
в руке ведро, в другой на палке щетка.
Врубили свет – а это Даня-свет!
И соль в перстах, голимая щепотка.
Уж тридцать лет прошло, как умер Даня,
жизнь в миф ушла, в советское преданье,
скажите мне, зачем и для чего
я мучила мальца в земной юдоли?
Не дам, твердила, соли! Ешь без соли!
Зачем я обессолила его?
Врача приказ я исполнила честно.
Хоть тресни, а еда должна быть пресной
в яичницах, борщах, салатах, плове
соль исключить. Как много в этом слове
пролитой соли из опухших глаз
соль коркою стянула мой рассказ.
...Взгляну на сваленную ель, на небеса – и
так солоно, что в пот меня бросает,
листву сбривает ветер-брадобрей,
так зябко, Господи,
первач меня согрей!
Вскипает солончак, выпаривая стих,
в коленях скрипнет соль, когда стою на них,
и камской соли каменный бузун
грозит мне пальцем, как седой горбун.
***
Сестра не умерла
То было в девяностых. Битый быт,
кто спился, кто в инфаркте, кто убит,
завод закрылся, профсоюз распался.
кто обворован, кто проворовался,
работы нет, а есть так не платили,
мы с матерью картошку посадили.
Картина дня. Отбитый угол рамы,
я шла рядком, закапывала ямы,
запорошила пыль глаза и рот.
Расти большим, кормилец-огород.
Пришли домой.
Укрывшись покрывалом,
– Ох, сердце жмет!
Еще так не бывало! – сказала мать, –
еще так не сжимало никогда…
Как наводненьем вздутая вода
Втекал в наш двор апрельский вечер,
деревьев и кустов шумело вече.
в волнах «красавица лесная» груша
и наши вишни утонули.
Я любовалась садом из-за штор
и улыбалась. Я не знала, что
в минуты эти в Барнауле
мою сестру зарезали.
На сад я любовалась и окрест,
когда они входили к ней в подъезд,
в дверь позвонил один,
просил бинта и ваты,
стакан воды просил для брата,
тот у стены присел, как будто болен он,
а ушлый нож уже был занесен!
Семь раз они в сестру воткнули нож,
семь ран,
пока она бежала
по лестницам, зажатым этажами
но я не вижу, взгляд мой стекленеет
твердеет рот язык деревенеет
и как я расскажу я вместе с нею умерла
Я с ней лежу
2.
Простишь ли ты меня когда - нибудь,
моя голубка!
Не омыла, не собрала, не проводила
тебя в последний путь.
Ты так красива, милая сестра, так молода,
когда бы рядом я была,
тебя на луг зеленый положила,
букетик полевой вложила
в твои ладони
сухой бессмертник, цвет душицы, донник
и мелкие головки маргариток,
ты их сожми перстами,
как разрешительной молитвы свиток,
написанный цветами.
3.
Тебе, Земля - не та, что глины горсть,
песка, подзола, чернозема персть,
но ты могучий шар, гигантская утроба
ты в чреве чьем
зародыш изумруда зреет,
и кварц преображается в хрусталь
как Золушка в принцессу,
под раскаленным временем,под прессом
созиждется алмаз, божественный кристалл,
и хризолит, и сердолик лучистый,
не счесть всего, не перечислить...
Мерно
по кругу двигаясь,
со спутницей беседуешь Селеной,
ты любишь Солнце и надеждой тешишь Марс
и даришь жизнь - одна во всей Вселенной.
Земля, ты всем нам мать.
Сестра моя уснула. Спит и спит.
Весною мягко спать в твоей степи,
как будто ангел стелет пух с крыла.
сестра уснула, но не умерла.
Землица теплая, прими ее сегодня –
до пробужденья, до трубы Господней.
***
Русское лето, прощай,
отечество счастья земного,
троицына трава, яблоки Спаса второго.
Бабьего лета юбка за перелеском мелькнула
кромкою золотой, ровно и не было, сдуло.
.
Перед толпой дубов – в рванье, скинувших шапки,
ветер –
рыжим рябым всадником на коне
листьев кидает охапки,
грамотки раздает, треплет и треплет,
как самозванный царь Гришка Отрепьев.
***
Памяти воина Игоря Лункина
«Жизнь на току кладут,
Веют душу от тела.»
«Слово о полку Игореве»
Междоусобная? Мировая?
Какая убила тебя - не знаю,
горит в степи
и в груди все выгорело,
я раны смертные омываю
в реке Каяле, к полкам взываю:
«За землю русскую, за раны Игоревы…»
В огонь бросаю подарки ханские,
рву грамоту, разбиваю басму*,
плюю в послов, в заявленья хамские,
и тем в огонь подливаю масло.
Даю краюху французу пленному
(И ты бы мог голодать под Горловкой),
Твержу, впечатавшись в снег коленами,
Слова, где имя твое –
как горлом кровь.
Она заливает пространство рваное,
и колокол под дугою курскою,
ей гусли обагрены баяновы,
и девы юной уста медвяные:
«За раны Игоревы, за землю русскую…»
__________
* басма - потрет хана, которому должно поклоняться.
***
Осень нынче какая!
Собор сентября златоглавен.
Я на пороге стою,
полон сегодня храм.
Скажут « Апостол» –
а сердце добавит: Павел.
Скажут «Креститель» –
я выдохну: «Ио-анн…»
Ветер колышет листву,
фолиант старой рощи листает,
– «Ру-ссь …» – прошумит,
а душа отзовется: « святая…».
***
Тетиву оборвал стрелок?
иль взведенный застыл курок?
Я люблю твоё имя: Курск,
будто в горку, а где же спуск?
Крестный ход сквозь мошнинский двор,
Мать, дитя на руках, шаг скор
к Коренной чудотворной Курской.
Август. Лето в провинции русской.
Я люблю твое солнце, Курск
как топленного масла брус
и полей золотой убрус
на котором всем ликом - Русь!
Плодородный дородный Курск,
сладкий кус, соловьиный куст
у курьи, где Тускарь-река
расплылась, округлив бока.
Курских песен люблю я лад, -
образ строг, серебрист оклад,
и щемяща и так проста
с колокольцами челеста.
А печальный речитатив
как кукушкины слезки чист,
у пустого гнезда она
совершенно одна, одна.
Голову наклоню,
тоненько запою:
Ой горе, горе
да лебеденку моему…
***
На поселке гульба, лай собачий, пальба,
Праздник зимний.
Кто проулком идет,
чей покров – небосвод
синий?
Свежий снег на холме, а над ним купола,
и рука над пределом покров подняла.
Слышно, идет служба в храме,
полумрак, свечек редкое пламя,
святые праздника цветами увитые,
четыре матери, горем убитые.
«…О плавающих, путешествующих,
страждущих, плененных» – басит иерей.
Божья Матерь ходит меж матерей,
устами касаясь каждого слуха,
голос ее – дуновенье,
дыханье святого духа:
–Твой Иляточка пасет божьих теляточек.
–Твой Сашечка кормит божьих пташечек.
–Твой Ванечка печет райски прянички.
–Твой Боря поет со ангелы в хоре.
Нет у меня фоток, снимков,
где они все в обнимку,
но вы увидите своих сыновей.
Изболевшие души тянутся к Ней:
Анна, Дарья, Людмила, Лидия –
каждая своего сына видит!
Кто плачет, кто смеется,
тянут руки к сынам,
покой в душу льется.
Кончилась служба,
прозвонила морозная звонница,
домой собирается Богородица.
Матери с Ней прощаются, обнимаются,
каждая просит передать посылочку –
ждет поди родный сыночка.
Саше – куртку фирменную:
«Не смотри что таксист, он у меня форсист.»
Ване корзинку с выпечкой до самого края:
«Как он без моих пирогов – не знаю!»
Боре ксилофон: «До войны справно играл он.»
Илье кроссовки: «Рвется, горит обувь у моего.»
И все шли и шли за Ней – до конца пути своего.
***
У подошвы горы да стоял монастырь,
с гор спускалась ночная прохлада,
там послушник читал неусыпно псалтырь –
в гимнастерке военной, собой богатырь,
был он в прошлом солдат Сталинграда.
В битве главной,
на той, сто второй высоте
взрыв рванул - и пропали в разломе
три окопа, и сам он исчез в темноте,
и свинцовая склоны укрыла метель,
где весь взвод его был похоронен.
Самого отшвырнуло взрывною волной,
в разъяренную землю зарыло,
он лежал чуть живой,
чуя грудью, спиной,
как сжимает великая сила.
– Ох и тяга земная, суглинок песок,
пуще камня меня придавила,
и курган невысок, бугорок среди гор,
но ушел я туда глубже чем Святогор,
В холод глины и цепкого ила.
Я бы крикнул - да рот затрамбует земля,
лучше, други, не шевелиться.
Я глаза бы открыл да опять же нельзя:
заползает зыбучий песок как змея,
и гнездится в глазницах.
Смерть красна на миру,
даже тут, на юру,
но живьем разве можно в могилу?
Ни звезды по ночам, ни зари поутру,
сколько так пролежу и когда я умру?
Или все же спасут? Или сгину?
Сам не ведал он,
сколько в земле пролежал,
вдруг железа отчаянный скрежет –
это штык от винтовки на камень попал,
кто-то дерн ковырял и завал разгребал,
свет как будто забрезжил.
Близко голос раздался:
– Микола, скорей!
Благовестила звонко лопата.
– Поднимай его Вася!
– Полегче, Андрей!
Он увидел курган, дальний ряд батарей:
– Бог спаси вас, ребята.
Видно, час не пришел. Повоюю пока,
потопчу большаки, покопчу облака…
Птица ль воздух щетинистый бреет,
Ангел кровь омертвелую греет?
Вдруг стряхнулась труха и медянки песка –
встал и сам пошагал к батарее.
… При подошве горы да стоял монастырь,
с гор спускалась ночная прохлада.
В келье инок читал неусыпно псалтырь,
в одеянье монашьем, собой богатырь,
был он в прошлом солдат Сталинграда.
Трубным голосом вечную память поет,
и рыдающе, гулко, пустынно
имена называет, как будто зовет,
там, за ладанным облаком дыма
видит каждого, крестит могучей рукой:
– Во блаженном успении вечный покой.
***
Дух осени так мирен и лучист,
и безмятежный желтоватый лист
покинул древо жизни – светлый клен,
ни страха в нем, ни горя расставанья,
одно мгновенное сиянье –
и вот уже земли коснулся он.
Но это золотистое касанье
стеснило сердце,
будто предсказанье.
***
ДВЕ СТАРУХИ
Суха береза,
старуха в грибах древесных,
А было время
сияла,
трепетна и чудесна,
А было –
бедра белые,
женственна и прелестна!
Теперь – такая как есть.
Дай у тебя присесть.
Суха старуха, кора в коросте,
вся в бородавках.
Идет Фотограф
и нервно курит,
идет Художник
к другой натуре.
Собака гавкает.
Лишь пела пташка –
(забыла имя.
Такое что-то …
от слова «синий» ),
и птичья лилась лития,
что каждую душу небо примет,
и каждое тело - земля.
Нина Густавовна Орлова-Маркграф
_____________________________
166120
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 27.10.2024, 18:40 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 31.10.2024, 19:45 | Сообщение # 2867 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Здорово, други! Вы еще ни-ни? –
Такого не бывало в наши годы,
Поэты русские такой не знали моды
И душ своих не тискали в ремни!
Эй, как вы, милые – в постылой и святой,
В которой, может, объявлюсь я вскоре,
С которой пить и мыкать наше горе
До самой распоследней запятой?
… Блестящей в позолоте наших снов,
Пропахшей пылью едкой и всесветной,
Горластой встарь, а ныне безответной –
Поклон тебе из далей и лесов.
Ты, говорят, черней ночи самой,
Как сердце, почерневшее от боли,
Которому никто и не позволит
Стучать с дурной эпохой в разнобой.
Но ты сияешь – тихо и не вдруг,
Как лунный снег на даче опустелой,
Как якорь в небеса – России целой,
Хранящий там ее небесный струг!
***
Я белая кость. Другим мне не стать.
И хватит случайные жизни листать!
Их ржа разъедает, к ним кра`дется тать.
Им страшно до жути: на цыпочки встать,
В глазок заглянуть – и дышать перестать.
Я выбран не мною. Я помню свой род.
Голодной слюною на твой бутерброд
Тебе не залить мой пылающий рот.
Мне имя народ, а не титульный сброд.
Упрямый, как «ер», и надёжный, как «ять»,
Я буду один средь немногих стоять
За каждую жизни порушенной пядь,
За гибнущий дом, и за каждую блядь,
Что ты растоптал и уже не поднять.
За всё, что тебе у меня не отнять
– Я буду стоять. И тебе – не слинять.
***
Осень проходит, и дни мои стали прозрачны.
Что-то роднит нас ещё с красотой неземною.
Вряд ли дела, что казались нужны и удачны.
Может быть, небо, пропахшее близкой зимою.
Может быть, родина… Радость её неотмирна!
Что-то последнее есть, несравненное в этой равнине.
Что-то такое, что хочешь ответствовать мирно
Всякому «здравствуй»…
- Во веки веков и отныне!
Время полулюдей, годы полураспада,
Череда беззаконий поросла лебедой.
Что же сталось с тобой, и кому это надо –
Километры беды мерить общей бедой?
Что нам «Запад», «Восток», если вышло иное,
Если русские тропы сюда привели?
Ты стоишь на краю, чуешь вечность спиною,
А вокруг только небо и немного земли.
Только ты, моя рань, моя вольная воля,
Позабыв про усталость, вся в небесной пыли,
Только ты и осталась, как лучшая доля,
Только ты и стоишь – остальное болит.
* * *
Я человек, и в этом одинок.
Вода в реке, и поле, и деревья –
Весь этот мир, летящий из-под ног,
Всё меньше чувствую своим теперь я.
И что с того, что ветра свист в ушах,
Что умный луч пронзил моря и стены,
Когда я собственный хочу замедлить шаг,
И не могу – один во всей вселенной!
* * *
Адские бездны
Души бесполезной,
Века железного сыпь.
Катятся души
По тверди беззвездной,
Ветры гуляют, как псы.
Что же там светит,
Играя на лицах –
Зарево или восход?
Катятся души,
Забыв помолится –
В вечность, на стужу, в расход!
Катятся души,
Тяжелые, наши,
Глупые – им по пути.
Близок огонь, беспощаден и страшен.
Боже, не дай нам уйти!
Близок огонь.
Закрываясь от света,
Шепчем, сползая во тьму:
Боже, великое солнце Завета
Не отвратить никому!
***
Сны стали яркие сниться,
Детские вещие сны.
Где-то пылают зарницы
Близкой по крови войны.
Где-то становится летом
Парень, сгоревший в броне.
Только ведь я не об этом,
Я не о том совсем... Не
Понимая откуда,
В нас эта вечность течёт,
Наспех прощаемся с чудом,
Свой не жалея живот.
Что же нас встретит на древнем
И бесконечном мосту?
Домик над речкой в деревне?
В детстве уроненный стул?
Жизни мелькнувшей начало?
Тёмные волны извне?
… Старый отец у причала
С парнем, сгоревшим в броне.
***
Нынче брали Париж.
Завтра возьмут Берлин.
Дальше нельзя — шалишь!
Дальше будет Шали.
Холод и адреналин.
Дальше будет Донецк —
Там, где лежит твой брат.
Где ты бредешь, отец?
Как тебе там, солдат?
Видел я твой Бухарест,
Пару бутылок взял.
Так и не съездил в Брест,
Где ты тогда не пал.
Вот, побывал на войне.
Слова такого нет.
Просто в тебе и во мне
Тьма не задавит свет.
Радость у нас с тобой:
Он — как отец и дед.
Он не оставит бой
Там, где нас больше нет...
* * *
Было как в сериале:
Наши не наших гнали.
После их отозвали...
Чтоб пить дорогое вино.
Ветер свистит в спортзале,
В раздолбанном вдрызг спортзале, —
Такое у нас кино.
Дальше будет разруха.
Оно неприятно для слуха,
Но очень полезно для духа
Тех, кто еще живой.
Будем об этом помнить:
Люди уходят в полночь,
Те, кто живет войной...
***
Если ветер не просто о жизни -
О минувшем твоём говорит!
То, что память скупей и капризней,
И, увы, ненадёжней обид;
То, что скоро подёрнутся мраком
Расставанья и встречи твои...
По каким же таинственным знакам
Нам теперь выбираться двоим
Из уснувшей до срока округи,
Из осенней наследственной мглы?
Если духи сомненья и вьюги
Здесь уже обживают углы?
Если сердце не просит, а стонет,
Умоляет уже о любви?
Если даже грядущее тонет,
Растворяясь в озябшей крови?
И какой-то неведомый голос,
Пробиваясь сквозь холод и лёд,
Всё, что пело в тебе и боролось,
На последнюю битву зовёт!
***
Лопух печальные уши развесил…
Зелёные мамонты русских полей
Бредут паутины сквозь лёгкие взвеси
Туда, где пустынней заря и алей.
Туда, где пустынней… Куда же пустынней!
В заросших лугах редколесье встаёт.
И лишь под луной, ночью звёздной и синей,
Родная равнина себя узнаёт.
Таинственней, ближе, родней и ранимей
В круженье нашествий, времён и светил
Россия стоит, позабывшись над ними,
И кротко склоняясь пред Господом Сил.
***
Снова в небо взлетает малыш,
На земле воцаряется тишь.
Ни разваленных миной домов,
Ни налившихся тьмой проводов –
Только тишь и малыш, и весна…
Почему ж твои ночи без сна?
Почему, прикрывая блокпост,
Он, не ты, поднялся в полный рост?
И теперь его юная мать
Будет в памяти долгой качать:
Сквозь года и стрельбу, и метель,
Раз за разом – пустую качель…
***
В огне и пене белый бэтээр,
Как взмыленная лошадь у барьера.
И у кого-то рушится карьера,
А у кого-то встал секундомер.
Горит и стонет, умирая, взвод,
И бьёт в туман без смысла и без цели.
А мы опять на ёлку не успели…
Как скверно наступает Новый год!
А, впрочем, слава Богу – жив радист!
И ангелы-хранители плечисты –
Уже летят, и горизонт их чист,
И НУРСы* под крылами серебристы!
__________
*НУРСы – неуправляемые реактивные снаряды,
основное вооружение российских
боевых ударных вертолётов Ми-24
***
Что ж ты вьешься, что ж ты кружишь,
Черный ворон, надо мной?
И кому ты, ворон, служишь —
Беспилотник иль живой?
Ох, не клюй ты, черный ворон,
Очи черные мои!
Не от злобы они черные,
А от угольной пыли.
Да, не знал я, черный ворон,
Что за Кальмиус-рекой
Буду я лежать недвижим,
Со кровавой головой...
Ты не вейся, не надейся!
Моего не трогай рта!
То не громы в поднебесье,
То работает арта.
Ты увидишь, ты дождешься,
Как у Бахмутки-реки
Навсегда придут и встанут
Наши русские полки.
Вот тогда меня поднимут,
Бросят в кузов, на мешки.
А тебя с винтовки снимут
Мои снайперы-дружки...
Что ж ты вьешься, что ж ты кружишь,
Черный ворон, надо мной?
И кому ты, ворон, служишь —
Беспилотник иль живой?
***
Пропахший одиночеством и дымом
Покинутых зимовий и мостов,
Сжигаемых тотчас по переправе,
Я примелькался, точно компас в рубке
И растворился, как азарт в крови.
Деревья мне протягивали руки
И пальцы узловатые свои,
Когда в твоих лесах, Россия, падал
Отравленный свободой и тоской,
И думал: не дожить до снегопада...
Забытый, как холстина в мастерской,
Дожил - и выпал снег, затем - растаял.
Я стал и жить, и думать о другом…
А жизнь, до невозможности простая,
Лежала в сумке - рядом с табаком.
Алексей Алексеевич Шорохов
_________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 31.10.2024, 19:56 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 01.11.2024, 14:09 | Сообщение # 2868 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Алексей Алексеевич Шорохов
Ромаядины
(Семейная хроника)
Пролог
Ни свиста пуль, ни горячей толкнувшей волны воздуха.
Артёма обожгла близкая вспышка и оглушил грохот АК-74М.
Автомат был без «банки», громкий, темнота и тишина – полной.
Очередь оказалась короткой.
5,45 – коварный калибр, с двадцати метров даже свист пуль не слышен.
То, что очередь дали по нему – Тёмка понял сразу.
Давший её испугался сам.
- Свои, мать вашу! – Тёмка про своих крикнул почему-то не очень своим голосом. Не очень – потому что услышал его со стороны.
- Балу, это ты?
Стрелявший тоже потихоньку возвращался в себя, и в ответ нечленораздельно выругался.
Переполох произошёл из-за подрыва.
Посреди ночи сработала одна из мин, расставленных по периметру наших позиций.
Со стороны Днепровского лимана.
На побережье.
Вариантов подрыва было всего два: или ДРГ противника зашла на наши мины, или какая животина забрела.
В радиусе нескольких сотен метров уже лежало пара туш диких лошадей, подорвавшихся на «монках».
Могло быть и третье – порывом ветра сломало старую большую ветку, и она упала на проволоку растяжки.
Но ветра не было.
А подрыв был.
Поэтому взвод высыпал из блиндажей в окопы на усиление дежуривших на НП наблюдателей.
Один Артём замешкался, надевая броню, и вышел с опозданием минуты в полторы.
Вот его и приветил Балу, решивший, что это хохол заходит с тыла.
Спасла непроглядная черноморская ночь и ещё кое-что. Или Кто...
Но Тёмка в эту сторону сейчас не думал.
Балу, большой, как мультяшный мишка, по которому он получил позывной – мялся и немножко криво и растерянно улыбался.
Он умел так улыбаться, что ничего ему не скажешь.
В темноте было ни аза не видно, но Тёмка точно знал – товарищ улыбается.
- Ну, чего лыбишься, стрелок? Вот сходил бы я сейчас к тёще на блины... неизведанной длины...
К тёще.
Это была отдельная песня.
В общем-то, обычная, пересыпанная анекдотами, но с характерным «московским», оттепельным душком...
Глава 1
Безделушкины
Августа Владленовна почему-то считала себя римской матроной. Хотя от матроны в ней было прямо скажем немного – сухая ближневосточная кость и плоть, которая к старости становилась ещё суше и ближневосточнее, провисая бесчисленными складками там, где в молодости блестел смуглый отполированный крымским солнцем полисандр или сандал.
Так ей говорили видевшие и ценившие её тело поклонники. Про полисандр. Иногда оговариваясь, и тогда получался полиандр(1) , что звучало не совсем понятно, но ещё более пикантно.
И было тоже правильно, ибо Августа Владленовна только замужем официально значилась несколько раз, про всё же остальное говорить не будем, в её среде это хоть и обсуждалось, но не осуждалось.
Кстати, о среде. Папа Августы – Владлен Борисович – был осветителем в Театре на Таганке и неоднократно пил, по его словам, за сценой с самим Володей Высоцким. И не только с Высоцким.
Смуглая девочка росла, можно сказать, на подмостках.
Поэтому Гуся (а именно так повелось у домашних и близких приятелей – Авгуся или попросту Гуся) даже спустя годы после гибели Высоцкого, по-прежнему называла его «бедный Володя», Любимова «дядя Юра», Филатова «Лёнечкой».
Вспоминала, с папиных слов, историю, как на гастролях в Праге искали американские джинсы для Неёловой, разумеется, «Мариночки».
Последнее, то есть поиск, затруднялся тем, что «Мариночка была худа, как таракан».
Несмотря на погружённость в этот удивительный мир, профессию себе Гуся избрала нетеатральную и попробовала поступить в МГУ на филфак. Читала она всю жизнь жадно, правда – без особого разбору, как правило, то, что было модно в ту пору в её кругу.
Тем не менее, знание запрещённого в позднем СССР Солженицына и «гонимого» лауреата Сталинской премии Некрасова её не спасло от сокрушительного провала на экзаменах.
Потому что знание «запрещённых и гонимых» не заменяло и не отменяло в МГУ знания Пушкина.
И Толстого.
И Шолохова.
Который хоть и был «сатрап» и «штрейкбрейхер», и «певец коммунистического режима», но Нобелевскую премию по литературе получил всё-таки не за Чапаева, как выпалила на экзамене Гуся. В ответ на вопрос о главном герое романа Шолохова о Гражданской войне.
Дружный хохот экзаменаторов поразил её в самое сердце, и со словами «вы все здесь сатрапы» девочка в слезах выбежала из аудитории Гуманитарного корпуса на Ленинских горах.
На этом её борьба с режимом закончилась, прочитанный в перепечатке под одеялом и с фонариком Солженицын, после его официального и триумфального издания на Родине, был Гусочке уже не интересен.
А интересным стало то, что в её возрасте интересно любой девочке, вне зависимости от того, исполнено её юное сердце тайным презрением к кровавому режиму или оглушено восторженными славословиями комсомольских вожаков, громогласно просивших «убрать Ленина с денег»(2)на стадионах и у памятника Маяковскому.
Гусю заинтересовал противоположный пол. Удивительно, но выросшая среди актёров, суфлёров и монтёров сцены девочка не стала жертвой бурного нетрезвого романа в гримёрке.
Её папа всё-таки отвечал за весь свет на спектакле, часами просиживал в кабинете худрука накануне премьер, его уважали.
Может быть ещё и потому, что серьёзная девочка поводов не давала. «На филологический поступает».
Для актёров это было очень сложно. Семиотика. Структурный анализ. Сложнее была только модная в ту пору кибернетика.
Поэтому, несмотря на все свои тайные закулисные влюблённости, восемнадцатую весну Авгуся встретила всё ещё девственницей.
* * *
Утрата девственности свершилась у Гуси в общежитии МГУ, в недавно отстроенном Доме аспиранта и студента (ДАС), который столичные пошляки сразу же переименовали в «Дом активного секса». Как видим, не без оснований.
Её сердце сразил бородатый аспирант из Эстонии Питэр. За время недолгой абитуры Августы они очень быстро сошлись, буквально после нескольких случайных встреч.
Один Питэр счёл оглушительный провал Гусочки на экзаменах выдающейся антисоветской акцией, а ответ про Чапаева – блестящей и остроумной отповедью партократам. Фигой, которую наконец-то русская интеллигенция вытащила из кармана и во всеувиденье, громко и демонстративно показала большевикам.
Он говорил и ещё что-такое, но Гуся слушала уже только тембр его голоса и счастливо блестела глазами.
Через семь месяцев у них родилась Машенька, недоношенная, названная так отнюдь не из любви к русским сказкам и старине.
Умом и воображением Питэра в ту пору целиком и безраздельно владел запрещённый Набоков, по которому ему не давали защищать диссертацию.
То есть не то чтобы не давали, просто Питэру хватило его эстонской сообразительности самому не предлагать Набокова в герои своего научного исследования. Зато он решил отыграться на дочери. И вообще-то Машенька должна была стать Адой(3) .
Но тут уже встал на дыбы дедушка Владлен и сказал, что внучки с таким именем у него не будет. Достаточно дочки, которую он по глупости разрешил назвать жене согласно римскому месяцеслову. Дедушка хоть и жил в этом странном альтернативном мирке по имени «Таганка», но взглядов был вполне традиционных, ибо прошёл войну, а не отсиделся в Ташкенте.
Может поэтому и Высоцкий нередко из прокуренной и невесёлой духоты гримёрок убегал к нему, «за сцену». Где можно было наконец-то не хихикать о «совке», а поговорить о жизни. И было с кем.
Поэтому родные сошлись на Машеньке(4) .
И дедушке угодили, и очередную яркую антисоветскую манифестацию провели. О характере манифестации знали только двое (Питэр и Августа, которой он всё объяснил). Но от этого она была не менее важна и духоподъёмна для всех свободных людей мира, и приближала конец прогнившего коммунистического режима.
Питэр, по обыкновению, говорил ещё что-то такое, на Гуся не слушала. Сама выросшая без братьев и сестёр она наконец получила долгожданную игрушку, недаром в русском народе говорится: первый ребёнок – последняя кукла.
Впрочем, особо баловать девочку с первых дней не удалось. Результатом ожесточённых битв за имя новорожденной стали прохладные отношения между зятем и тестем, которого Владлен Борисович, сам москвич во втором поколении, постоянно тыкал рыбацкой мызой на берегу Балтики, откуда приехал бородатый филолог.
Поэтому в самом непродолжительном времени молодая семья переехала в дворницкую в Черёмушках, где Питэру свезло отхватить самую престижную на ту пору работу для творческих и околотворческих натур в Москве – работу дворником. У представителей альтернативной жизни в цене ещё были котельные, но там больше ответственности. К тому же Черёмушки оказались совершенно новым микрорайоном, с центральным отоплением и киношным лоском. На экраны только что вышел фильм всех времён и народов «Ирония судьбы, Или С лёгким паром!».
Таким образом молодожёны угнездились в самом эпицентре жизни и времени.
Если ещё добавить, что, за неимением ванной в дворницкой, семья на помывку каждую неделю ходила в общественную баню – переплетение киношной жизни и всамделишной оказалось чрезвычайным.
Питэр в этих семейных, а по большей части и самостоятельных походах в баню настолько вошёл в роль любимца женщин Лукашина, что это стало угрожать семейному благополучию.
Злую роль, по слову дедушки, с зятем сыграла «чухонская хромосома», которая не расщепляла алкоголь. Ну, или расщепляла его гораздо хуже «русской», не говоря уже про всё расщепляющую «еврейскую».
Когда Питэр после очередного гигиенического мероприятия вернулся в дом без бороды – Августа вздрогнула во второй раз.
Первый раз был, когда он привёл её с запелёнутой дочерью в дворницкую.
Тогда Гусочка, выросшая на Верхней Радищевской, впервые подумала, что свобода от родителей «совков» и государства могла бы выглядеть и посимпатичней.
Изнеженная девочка столкнулась с многими другими, доселе неведомыми ей атрибутами свободы – мытьём полов и посуды, необходимостью готовить себе и Машеньке, походами в магазин и, главное, стоянием в очередях, то есть тем, чем в прежней её жизни занималась мама.
При том, что доставал всё папа. И даже больше, чем всё.
Благодаря тетатрально-билетным возможностям и гастролям.
Попасть на спектакль с Высоцким – это, знаете ли, трёхлитровой баночкой чёрной икры не отделаетесь, дорогие гости из Астрахани. Не говоря уже про балычок или ласосинку с Дальнего Востока и прочие благорастворения воздухов со всех концов изобильного Союза.
И вот Гусочка осталась безо всех незамечаемых прежде благодатей. Ну, практически. Бабушка, конечно же, тащила кое-что для внученьки. С молчаливого неодобренья дедушки. Но по сравнению с прежним это было и в самом деле «кое-что».
Цена свободы оказалась непомерной.
Осознание этого совпало с окончанием аспирантуры её мужем, который без бороды стал гораздо симпатичнее, хотя и растерял всю свою филологическую брутальность.
Его распределили (не без его горячих и убедительных просьб) в Тарту.
И это стало третьим звоночком, потому что ехать во всесоюзный центр структурализма, хотя и в максимально несоветскую и благоустроенную Эстонию, но за тысячу километров от мамы – Гуся была не готова.
- Я не жена декабриста! – стукнула она кулачком по столу.
- Так ведь не в Сибирь, Гусочка, - попытался возразить Питэр на общесемейном совещании.
- Ну из Эстонии в Сибирь дорожка прямая, - пошутил дедушка Владлен, после чего эстонский филолог обиженно засопел и затих на весь вечер.
Не последнюю роль в расставании сыграло и то, что в с недавних пор Питэр с «заседаний кафедры» стал возвращаться густо попахивая не только коньяком, но и дамскими духами.
В общем, решили, что девочка болезненная, недоношенная, у неё слабые лёгкие, и прокуренная атмосфера творческих дискуссий во всесоюзном центре структурного анализа её добьёт, поэтому Гусочка с Машенькой пока останутся здесь. Сроки и окончательность этого «пока» предстояло ещё выяснить.
* * *
В счастливых детских воспоминаниях Машеньки, хоть и немного смазано, но незыблемо сохранились отголоски нескольких поездок с мамой на мызу. Дедушка Тойво и бабушка Салме, суровая серая Балтика, чёрный дедушкин баркас, на котором он выходил в море ставить ловушки, баснословно вкусная салака, как её здесь называли «райма», которую бабушка жарила на чёрной чугунной сковородке прямо на печке.
Папа с дедушкой, пившие домашнюю водку.
- «Шмыгалка», так она будет по-русски, - пояснял папа.
- Почему? – смеялась мама.
- Потому что её не пьют, а шмыгают! – серьёзно объяснял Питэр, – шмыг, шмыг!
- А-а, теперь я понимаю почему так много местных в прошлое воскресенье валялось на улицах райцентра. Нашмыгались!
- Трудяги, что ты хочешь. Всю неделю в море. Вот и нашмыгались.
Но таких весёлых минут было не много.
Чаще Машина мама сидела на крылечке одна, курила, подолгу смотрела на песчаное взморье, кудлатые бесприютные волны. А папа с дедушкой уединялись в бане, обсудить за стаканчиком «шмыгалки» перспективы осеннего хода салаки.
Хотя совершенно точно они ездили с мамой летом, Машенька не помнила, чтобы они купались у дедушки Тойво.
Море, купанье, солнечные брызги – это навсегда вошло в её жизнь вместе с Крымом, уже с другими дедушкой и бабушкой, московскими.
А на мызе всё было, как из какой-то давней сказки. Или чёрно-белого кино.
Машенька же, как и все советские дети (включая антисоветских), любила цветное.
* * *
Ещё Машенька запомнила папину квартиру, которую тоталитарное государство выделило молодому и многообещающему доценту Тартусского университета родом из деревни – в самом историческом центре города, просторную, трёхкомнатную. Недалеко от Ратушной площади.
Диплом и аспирантура МГУ высоко ценились на исторической родине Питэра, которого, несмотря на пока ещё достаточно скромные достижения – несколько публикаций в столичных профильных журналах – уже успели назвать «вторым Лотманом».
И кому это льстило больше – Питэру или самому мэтру(5) – было трудно определить.
Машенька запомнила Ратушу, неубиваемую булыжную мостовую на Ратушной площади, развалины Домского собора Петра и Павла на Домской горке, где находилась библиотека Тартусского университета, мосты через речку с невыговариваемым названием.
Само древнее наименование Тарту – Дерпт, красновато-кирпичный колорит улиц, дома с черепицей, соборы, магазинчики, мосты, всё это поразило девочку не меньше чёрно-белой сказки о рыбацкой мызе.
Августа Владленовна тоже полюбила тесную красоту тартусских улиц, уют кафешек, розы и ухоженные газоны везде, где только можно, местечковая знакомитость и родственность всех встречных и поперечных – всё это разительно отличалось от огромных каменных проспектов Москвы, разноплеменных и безликих толп приезжих или таких же толп уже угнездившихся в столице Советского государства. «Лимитчиков», как презрительно называли их в кругу москвичей во втором поколении знакомые Гусочки.
«Санаторий повышенной культуры» - отзывался о Прибалтике в целом дедушка Владлен, неоднократно бывавший там на гастролях с театром.
Было это похвалой или ругательством – Машеньке не разъясняли.
В эти счастливые поездки к папе на родину – Гуся и Питэр были вместе, пили вкусное чёрное пиво в кафешках, возвращались держась за руки поздно.
За Машенькой в такие вечера приглядывала тётка Питэра, тоже жившая в Тарту, правда, на окраине.
Увы, но совместная радость и близость родителей были редкостью, и хотя Машеньке об этом долго не рассказывали, но и Гуся, и Питэр уже начали жить в разные стороны, каждый своей жизнью.
...Дочь у Владлена Борисовича была единственная и любимая, поэтому после того, как чухонский зять исчез с горизонта, она возвратилась в семью ещё более любимой и желанной.
К тому же, несчастной.
«С мужем не повезло». Так решили в семье Ромаядиных (Гусочка сохранила за собой и дочерью дедушкину, «прославленную в театральном мире» фамилию).
Впрочем, нельзя сказать, чтобы Гуся сходила замуж напрасно, вернулась-то она с трофеем. Говорить о том, что дедушка с первых же дней в Машеньке души не чаял, думаю, излишне.
Трофей, по большому счёту, и достался однодетным и недолюбившим в своё время бабушке и дедушке.
А для Гусочки началась подлинная свобода.
Предоставив питание и воспитание дочери родителям, Августа Владленовна, ставшая наконец женщиной и как-то случайно даже матерью – впервые так остро и радостно оценила ту атмосферу, которая совершенно безо всяких усилий досталась ей с детства.
Предприняв, не совсем удачную, но честную попытку пожить своим умом, Гуся вернулась к родным пенатам во всеоружии только что распустившейся женственности, и в поисках потерянного понапрасну времени окунулась в увлекательную жизнь закулисья с головой.
Несмотря на всю театральную прославленность фамилии Ромаядиных, местечка в Театре на Таганке для Гусочки не нашлось, но Владлен Борисович без труда устроил её в находившуюся поблизости Библиотеку иностранной литературы, знаменитую Иностранку.
Как это не странно, работа в Иностранке Августу увлекла, видимо не сбывшееся филологическое нашло себя в библиотечном.
Наряду с заочным обучением в Кульке(6) , Гуся со всем пылом нерастраченной молодости ушла в мир модных зарубежных писателей, редких или полузапрещённых изданий, театральных премьер и артистических квартирников, на которые съезжалась «вся свободомыслящая Москва».
Машенька к обоюдной радости сторон оказалась на полном попечении бабушки и дедушки.
О чувствах третьей стороны, собственно отца ребёнка, справлялись мало, хотя в структуралистском и постструктуралистском бытии Питэра образ «похищенной» дочери становился всё более и более навязчивым. Особенно за стаканчиком шмыгалки.
Пока Питэра, как и его прославленного шефа, преследовала удача и советский (в сокровенной глубине своей, конечно, антисоветский) структурализм был моден и привечаем в известных кругах творческой интеллигенции в СССР и на Западе – приглашения на международные конференции и симпозиумы следовали одно за другим.
Папа Питэр летал в свободный мир через Москву и привозил оттуда Машеньке дорогие и редкостные шмотки, а также книги парижских и немецких издательств с творениями постепенно разрешаемых в стране писателей.
Режим слабел, разрешённого становилось всё больше и больше.
Привозил он подарки и для возлюбленной жены своей Гусочки: тоже книги и шмотки; и тогда родители изображали для дочери любовь и взаимопонимание, даже спали вместе – по-дружески.
Машенька всего этого не понимала, но ей, как и любому другому ребёнку, нравилось, что папа и мама вместе.
В такие минуты она была счастлива.
Впрочем, дети обычно счастливы и во все остальные минуты. Кроме тех, когда они действительно несчастливы.
______________________________
1 Полиандрия – многомужество.
2 Стихотворение А. Вознесенского «Уберите Ленина с денег» (1967).
3 Героиня романа В.В. Набокова об инцесте «Ада»
4 Героиня другого одноимённого романа Набокова.
5 Ю.М. Лотман – один из основателей Московоско-Тартусской школы структурного анализа, завкафедрой Русской литературы в Тартусского университете в 70-е гг. ХХ века.
6 Московский государственный институт культуры в Химках.
Читать далее: https://zavtra.ru/blogs/romayadini
_______________________________________
166326
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 01.11.2024, 14:11 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 06.11.2024, 22:18 | Сообщение # 2869 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Обними меня, осеннего,
Пусть не Блока, не Есенина,
Не Андрея Вознесенского,
А поэта неизвестного,
Но любовь его вселенская.
И погладь седую голову.
В ней поет и плачет золото,
И Надежда к солнцу ластится,
И смеется дуб раскатисто
Над березкой в новом платьице.
Обними меня по дружески
И душа моя закружится
Под мелодию нездешнюю,
Из Грядущего зашедшую.
Обними меня, утешь меня.
Обними, почти что зимнего,
Поколоченного ливнями,
Искалеченного пулями
И голодными акулами
И судьбою, полной дулями.
Словно песня колыбельная,
Ты такая неподдельная,
Ты такая бесконечная,
Мудрая и безупречная,
Станция моя конечная.
Обними меня, осеннего,
Пусть не Блока, не Есенина,
Обними душой весеннею -
Зазвенит от счастья бешено
Мое сердце сумасшедшее.
***
Это было той ночью торжественной,
Когда вальс затуманил нам головы
И счастливые до сумасшествия
Мы кружились по сонному городу.
Тихо падали листья осенние,
Подчиняясь чуть слышной мелодии,
И шептались друг с другом растения
О любви красоте и о Родине.
Всюду флаги на зданиях жестами
Что-то ветру пытались доказывать...
Ты была удивительно женственной,
Ты была необычной и сказочной.
Ты была удивительно солнечной
И пришлось постоянно мне жмуриться.
Может, это подарок был полночи
Разукрашенным к празднику улицам.
Но потом поднимался день будничный
И прощаясь с тобою на станции,
Я не знал, что от чуда мне в будущем
Лишь мелодия вальса останется.
Под нее давней ночью торжественной
Ты кружилась по улице красочной
И была удивительно женственной ,
И была необычной и сказочной...
***
Уже не молод,
Еще не стар,
Душа в мозолях,
Слегка устал.
Уже болезни
Стучатся в дверь,
Уже полезно
Пешочком вверх.
Уже не молод,
Еще не стар,
Памяти город
Огромен стал.
В нем сотни улиц,
И тыщи лиц,
В нем свищут пули,
И пенье птиц.
Уже не молод,
Еше не стар,
Любовный голод
Палит уста.
И в дрожь бросает
От красоты.
Готов, как в мае,
Сжигать мосты.
Уже не молод,
Еще не стар,
Еще, как молот
Сплеча удар.
И чист мой парус,
Как белый снег.
Любовь и ярость
Со мной навек.
***
Сменив уют и тишину
На фронтовую обстановку,
Попала скрипка на войну,
В одну компанию с винтовкой.
Владелец взял ее с собой,
Не в силах разлучиться с нею,
В огонь и дым передовой,
В залитые водой траншеи.
И между схватками,когда
Война давала передышку,
Касался струн скрипач-солдат
И волновался ,как мальчишка.
Шли непрерывные бои,
И горю не было предела,
А скрипка пела о любви,
О красоте и счастье пела.
А скрипка пела про свое
Среди страданий и печали
И струны тонкие ее
Тепло и нежность излучали.
И изнуренные бойцы
Вдруг улыбались удивленно.
И ветераны и юнцы,
Едва пришившие погоны.
И в пенье чистом, как роса,
Им слышались необъяснимо
Тоскующие голоса
Далеких, как мечта, любимых.
И вспоминались ясно вдруг
Невест и жен родные лица,
Среди свинцовых долгих вьюг,
Успевшие почти забыться.
И легче становилось им,
Пускай на краткий миг, но все же,
Как будто заглянув к родным,
Перешагнув родной порожек.
А музыкант водил смычком
И волновался, как мальчишка,
И ничего не знал о том,
Что он давно у смерти в списке.
И снайпер, спрятавшись вдали,
На мушку взял его однажды,
А скрипка пела о любви,
Великодушной и отважной.
И рухнул на траву он вдруг
И умер ,даже и не вскрикнув,
Мгновенно выронив из рук
Простреленную пулей скрипку.
У серебристого ручья,
Среди ромашковой поляны
Похоронили скрипача
Печальные однополчане.
И в бой, что ждал их впереди,
Отправились солдатским строем,
А он со скрипкой на груди
Лежал, засыпанный землею.
И не окончилась война,
И было крови все ей мало,
Но что-то светлое весна
На струнах радуги играла...
***
Как смешно мне слышать чьи-то то клятвы
О любви огромной Навсегда...
Пусть они торжественны и сладки -
Но не вечна даже и звезда!
Ну, а если вдруг любовь уходит,
Удирает в прошлое навек? -
Остается клятва, как в комоде
Старая испорченная вещь.
Но подлей военные присяги,
Всё беспрекословно выполнять...
Командир и Родина прикажут -
Так вперед шагай, стальная рать!
Ну, если командир- мерзавец
Избивает раненую в кровь?
Ну, а если Родина - держава
Попадает в лапы подлецов?
И прикажет, чтобы тыщи танков
Стерли чью-то родину с земли -
Значит надо начинать атаку?-
Родине присягу принесли!?
И вперед, чудовища стальные,
Наступает испытанья час:
Сделайте из гадов отбивные,
Выполняйте родины приказ!
И звучат под знаменем, под стягом
Те слова и велика их их суть...
Кто-нибудь военную присягу
Упрекнул когда-то в чем нибудь?
***
Иногда, словно первый дождь,
Иногда, словно первый снег,
Вдруг приходит, когда не ждешь,
Удивительный человек.
Иногда, словно фейерверк
Неожиданный средь небес,
Удивительный человек
Появляется вдруг в судьбе.
Не узнал бы его в толпе,
В ресторане и на шоссе -
Но подходит он сам к тебе,
Человек, не такой как все.
И не сразу, так через час
Вдруг почувствуешь: он другой -
По особой улыбке глаз,
Ослепительно молодой.
По касанью его руки,
По тому как сердечен смех,
По словам его, что близки
И согрели тебя, как мех.
И не сразу, так через час
Мысль появится в голове,
Что с тобой говорит сейчас
Удивительный человек.
Тот, кого ты совсем не ждал,
Но который к тебе пришел,
Пусть на день лишь - не на года,
Но душе твоей хорошо.
Оттого ,что тебя узнал,
Оттого ,что сказал "привет!"
И что руку тебе пожал
Удивительный человек.
***
Высоцкий, драка и зеленка или как начал писать сти
Это было очень давно. Я заканчивал службу в Советской армии. Можно сказать, полуслужбу, так как с одной стороны, был солдатом,а с другой - работал мастером в стройбате, благодаря тому, что окончил строительный техникум. Работал очень тяжело и нервно, строя ангары и тренажеры на военном аэродроме, возле села Черляны, в шести километрах от городка с нехитрым названием Городок и в 45 километрах от города Львова.
До этого совсем не интересовался стихами - школьная программа умеет отбивать аппетит у некоторых, а может и недостаточно возбуждать его у других.
У одного из солдат была гитара и он любил петь песни Высоцкого. Это было давно, до существования кассет и дисков, во времена пленочного магнитофона.Я не помню, насколько качественно он пел, то ли забыл, то ли не думал тогда об этом, но мне понравилось.
Корабли постоят и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоду...
На границе с Турцией или с Пакистаном,
На нейтральной полосе, слева где цветы...
Увлекало какой -то неведомой мне красотой. И мне вдруг захотелось попробовать самому что-то сочинить. Впрочем когда-то, в самом начале службы, во время эпидемии гриппа, лежал рядом с солдатом, сочинявшим стихи и даже ухитрившимся напечатать несколько в районной газете. Я и тогда решил попробовать, но быстро оставил эту затею. Это было в самом начале службы во время прохождения курса молодого бойца. Так это тогда называлось.А может и теперь...
А сейчас речь шла уже об окончании службы.
И я попробовал что-то сочинять на различные темы, понятия не имея,как правильно писать стихи и с чем это едят. Оказалось, что чувство ритма у меня было, но что есть такая вещь, как рифма уже помнил смутно. Честно говоря, начал писать даже не стихи, а сразу песни и неважно, что ни на чем не играл. Но напевать всякие песенки, услышанные по радио,любил.
Как уже упомянул, работал очень тяжело, хоть не физически, часов двенадцать и больше в сутки. Зато в выходные без проблем брал увольнительную и уезжал во Львов, где проживал тогда мой старший брат с семьей. Там, в спокойной обстановке читал книги, а вечером вечером обычно переодевался в гражданское и ходил на танцы.
И не было у меня особо времени серьезно попробовать и разобраться , каковы мои поэтические способности.
И вдруг наступили какие-то праздники, которые прицепливались к выходному. Не помню, какие именно, но вместе получалось три дня подряд.
Я ждал их с нетерпением, предвкушая особенное удовольствие от отдыха в семье брата и предстоящих танцев.
И вдруг произошла катастрофа.
Один напившийся солдат затеял со мной драку. Нас быстренько разняли, но ногти его руки уже успели пройтись по моему лицу. Причем это произошло, когда я уже собирался идти к автобусу. Посмотрел я на себя в зеркало и ужаснулся. Царапина на царапине. На лбу, на щеках, на подбородке.Красавец!
Делать было нечего - отправился в санчасть. Там долго не разбирались,хоть это никак бы мне не помогло. Быстро прошлись зеленкой по моим царапинам и отправили на все четыре стороны. После путешествия в санчасть мое лицо стало еше более интересным .Пальцев двух рук не хватило бы чтоб сосчитать количество зеленых пятен на лице.
Понял я, что с такой рожей не очень то пойдешь на танцы, и решил провести заслуженный отпуск дома, то есть в части.
И вот думая, чем бы заняться, вспомнил про последние поэтические пробы. И начал писать. Писал быстро и был уверен, что обнаружил у себя большой талант. Написал за эти несколько дней пару десятков "произведений", а часть из них даже стал распевать,содрав мелодии из всяких песенок, что давно сидели в башке.
Вскоре пришел дембель и я вернулся в родной город с кучей "прекрасных" стихов, как считал тогда. Стихи читал друзьям и они в один голос хвалили мое творчество, будучи такими же идиотами в поэзии, как и я. Даже осмелился послать стихи в журнал "Юность" и отнес лучшие в редакции двух районных газет...
А потом потихонечку понял, что мои стихи куда менее прекрасны, чем думал, начал читать настоящие стихи и постепенно начал писать сам куда лучше.
И уже не перестал писать .Но история о том, как я начал писать стихи, благодаря Высоцкому и драке, кончилась. Все что потом, это уже другие истории.
С тех пор прошло много лет, написал много стихов. Не подряд. Годы не писал по всяким причинам. Не от хорошей жизни.
Но уже пять лет(на момент написания этого рассказика-З.Г.), как снова пишу. Захотите, заглянете в мои стихи. На мой взгляд, найдете совсем неплохие , но это тоже уже не из той истории.
Недавно решил из любопытства попробовать написать что-то, используя в качестве начала первую строку из своих самых любимых стихов того солдатского времени, "Нас было трое -я,ты и гитара".
Не ставил перед собой цели написать шедевр,просто стало любопытно,а что я смогу быстренько сочинить.)))
Вот этим стихи.
Нас было трое: я,ты и гитара,
Любил двоих: тебя я и ее,
Еще имел в наличии я юность
И маленькое скромное жилье.
Любил двоих: тебя я и гитару,
Делил себя меж вами пополам:
С тобой вдвоем был вечером и ночью,
А утро с днем гитаре отдавал.
Гитара мне не приносила денег,
Но я ее, как женщину, любил,
Играл я с нею и шептал ей что-то
И разговоры с нею заводил.
Тянулось это два примерно года,
Но стало вдруг не нравиться тебе:
Хотела жизнь совсем другого рода,
Мечтала о другой совсем судьбе.
И ты однажды вежливо сказала,
Чтоб выбрал меж гитарою и ею,
А если нет - она уйдет навеки
Искать другого парня,поумней.
И думал я, а что же буду делать -
Люблю обоих сердцем и душой,
Потом сказал ей: "Брошу я гитару,
Но обращаюсь с просьбой небольшой.
Хочу я прежде, чем расстанусь с нею,
С гитарой, что со мною с детских лет,
Чтоб ты на ней играть чуть научилась",
Но ты сказала мне что это бред.
Потом ты все ж на это согласилась,
И я тебя старательно учил
И оттого, что ты меня любила,
Старалась тоже ты, что было сил.
И чудо божье все-таки свершилось -
Ты полюбила все-таки ее:
Свою соперницу,мою гитару,
Мы начали любить ее вдвоем.
Теперь нас трое: я, ты и гитара,
И есть у нас и юность, и жилье,
И любим мы друг друга и, конечно,
И днем и ночью мы всегда втроем.
Я совсем не шлифовал эти стихи, быстренько написал ... Их надо дорабатывать , но мне кажется, что этот рассказик мог бы стать небольшой авторской песней.
А вот начало одной этой, одной из первых "песен",написанных тогда, в конце военной службы.
Нас было трое - я, ты и гитара,
Я струны трогал и ласкал тебя,
Но видно наступила уже старость:
Теперь со мной гитара лишь одна.
Она по прежнему со мною дружит...
Дальше не помню, хотя где-то, в каких-то старых записных книжках, можно отыскать этот "шедевр".
***
Не помню, что натолкнуло меня
На это неприятное открытие,
Что поразило меня, как громом.
Я вдруг сообразил,
Что бесконечно давно, годы
Не глядел на звездное небо,
На Большую Медведицу,
На созвездие Стрельца,
На Млечный Путь...
Бесконечные заботы и проблемы,
Плохое настроение,
Телевизор, книги, газеты
И много - много работы
Ради куска хлеба.
И когда я сообразил это,
Мне стало стыдно.
Была полночь,
Но я немедленно соскочил с кровати,
Сунул ноги в тапки
И почти кубарем
Скатился по лестнице
Вниз на улицу.
К счастью, не было туч,
И я, запрокинув высоко голову,
Начал искать Большую Медведицу,
А потом Полярную звезду,
А потом просто шарил взглядом
По знакомым и незнакомым
Звездам и созвездиям .
И вдруг я почувствовал,
Что с небом что-то происходит,
Что-то неуловимое, непонятное...
Но я додумался:
Небо улыбалось мне,
Небо простило меня.
У меня отлегло от сердца
И я улыбнулся ему в ответ.
Вам,наверное, тяжело
Поверить мне,
И я понимаю вас:
Ночное звездное небо
Действительно улыбается редко.
***
Как тяжело о прошлом не жалеть,
Когда от жизни всей осталась треть,
И ты идешь по кладбищу надежд
И переводишь взгляд с креста на крест.
И там же похоронены мечты,
Что были так красивы и чисты,
И улетали в небо, как мячи,
Но их пронзили копья и мечи,
И им уже навек в земле лежать,
И к сердцу никогда их не прижать.
***
У меня, так случилось, - две Родины,
Которые славлю я одами,
Поэмами, песнями, гимнами,
Стихами короткими, длинными...
И горд я их вечною удалью,
Но это не то, что подумали.
У меня, так случилось, - две Родины,
Двух гимнов в крови мелодии.
Одна из Отчизн - Грядущее,
Великое и могущественное,
Божественное, нетленное,
Ярчайшее и священное.
Другая же, как у Бродского -
Речь Наша Великоросская ,
Из всех на планете - лучшая,
Великая и могущественная,
Божественная, нетленная,
Ярчайшая и священная.
У меня, так случилось - две Родины.
Двух гимнов в крови мелодии,
Два чуда, две вечных радости,
Любови две и две святости.
Одна из Отчизн - Грядушее,
Другая - Речь Наша Русская.
***
Я навеки погублен словами,
Переливами их и красой,
То в оконной появятся раме,
То приносит их дождик косой.
Залепляют стекло ветровое,
Залепляют очки и глаза...
Я погублен их чудной игрою,
Как картежник, вошедший в азарт.
Залепляют мне сердце, как снегом,
Заливают души берега,
Заполняют собою все небо,
Как гиганский волшебный орган.
Не дают они мне передышки,
Не хотят ни на миг замолчать
И о гроба дубовую крышку
Будут тоже, наверно, стучать.
Из-за них я и нищий и босый,
И жена проклинает меня,
Но клюю их, как курица просо,
И без них не прожить мне ни дня.
Меньше пользы от них, чем от снега,
Или плотного теплого пледа,
Невозможно ни съесть, ни продать...
Все что можно - как кубики лего,
Аккуратно сложить на рассвете
И от странного счастья рыдать...
***
Я ждал ее однажды под часами
С букетиком малюсеньким из роз.
Хотел чтоб золотыми волосами
Уняла трепет мой, уняла дрожь.
Но ей, как видно, нравился не очень
И было мало шансов у меня -
В конце концом я парень был рабочий,
И в жизни мало разбирался я.
Я ждал ее немало под часами
С букетиком красивых нежных слов,
Потом пожал печально я плечами
И понял: не придет моя любовь...
Когда промчалась половина жизни,
Подобное опять произошло -
Опять я оказался просто лишним,
Родился, видно я не в то число.
Я Славу ждал однажды под часами
С букетиком огромным из стихов,
Хотел я чтоб горячими губами
Мне подарила вечную любовь.
Но я ей видно нравился не очень,
И было мало шансов у меня:
В конце концов я парень был рабочий,
И мало в жизни разбирался я.
***
Где вы близкие люди -
По безмерной любви,
По мечтаньям о чуде
Для людей и земли,
По прожекторам взглядов,
Прожигающим ночь,
По стремлению к ладу,
По желанью помочь.
Мне без вас тусклы звезды,
А квартира - как склеп,
Вы нужны мне, как воздух,
Вы нужны мне, как хлеб.
Где вы близкие люди,
Как мне вас отыскать
С хлебом - солью на блюде
И дружком вашим стать.
Я о вас брежу с детства,
С юных лет вас ищу,
Лот души, компас сердца
Показать вам хочу.
Где вы близкие люди?
Выходите из тьмы
И не бойтесь простуды,
И сумы и тюрьмы.
Чтоб сильнее и выше
Был священный огонь -
Если кто меня слышит,
Пусть поднимет ладонь.
Я ищу вас, как прежде,
И зову и свищу,
Я ищу вас с надеждой,
С верой сладкой ищу,
Я ищу вас на ощупь,
Вашу боль и ваш смех -
Выходите на площадь
С сердцем поднятым вверх.
***
Мои четыре корабля...
Я капитан их неизменный,
Хотя вокруг меня лишь стены,
А под ногами лишь земля.
Мои четыре корабля...
Один из них корабль Детства.
Он невелик, признаюсь честно,
Зато летит он, как стрела.
А Юности корабль мой
Гораздо шире и длиннее,
И я на нем всегда смелее
Когда бросаться надо в бой.
А "Зрелость"- третий мой корабль,
Он самый крупный, он огромен,
Давным -давно он стал мне домом,
На нем плыву сегодня вдаль.
И есть еще корабль один
С названием печальным "Старость"-
Еще мне плавать не досталось
На нем средь островов и льдин.
Но этого недолго ждать,
Он тоже хочет выйти в море
И слышать множество историй,
Что могут волны рассказать
Четыре этих корабля
Со мною вместе лишь потонут
Среди домов, берез и кленов
И примет морем их земля.
***
Все плыву и плыву куда-то,
Рассекая событья, даты,
Волны времени рассекая,
И судьбу опять упрекая,
Все плыву и плыву куда-то,
Сам не зная уже, куда...
А когда-то волшебно-юным,
Улыбаясь светло и чудно,
Плыл на яхте, такой нарядной,
И судьба мне казалась ладной,
И мечтать было мне нетрудно
В те исчезнувшие года.
Но давно затонула яхта,
И на дно опустились карты,
И руками теперь гребу я,
Еле-еле справляясь с бурей,
Но плыву и плыву куда-то,
Сам не зная уже, куда.
***
Мне нравится слово "пока!"
В начале какой-то разлуки...
И двое идут, кто куда,
Но помнят всегда друг о друге.
Мне нравится слово "пока!"
Когда им письмo завершают -
И легкое, как облака,
И теплое - ты как под шалью.
Есть люди, что скажут "привет!"
Ну, а большинство - "до свиданья!"
Но я прокричу им в ответ:
"Пока, Николай или Ваня!"
И женщине часто "пока!"
Тепло говорил не однажды,
Когда отрывалась щека
От губ моих жарких и влажных.
Мне нравится слово "пока!" -
Короткое, славное слово,
Мне кажется в нем велика
Уверенность свидеться снова.
Последняя скоро строка,
И мы к расставанью готовы,
И я говорю вам "пока!"
И знаю, что свидимся снова.
***
Когда я в поисковике,
Вдруг запись новую замечу,
Дав слово поиска "Зельвин",
То знаю: где-то вдалеке
Кого-то тронул звонкой речью
Иль тихим шепотом своим.
Когда я в поисковике
Вдруг запись новую замечу,
Порой плыву я к ней на встречу
По ссылке, словно по реке.
И вижу с радостью: мой стих
Опять кому-то руку лижет,
Иль согревает, словно плед,
Иль губы трогает бесстыже
Каких-то девушех чужих
В Москве, в Берлине и в Париже -
Где только нынче русских нет!
Иль женщинам немолодым
На скрипке что-нибудь играет,
И их тоска чуть убывает,
Рассеивается, как дым.
И понимаю, что сумел
Кусочки сердца переплавить
В слова, звенящие, как медь,
В слова лечебные, как травы...
А, значит, в жизни я у дел.
И хоть ни денег, и ни славы -
Не так уж жалок мой удел.
Зельвин Горн https://proza.ru/avtor/zelvin
__________________________________
166629
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 06.11.2024, 22:20 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 09.11.2024, 20:02 | Сообщение # 2870 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Город
Один человек в 1975 году эмигрировал из СССР.
Он жил в Вене, в Риме, в Хайфе, затем обосновался где-то в Америке. Он был технарь, не гуманитарий. Работал по специальности, инженером-конструктором каких-то систем, я в этом не разбираюсь. Придумал несколько усовершенствований, разбогател. До такой степени, что построил себе целый город. Ну, то есть, не весь целиком город. Несколько улиц, переулков, парк, клуб. Город из своего советского прошлого. Из своих воспоминаний. Инженер скучал по этому городу, точнее, по этим нескольким улицам и парку. Восстановил он их точь-в-точь как помнил. Дома, кусты, деревья (искали, выращивали, привозили, высаживали).
В построенном им городе жили человек сто, они содержали в порядке дома, улицы. Были вроде как смотрители.
Время от времени инженер приезжал в этот свой город (все смотрители оттуда уходили на время его пребывания). Он шатался по улицам, смотрел на деревья, забредал в некоторые дома, сидел там. Мог включить телевизор, посмотреть советскую телепередачу из 1975 года. Игрушки, мебель, посуда, радиоприемники, все было из того времени. Из воспоминаний. Конечно, без жителей, без ветра с реки, без стучащего по мосту поезда, все это походило на своего рода кладбище.
В перестройку инженер смог вернуться в СССР, съездил в свой настоящий родной город, мало что в нем узнал, встретил нескольких знакомых, очень переменившихся. Он вернулся в Америку, жил, работал, навещал свой странный тихий город.
Говорят, что инженер умер в нем, сидя на крыльце одного из домов.
Наследники организовали там что-то вроде музея. Развлечение для туристов.
***
Оля
Один бродяга нашел телефон на Тверском бульваре. Телефон лежал на скамейке и звонил. Телефон в розовом футляре. Телефон звонил, бродяга присел рядом с ним, взял в руки. Телефон не унимался. Звонок был от Маши. Бродяга решил ответить.
— Да, Маша.
— Оля? — удивленно переспросил женский голос.
— Оля, — подтвердил догадку бродяга.
— Что с тобой?
— Болею.
— Ну ты даешь. Ты серьезно?
— Серьезно. Горло.
— А я тебя жду, как дура.
— Где?
— В кафе.
— Я приду. Скажи адрес.
— Ты адрес не помнишь?
— Болею. Пью таблетки. Влияют на память.
— Большая Никитская улица...
В общем, она сказала адрес, бродяга явился, подошел к столику, за которым сидела молодая женщине, сказал:
— Привет, Маша.
И сел напротив.
— Ты кто?
Бродяга выложил на стол телефон в розовом футляре.
— Я тоже себя не узнаю. Таблетки крутые. Все меняют. Память. Внешность. Все. Но горло не болит.
— От тебя пахнет.
— Знаю. Брошу пить таблетки, пройдет.
Подошла официантка.
— Вы мне кофе. Покрепче. Эспрессо. И что-нибудь такое, по-быстрому, хлеб с ветчиной. Хороший такой кусок хлеба с хорошей такой ветчиной.
— Сэндвич с ветчиной и эспрессо, — повторила официантка.
Она ушла, Маша сказала:
— Ты же не ешь мясо.
— С этими таблетками на мясо тянет.
Помолчали.
— Не могу поверить, — сказала Маша. — Смотрю на тебя и не понимаю. В голове не укладывается.
— А ты не бери в голову, этого никто не понимает, даже ученые.
Примерно в этот время в кафе вошла Оля, увидела Машу и бросилась к ней. С Машей за столиком сидел какой-то дикий тип. Оля хотела спросить, кто это, но заметила на столе свой телефон, схватила его.
— А я его ищу, ищу. Как он у тебя оказался? Мой хороший, соскучился, да?
Маша молчала. Оля казалась ей призраком.
Официантка принесла кофе и сэндвич.
Бродяга поднялся из-за стола, проглотил теплый эспрессо, взял сэндвич и направился к выходу.
— Кто это был? — спросила Оля.
— Ты.
***
Сирота
В 1957 году один музейный работник поехал из Москвы в райцентр на реке Оке.
Билет ему взяли самый недорогой, в общем вагоне дальнего пассажирского поезда. Семь с лишним часов тихим ходом со всеми, всеми остановками. Сидели тесно, по четыре человека на каждой нижней полке, включая боковые. На верхних и багажных лежали, даже и по двое. Музейному работнику досталось хорошее место, у прохода. Он выбирался на полустанках из вагона, курил, наблюдал зимние сумерки.
Поезд ехал от Москвы все дальше, и казалось, что не только в пространстве, но и во времени. Не в будущее время они удалялись, а в прошлое. Которого даже и не было никогда. Старинное, давно устоявшееся время, в котором прекрасно сосуществовали заводы, новые многоэтажные дома, железнодорожное хозяйство, памятник Ленину, дореволюционные халупы с печным отоплением, садами, огородами, стариковскими сказками.
Старики да малые дети помнят и то, что не видели. Темные леса, серых волков. Да мало ли что они помнят, чего нам не скажут. Художники тоже помнят. И проговариваются иногда. Не словами, а картинами, не картинами, а картинками.
Картинки — иначе свои работы Леонид Савельев не называл. Не от пренебрежения, от умиления. Надо же какие выходят. Они были для него точно детки. И он их жалел, что являются на свет, а для какой надобности, непонятно, поживут и погибнут, как все здесь на земле погибают. Краски потускнеют, бумага покоробится, и пусть уж лучше кинут их в печь, пламя от них будет жаркое, веселое, целебное.
Отчества своего Леонид Савельев никогда не знал, а придуманное для официальных лиц было Иванович. Прожил он сорок лет без малого. Умер в январе пятьдесят седьмого года (уснул пьяным на путях, замерз). Его сожительница после похорон не знала, куда девать его картинки, все на разных бумагах, когда картон, когда ватман, когда тетрадный листок. Смотреть ей эти картинки не нравилось, все на них было какое-то совсем живое, и деревья, и даже пустые стеклянные банки, не говоря уже о кошках, собаках, лошадях, воробьях и прочих тварях. Все они смотрели с этих картонок и листков, то ли к себе тянули, то ли стремились выйти наружу и не могли, томились. Страшные, страшные картинки.
Она принялась их жечь, и пламя выходило жаркое, веселое и жуткое, а жуткое потому, что слышались из пламени голоса, вот этих вот всех пожираемых пламенем существ, включая стеклянные банки и прочие не особенно занимательные в реальной жизни предметы.
Сожительница собрала уцелевшие картинки и отнесла их школьному учителю рисования, и сразу ей стало легко, свободно, до того легко и свободно, что пусто, ну, а чем она заполняла эту пустоту, мы не знаем и знать не желаем.
Учитель понял, что картинки не простые, что есть в них какое-то значение. Художественное, так скажем. Отнес их в краеведческий музей. И главный хранитель решила позвать специалиста из Москвы для, так сказать, экспертизы предметов. Вот и добирался музейный работник в далекий от Москвы город. Иногда семь с половиной часов выходит дальше, чем семь с половиной суток. Не берусь объяснить этот парадокс.
На станции приезжего встретил сотрудник отдела живописи и графики. По дороге он расспрашивал, как поживает Москва, как готовится к встрече молодежи и студентов из всех стран всех континентов. Завидовал, что приезжий москвич станет свидетелем предстоящего великого праздника.
Москвич сказал, что свидетелем не станет, что возьмет отпуск и уедет на дачу под Загорском. Сотрудник отдела живописи и графики отчего-то на приезжего обиделся. Но у себя в кабинете чаем все же напоил, а затем показал картинки, которые приезжий смотрел так долго, что сотрудник устал ждать. Чего там смотреть, десять кривых картинок и одна картинка-инвалид, половина обгорела. Да и час был уже поздний, хотелось домой.
Приезжий постановил картинки взять в основной фонд, включая инвалида.
— Ну уж нет, — воспротивился сотрудник, — фрагмент не возьму, там и не видно ничего, веточка какая-то сухая проглядывает и всё.
— И что же вы с ним сделаете, выкинете?
— А что еще прикажете делать, если не выкинуть? В рамку на стену повесить?
Инвалида приезжий забрал себе. В личное, так сказать, пользование.
Пригрел сироту.
***
Таня
В сентябре 1960 года в клубе Ленина выступал гипнотизер из Москвы. У Димы Яковлева мать работала в клубе кассиршей, она придержала ему билет. Представление давалось только одно, в воскресенье. Начало в девятнадцать часов.
С утра Дима с отцом сходили в заводскую баню, намылись, напарились, выпили пива в буфете, вернулись домой, поели. Отец уснул, а Дима погладил брюки, почистил ботинки, навел, что называется, марафет. Мать достала ему чистую рубашку, уговорила надеть не куртку, а пиджак. Дима нарядился, мать на него полюбовалась, сказала, что девочкам нравятся такие аккуратные ребята, да еще в белых рубашках и черных пиджаках. Брюки были темно-синие, перешиты из отцовских, очень приличные; а пиджак Диме достался от старшего брата Володи. Брату пошили в ателье костюм на окончание школы, прекрасный черный костюм, только брюки он прожег при нераскрытых обстоятельства.
Диме костюм на окончание школы не шили, так как Дима ушел из школы после восьмого класса, не дотянул до конца, устроился на завод, учеником слесаря. Володя школу закончил на хорошо и отлично, родители собрали денег и отправили его в Москву поступать в институт, но Володя в институт не поступал, вместо экзамена поехал на стадион «Динамо» смотреть футбольный матч.
Его забрали в армию, в подводный флот. Володя служил отлично, стал мичманом.
Брат был человеком особенным, а Дима — обыкновенным. Но в братнином пиджаке Дима тоже становился немножко особенным. Приобретал какое-то значение.
Он надел часы. Времени впереди было полно. Дима не знал, куда его девать. Поиграл со щенком. Понаблюдал, как мальчишки носятся по пустырю. Встретил учителя физики по прозвищу Ом.
— Как дела? — строго спросил Ом.
— Работаю.
— На Стрелочном?
— На Стрелочном.
— Нравится?
— Да. Ничего. Нормально. А вы как? — счел нужным спросить Дима.
— Я? Нормально. С женой на гипнотизера иду. Будет познавательно.
Дима не сказал: я тоже иду на гипнотизера. Предстоящее выступление уже не казалось ему столь желанным. Дима сказал: до свиданья. И отправился по улице.
Зашел на почту. Взял зачем-то телеграфный бланк, сел с ним за стол, взял перо, обмакнул в чернила. Написал печатными буквами:
КАК ДЕЛА?
И адрес написал:
НОВОСИБИРСК. УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ. Д. 16. ТАТЬЯНЕ ИВАНОВОЙ.
Дима не знал, есть ли в Новосибирске улица Красногвардейская. Если вдруг есть, то, наверное, стоит на ней дом шестнадцать. Такой, наверное, одноэтажный, как у всех на их рабочей окраине. И палисадник перед окнами. А на крыльце сидит, выставив голые коленки, эта воображаемая Таня Иванова и лузгает семечки.
Диме так понравилась воображаемая Таня, что он хмыкнул. И пошел отправлять телеграмму. И отправил. Вместо обратного адреса указал:
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.
На всякий случай.
После почты он дошел до конечной остановки у клуба Ленина (стояла длиннющая очередь в кассу, хотя говорили, что билетов уже нет), дождался автобуса и поехал через весь город на Фанерный и обратно. Успел к началу выступления.
Дима пробрался в зал, когда уже стали гасить свет. Очень уж не хотел попасться на глаза Ому с его женой; она походила на цыганку, и глаз у нее был нехороший, как люди считали. Дима занял свое козырное место — в седьмом ряду у прохода. Прожектор освещал пустую сцену. Зал дышал, покашливал, переговаривался, а когда в круг света вступил человек в черном, смолк.
Гипнотизер был небольшого роста, лобастый, лысый, смотрел с прищуром, и походил на В. И. Ленина из фильмов М. И. Ромма. Получалось, что некоторое отражение Ленина вышло на сцену клуба своего имени.
Гипнотизер сказал, что гипноз — это наука и что цель выступления — демонстрация возможностей человека. Разъяснил, как все это устроено, и принялся за дело. Вызывал на сцену желающих, вводил в транс, заставлял воображать себя в лодке (а не на стуле, который вынес на сцену администратор) и грести воображаемыми веслами. Или еще какую-нибудь чепуху: поднимать тяжеленую гирю (а это всего лишь палка) или танцевать и петь. Не так уж интересно.
Вдруг гипнотизер воскликнул:
— Товарищ в седьмом ряду, вы меня слышите?
Сосед толкнул Диму в плечо.
— Я? — удивился Дима.
— Так точно. Вам не нравится представление?
Дима поднялся. Он был как школьник, которого вызвал отвечать учитель.
— Да нет.
— Значит, нравится?
— Нормально.
— Нормально — это ненормально.
В зале посмеивались, хотя на взгляд Димы ничего смешного они не говорили.
— Вы не воспринимаете меня всерьез.
— Воспринимаю.
— Не лгите. Я все ваши мысли читаю. От меня у вас тайн нет. Хотите, скажу, что вас отвлекает от представления?
— Ну. Да.
— Отлично. Вы слышали? Он согласен. Слышали?
— Да, да, да, — соглашался зал.
— Ну, тогда откроем его маленький секрет. Дима (так вас зовут, я не ошибаюсь?), Дима думает о некой Тане, которая живет в Новосибирске на Красногвардейской улице и уже наверняка получила телеграмму от нашего Димы следующего содержания: КАК ДЕЛА?
— Как сажа бела! — тут же выкрикнул кто-то из зала.
И кто-то смеялся, а кто-то спрашивал:
— Правда, правда, Димыч?
— Правда, — очень тихо ответил Дима.
— Что?! — крикнул гипнотизер. — Не слышу. Тишина в зале!
— Правда, — сказал Дима. Негромко, но очень слышно в наступившей тишине.
Сказал и сел, и опустил голову, а когда гипнотизер вызвал на сцену Мишку Романова и стал его расспрашивать насчет грибов, которые Мишка любил собирать и только этим бы и занимался, будь его воля, Дима встал и пригибаясь направился к выходу.
На улице горели фонари, крапал неслышный дождь. Дима достал папиросу и закурил.
На другой день все спрашивали Диму насчет Тани из Новосибирска. Дима говорил, что не их собачье дело. Матери так не скажешь (она тоже спросила, вечером, за ужином).
— Знакомая, — отвечал Дима.
— И где вы познакомились?
— В поезде. Когда классом в Москву ездили.
— Сколько ей лет?
— Шестнадцать.
— Учится, работает?
— Учится. Она отличница. Она приезжает завтра. (Зачем ляпнул, с какой такой дури?)
— Куда приезжает?
— Сюда приезжает. К нам.
— Ты что? Ты только сейчас говоришь? А учеба? Как ее из школы отпустили?
— Договорились. У ее отца командировка, он в Москву едет, на обратном пути заберет ее.
— А поезд какой? Во сколько поезд?
— Завтра вечером. Скорый. Новосибирский. В 20.30. Шестой вагон. Я пойду встречать. Один.
На работе все уже прослышали, что он пойдет вечером встречать Таню из Новосибирска. Некоторые нездоровые личности высказали намерение тоже идти встречать Таню, за что Дима обещал непременно начистить им рыло.
Дима подступил к поезду. К шестому вагону. Пассажиры выходили размяться, покурить, подышать воздухом. Поезд стоял долго, пятнадцать минут, менялись поездные бригады. Дима приблизился к пожилому мужчине, поздоровался.
— Вы из Новосибирска? — поинтересовался Дима.
— Из Свердловска.
— Хороший город?
— Ничего. Большой.
— Я, может быть, приеду туда к вам работать. Я на слесаря учусь. А вы где работаете?
— Я на пенсии. Сварщиком работал.
— У вас, наверное, хорошая пенсия.
Объявили посадку. Дима пожал мужчине руку и пожелал счастливого пути. Он дождался, когда поезд тронулся, помахал ладонью и вернулся домой. Мать ждала (надела праздничное темно-синее платье с белым кружевным воротником), отец работал в ночную смену. Пироги лежали на столе в большом блюде, пахло томленой в печи свининой.
— Уехала, — сказал Дима, — дальше, с отцом, в Москву, не стала выходить, отец у нее нормальный мужик, сварщик.
— Не огорчайся, сынок.
— Да я нормально.
— Есть будешь?
— Да.
Елена Долгопят https://nm1925.ru/articles/2024/10-2024/slova/
____________________________________________________
166820
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 09.11.2024, 20:07 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 11.11.2024, 14:44 | Сообщение # 2871 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Я жил спокойно, никуда не торопился,
От жизни в двадцать пять уже скучал,
Мне повезло – богатым я родился,
Мне денег дефицит не докучал ..
Моей иконой доллар был зелёный,
И храму клуб ночной предпочитал,
И был я в десять девушек влюбленный,
И с каждой я по очереди спал ...
По миру мне наскучило кататься,
Вершины гор и моря глубина -
Ничто не заставляло удивляться,
Пока домой к нам не пришла война...
И снова я смотрел на всё, скучая.
Какое дело до проблем страны?
Когда однажды просто так, случайно,
Я полной глоткой не хлебнул войны!
В компании мы в клубе затусили,
И девушки хорошие собой,
Меня вдруг неожиданно спросили:
- А было бы слабО сходить мне в бой?
И смех друзей обкуренных и пьяных,
Вдруг душу мою в клочья разорвал!
И что-то родило́сь в осколках рваных...
- Мне не слабО! – я твёрдо им сказал!
И то то, мой папаша удивился,
Когда он поздним вечером узнал,
Что я домой с повесткою явился
И свой «Харлей» задёшево загнал...
Ни слёзы мамы и не ругань предка,
Никто порыв не смог остановить.
Как доброволец я попал в учебку,
Ну, а потом туда – на фронт! Служить!
И Боже мой! Хватал я впечатленья,
Как будто бы голодный! Всё подряд!
И понял я с немалым удивленьем,
Что жил всю жизнь среди не тех ребят!
Никто машиной здесь своей не хвастал,
Количеством заброшенных подруг.
А высшей фразой было, без бахвальства:
Прикроешь, если что, мне спину, ДРУГ?
И словно шелуха с меня слезала,
И словно пелена сползала с глаз!
Мне почему-то очень жутко стало,
Что жизнь свою я тратил на показ...
Мой первый бой... И страшно мне до дрожи!
Губой дрожащей Богу стал молиться:
Прошу тебя! Будь милосердным, Боже!
Не дай мне перед НИМИ осрамиться!
Не помню сам, как бросился в атаку,
Меня вперёд погнал животный страх!
Орал я, что-то, прибавляя шагу!
Я не хотел быть трусом в ИХ глазах!
А после боя долго мы курили,
Делили сигарету на троих...
И фляжку спирта медленно распили ,
И я теперь был свой среди СВОИХ!
***
Тебе не понять, мой западный «друг»,
Колеса истории сделали круг !
И помнят колеса тепло
Их вращающих рук!
И русских отметок там тоже не счесть,
Загладили трещины, те, что там есть,
Плевать на мозоли !
Дороже нам совесть и честь!
И так повелось на Руси испокон,
К врагу не идём никогда на поклон,
Дороже свобода
И свет православных икон!
И в поле не воин один – не про нас!
Не спросим – их сколько? А, где, лишь, сейчас?
И как Святослав скажем просто:
- Идём мы на Вас!
Привычно с винтовкой, одной на троих,
Врываться в окопы , арийские их
И хриплым «Ура»
Замораживать души Чужих!
А после Великой и страшной войны,
Сменили винтовки на мОлоты мы,
Ковали мы снова
Величие нашей страны!
Вам скудным умишком никак не понять,
Что можем других мы, как брата принять
И наций единства у нас
Вам никак не отнять!
Кольцом своих баз нас хотят задушить,
И тысячи санкций на нас наложить!
Но, это напрасно!
Мы будем сражаться и жить!
***
Человек шагал неторопливо,
В сторону, где солнечный закат
И в руке бутыль с водой, не с пивом!
Спину трёт привычно автомат.
Точно так, когда-то той тропою,
Шли неторопливо наши деды,
Шли, порою жертвуя собою,
Чтоб назад прийти домой с Победой!
Может быть на самом этом месте,
Дед остановился, закурил...
Правою рукой нащупал крестик,
Что тайком он у груди носил...
Молча Богу прошептал молитву,
Нет, не за себя, а за страну,
- Господи, мы не боимся битвы,
Только дай нам выиграть войну!
Смерти русский воин не боится,
На миру ему и смерть красна!
Лишь бы нашим сыновьям не биться,
Миром насладиться б им сполна!
Бросил дед окурок на дорогу,
Кинулся своих он догонять,
Шла неторопливо и не в ногу,
В сторону заката русских рать!
А теперь тропою этой самой,
Что ведёт на солнечный закат,
Внук его шагал вперёд упрямо,
Верный свой сжимая автомат!
- Ты, прости, что мы не доглядели
Вновь фашизму дали прорости,
Вновь мы каски прочные надели,
Вновь на запад надо нам идти!
Отбираем пяди мы и крохи,
Как однажды хрипло спел Поэт,
Чтоб всходило Солнце на востоке,
И дарило людям мирный свет!
Крест нательный бережно храню,
Что остался у меня от деда!
Так же, как и дед, порой молю:
- Господи! ДарУй стране Победу!
***
Разрыва гром давно нас не пугает,
Привыкли к грому, это ведь война!
Страшней когда в эфире возникает,
На месте позывного - тишина...
И понимаешь, что не докричаться!
Тангенты только холостой щелчок...
И в пустоту слова твои стучатся,
А вместо позывного лишь молчок...
И мысль одна, что если зацепило,
То, пусть бы только лишь не до конца!
И истово молитву, что есть силы -
Спасенья другу просишь у Творца!
- О, Боже! Я молю – прерви молчанье!
Я столько не успел ему сказать...
И гОлоса пусть хриплое звучанье,
Намек в эфире, что живой он – дать!
Дружище! Я прошу нажми тангенту!
Господь не выдаст, а свинья не съест...
Но, словно оборвали киноленту
И звуки замолчали все окрест!
И, тишина эфир весь заполняет,
Она страшней, чем пулемётов шквал!
Ты понимаешь – друг не отвечает,
Лишь потому, что Бог к себе позвал!
И стиснуть зубы до стального скрипа!
Мужчины не встречают горе плачем!
Лишь только с губ твоих сорвётся с хрипом:
- Я отомщу! Не может быть иначе!
***
Взрыв! Мой засыпан землёю окоп!
Мои ноги чужими вдруг стали...
На позиции наши , нацелив свой лоб,
Носорог прёт упрямый из стали!
В голове всё шумит и песок на зубах,
Может взрыв расшатал мои нервы?
Почему это чудище в тех же крестах,
Словно нынче июнь сорок первый...
И толпа , что за чудищем по пОлю прёт,
Что за свастика там на шевронах?
Хорошо – уцелел мой родной пулемет,
Только нет к нему больше патронов...
И мой номер второй, смерть на вздохе поймав,
Лёг на землю, как словно в перину,
И ручищи свои широко раскидав,
Чтоб прикрыла земля ему спину!
Метров сорок .. Патроны! Но мне не дойти,
Зацепило осколками ноги!
Пулемет на себя... Стиснув зубы, ползти...
Тяжелей не видал я дороги...
Я дополз! Я успел! Ну, держитесь, враги!
Только танк тот, почти что впритык!
Ничего! Дам пехоте – свинцовой пурги...
Но, откуда в окопе старик?
Гимнастёрка в ремень... И обут он... кирза?
Почему он бою с орденами...?
Почему так знакомы мне эти глаза?
И лицо так знакомо чертами...
Он подполз и похлопал меня по плечу,
Вижу связку он держит – гранаты!
И сказал: «Разберись с их пехотой, внучок!
Ну, а я разберусь с «Леопардом»!
- Дед?!!! Откуда??? – я в крик заорал,
Ты же там, под Берлином остался?
Он сказал: «Ты же память мою не предал,
Я на помощь прийти постарался!»
И не помню, как свой развернул пулемёт,
Рвали пули мои их одежки
Я лишь видел, как дед мой с гранатой ползет,
К той с крестом, бронированной «кошке»!
Я очнулся ... Звенит тишина...
От ствола пулемёта – шипенье...
Перегрелся, братишка? Ну, это война ...
Неужели пришло подкрепленье?
Мне кричат, что-то в ухо, но слов не пойму...
И снопами чужая пехота...
Танк подбитый... Всё поле в дыму...
Отчего так мне выпить охота ?
От подбитого танка, мне честь отдал дед...
И исчез, озарив поле светом ..
Я рукой помахал, прошептал ему вслед:
- Я клянусь! Мы вернёмся с Победой!
***
Он чем-то выделялся из толпы,
На фронт он записался добровольно.
Он словно нёс какой-то груз судьбы,
«Бухгалтер» – я назвал его невольно...
Он постоянно тщательно считал,
Дотошно узнавал про «боевые»,
Занудно к командирам приставал,
Переводил в расчеты всё скупые...
С улыбкой все смотрели на него,
Ну, что поделать, раз такая доля?
Ну, любит деньги! Что же из того?
А позывной он взял с чего-то – «Оля»!
И был в бою расчетлив он и смел,
Он не дрожал за собственную шкуру!
Но, явно, к дЕньгам интерес имел
И напросился он в расчёты ПТУРА!
Таскал с собой тяжёлый агрегат,
Как будто то хрустальный был фужер,
Не отвечая на смешки солдат,
Подбил на третий день он БТР!
Упорство – то, что нужно нам в бою,
И «Оля»-позывной зауважали!
И не шутил уже никто в строю,
И командиры руку ему жали!
А он, как будто впал в какой-то раж,
И БТР, два танка за неделю!
Поймал войны он яростный кураж
И премии к нему так и летели!
За «Леопард» сказали – миллион!
И «Оля» напросился на охоту.
Он потерял покой, еду и сон,
Как русский пахарь впрягся он в работу!
Как были удивлённы наши лица!
Да, как же смог такое наш «бухгалтер»?
Нарыл замаскированных позиций!
У «Оли» точно был стальной характер!
Он, явно, ничего не делал сдуру,
И явно деньги очень он любил,
И за три дня он «леопарда шкуру»,
Под наше изумление добыл!
Немного те победы омрачало -
К начальству он занудно приставал,
Чтоб премию зачли ему сначала
И стол он очень скупо накрывал....
Но, в душу к человеку мы не лезли,
Обычай у военных есть такой.
И чувства недоверия исчезли,
Ну, может от рождения скупой...
А утром его взводный прибегает
И голос, словно, час его душили...
В руках записку держит и рыдает:
- Там это,. «Олю»! «Олю» там убили!
И новость нашу роту всколыхнула,
Рванули на позицию к нему!
Что делать, если Смерть косой махнула,
Не оставляя шансов никому....
Но, нам воякам стало непонятно -
Как будто из окопа сам он встал ?
И к роще в полный рост? Невероятно!
Ведь всё про вражьих снайперов он знал!
И взводный, молча, мне листок измятый,
Я стал читать и захватило дух...
Мне словно уши заложило ватой
И прочитал записку громко, вслух...
- Простите, братцы, я не успеваю!
За честь мне было с вами воевать!
Теперь свою вам тайну открываю -
На дочку надо денег мне собрать!
Болезнь с рожденья иссушила тело,
От нас с ней отказалась даже мать...
Ну, что поделать, раз такое дело,
И мы вдвоём с ней стали выживать.
Нам бабушка немного помогала,
Когда я на работах пропадал,
То внучку Олю просто забирала,
Хоть возраст о себе уж знать давал.
И правильно, назвали вы – «бухгалтер»,
Я твердо путь свой жизни рассчитал!
Такой уж видно у меня характер,
Я смертью шанс на жизнь для Оли дал...
Ей на лечение надо очень срочно,
Ещё подбить уже не успевал!
А похоронных хватит теперь точно,
И потому под снайпера я встал!
Я, вас прошу, ребята дорогие!
Уж проследите, чтоб ушли грошИ!
Я там чуть-чуть оставил «боевые»,
То вам , ребята, на помин души...
Я первый раз такое, люди, видел...
Когда навзрыд взвод боевой рыдал!
- Господь мой! Чем я так тебя обидел?
Ты, ангела с моих рядов забрал...
***
Вот кажется - всё отшумело,
Окончен последний бой...
И ноют раны по телу,
Колдуют врачи над тобой...
Тихо здесь и спокойно,
Ну, что же тебе ещё надо?
Но, ты всё время невольно -
А как там мои ребята?
И кулаки сжимаешь,
И плачешь тихонько ночью!
Ну, что ж ты не оживаешь,
Пробитый в бою позвоночник?
Но, верю я - бой не окончен!
Рано ещё на покой!
Неважно, днём или ночью,
Но, знаю - вернусь я в строй!
Ведь люди в белых одеждах,
Вырвут из Смерти объятий!
Дарят врачи надежду:
Ещё поработаем, братья!
***
Он рослый был и нелюдим,
Был молчалив, когда едим,
Зато как пел, когда гитару в руки брал!
И был в бою незаменим,
Как видно, ангелом храним,
Ни снайпер пулей, ни осколок не попал!
И был у Лешки верный друг,
С которым всё делил на круг,
Дворняжку спас когда-то он из под завала!
Тушёнку на двоих делил,
Из фляги из своей поил,
И друга преданней, наверно, не бывало!
А тут тревога! Укр прёт!
Поставил Леха пулемёт,
Молитва душу пусть хранит, а броник тело!
Но, видно было много дел,
И ангел к Лешке не успел,
И мина прям в его окоп и прилетела!
Его засыпало слегка,
В кровище левая рука,
И почему-то, как чужие стали ноги!
А тут шумер в атаку прёт,
И рявкнул Лёшкин пулемет,
Не будет, хлопцы, вам сегодня перемоги!
Но, лег с пробитой головой,
В расчете номер их второй,
Лежит в окопе, заливает кровь шевроны!
А на позицию - «накат» !
Они идут за рядом ряд,
Есть пулемёт, граната есть, но нет патронов!
И понял Лешка – не уйти
И до патрон не доползти!
Гранату взял и затаился до момента!
И вдруг услышал он скулёж,
С окопа глянул, мать, же ёж!
Зубами тащит ящик пёс – патронов ленты!
Он упирается, скулит
И левый бок кровоточит!
Как видно пулей иль осколком зацепило!
Но до окопа он дополз,
Потом в него бессильно сполз,
Собачьих сил на это только и хватило.
И ожил Лёхи пулемёт!
Врага снопами он кладёт,
И дрогнул враг и переходит в отступленье!
А сзади грозное «Ура!»
И триколор из-за бугра,
- Спасибо, Господи, за наше подкрепленье!
Он молча портсигар открыл,
Рукой одною прикурил,
И подмигнул собаке: «Будем - жить, дождались!»
- А ты, лохматый, молодец!
Мне без тебя – точняк, конец!
Друг к другу лбами двое раненных прижались!
На плаце выстроен наш полк,
Знамён трехцветных плещет шёлк,
И от лампас рябит в глазах, так, видно, надо!
Приехал маршалл поздравлять,
Того, кто смог один стоять,
Кто два часа врага держал – тому награда!
И молча Алексей стоит,
А рядом верный пёс сидит,
Подходит маршалл, долго смотрит на дворняжку,
Потом спросил: « Так, это твой?
Тот самый номер твой «второй»?
Встал в стойку «Смирно» и поднес ладонь к фуражке!
***
Он в ячейке окопа лежал,
Знал, что помощь уже не придёт...
Беспилотник чужой лишь жужжал
Мины ближе всё клал миномёт....
Глянул он в бесконечную высь,
И рукою с кровавым перстОм,
Крикнув коптеру "Не промахнись '",
Осенил православным крестом...
Беспилотник,тот крик будто ждал,
Вниз граната с чекою, в стакане...
- Вот и всё! - наш солдат прошептал,
Пересохшими сразу губами...
Наблюдатели с той стороны,
Доложили: "Не видели взрыв!"
И бойцы желто-синей страны,
Убедиться пошли, на прорыв!
Окружили толпою бойца,
И услышали тихий ,вдруг, смех,
Из-за крОви не видно лица...
- Собрались? Угощу, значит всех!
Хрустнул, пойманный чудом стакан,
Улыбнулся боец в облака...
Крик врагов, словно вой обезьян...
И на землю упала чека....
***
Здесь умерло всё! И кусты, и трава, https://dzen.ru/a/ZkWoQhjmPH8oKneo
Пропитано всё нелюбовью...
Земля сожжена и надолго мертва,
Хоть щедро политая кровью!
УкрАинских брошены трупы солдат,
Погибших на этих высотах,
Бросали, когда убегали назад,
Трехсотых своих и двухсотых...
Безмолвны тела, им уже все равно,
Луна в небесах иль зарницы,
Глаза вороньё им склевало давно,
Лишь слёзы застыли в глазницах...
Твердили им в уши, мол, ваша земля!
Вам русские вовсе не братья!
Им с детства внушали: «Убей москаля
И Бог распахнёт вам объятья!»
И их президент вдруг у Бога узрел
Блакитные с жовтым шевроны!
Да только Господь принимать не хотел
Кровавых убийц батальоны...
И брошены были они на земле,
Что глупо считали своею.
За земли в чужом и тугом кошеле,
Давно уже грОши осели!
И нету покоя солдатской душе,
Пока труп земле не предали.
Но, бросили их на холодной меже,
Когда второпях убегали...
Их глаз уже нет, их клюёт вороньё,
Их губы – холодные льдины:
- Молю! Закопайте, вы, тело моё!
Что бросили здесь «побратимы»!
Здесь умерло всё: и трава, и кусты...
Остались лишь трупы солдат...
Над общей могилой не ставят кресты...
Их души спускаются в ад...
***
Моя душа стремилась в небеса,
Да, вот грехи, видать, не отпускали...
Я шел на свет, я слышал голоса,
Но, мне к ногам, как гири привязали!
И я лежу, тепло уходит в землю!
Я Господа молю - не забирай!
Но он мои молитвы не приемлет!
Закрыта для меня дорога в рай!
И где-то, как охотник за алмазом,
Выцеливает ворон в вышине...
И чую я своим незрячим глазом,
Как клюв его – по роговице мне!
Я запах ощущаю разложенья...
Как страшно без молитвы умирать!
Я непрощенным падаю в забвенье,
Я чую приближенье! Бесов рать!
Я не вернусь к черешням своим милым,
Я чую шаг одной костлявой леди!
О, Боже! Я молю одно – могилу!
Чтоб к ней могли прийти жена и дети!
А может быть, то за грехи расплата?
Мы честь и веру предавали с рвеньем,
Могилы нет укрАинским солдатам,
Мы для земли теперь лишь удобренье!
Никто по нашим душам не заплачет,
Мы оказались просто не нужны!
Им нужен был дурак, который скачет,
А павшие мы Нэньке не важнЫ!
И костенеет ледяное тело...
Солдат России! Закопай меня!
Я знаю, что плохого много сделал...
Но, всё же ... Я ж когда-то был родня...
***
Говорят: один - не воин в поле!
Нет, ребята, далеко не так!
Выпала танкистам нашим доля -
На колонну выскочил наш танк!
Время на раздумья было мало,
Бой идёт и всё вокруг в огне!
Отступать ребятам не пристало,
Хоть один, а восемь их в броне!
Командир, наводчик и механик,
Словно сговорившись меж собой,
Стиснув зубы и без всяких паник,
ПрИняли неравный этот бой!
Брэду Питу ярость и не снилась,
Трёх простых российских пацанов!
Словно сама Смерть в тот танк вселилась,
Бил врагов, как крысу крысолов!
Факелами - два чужие танка!
Шесть разбитых в хлам бронемашин!
Словно легендарная тачанка,
Он врага в капусту покрошил!
Панику посеял в стае вражьей,
Танка, что - "Алёша ", экипаж!
В гордой своей ярости варяжьей,
И лихой поймав в бою кураж!
***
Где-то там в Болгарии далёкой,
Что красива так и хороша,
Памятник, вдруг, под горой высокой,
Вскинул вверх гранитный ППШ!!
Голос русский, тишину тревожа,
Произнёс, как древнее заклятье:
- Не перевелись ещё Алёши!
Правильно работаете, братья!
***
Мама! Ты прости, что не спросился,
Уходил без спросу на войну!
Где родился, там и пригодился!
Ты вбивала истину одну!
Я соврал про институт немного!
Я же был хороший тракторист!
Я с Россией разделю дорогу,
Я надеюсь - неплохой танкист!
Мама, никогда я не был слабым,
Никогда от драки не бежал!
Хоть я и искал дворОвой славы,
Слабых никогда не обижал!
Мама, ты прости, мы были в ссоре,
Не хотела ты её принять...
Обещаю – мы приедем вскоре,
Сможешь, мама, внука, ты обнять!
Похоронку мама теребила,
И письмо читала сколько раз...
Время повернуть назад не в силах,
А слеза сжигала маме глаз...
А душа у Господа просила -
Почему же ты не досмотрел?
Тот, кого мучительно родила,
Для кого он в танке том сгорел?
Снова ночь спустилась одиноко,
Тихо звякнул на дверИ звонок!
Дверь открыла, а там за порогом
Обгоревший, но живой сынок!
Ноги стали вдруг, как ледяные,
У виска комар вдруг запищал...
- Мама! Всё напутали штабные!
Я вернулся, как и обещал!
И в ушах, как будто бы раздАлось:
- Это испытанье, а не мУка!
За спиной девчонка показалась,
На руках она держала внука...
***
Они пришли с утра к воротам храма,
Был чуть растерян их солдатский взгляд:
- Прости, отец! Мы спросим тебя прямо,
Возможно ль без имён отпеть ребят?
Мы не успели их в бою узнать ...
Но, стали эти пятеро – родные!
Пусть примет Бог в свою святую рать,
Но, знаем мы лишь только позывные...
И старший их записку протянул,
Священник старый к ним сошел с амвона
И молча ту записку развернул,
Сказал: «Я не нарушу здесь канона!»
В истории есть множество святых,
Чьи имена забыты родовые,
Но прозвища в веках мы помним их,
Что есть по сути те же позывные!
Я совершу, конечно же, обряд!
Такие вновь настали времена!
Кто против бесов становились в ряд,
Господь наш знает все их имена!
Под тихий перезвон колоколов,
Под искреннюю батюшки молитву,
Шли в небо, не жалевшие голов,
Вступившие с врагом России в битву...
Дорога их лежала в небеса
И шли по ней уверенно, без страха!
Девчонка-фельдшер, позывной Оса,
Испанец, Кум, Железный Гусь и Птаха!
И сам апостол Петр их встречал,
И шире распахнул он в рай ворота
И выпрямился, будто честь отдал!
Входила в Рай российская пехота ...
Михаил Дьяконов, Vирши Старика Похабыча https://dzen.ru/id/5de2114043fdc000b2bf8c58
__________________________________________________________________________
166985
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 11.11.2024, 14:45 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 15.11.2024, 17:21 | Сообщение # 2872 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Тихо плачут гирлянды над Невским
Угасают огни Тверской.
Год не самый злой
не сорок первый,
не тридцать седьмой;
четырнадцатый.
Тех же щей да пожиже влей.
Новогодие наступле...
Сколько было таких ура
на обоих брегах Днепра;
сколько русских лежит костей
одинаковых - чей-ничей;
ни прически, ни в чье одет
не понятно сквозь столько лет.
раскопает ученый: вот
тип - славянский, а лет - пятьсот
за кого воевал - спроси
то не ведомо на Руси
пуля-дура сидит в виске
кес ке се?
***
Тот город сумрачный и гордый
и черенки воздеты из газонов
как пальцы мертвых роз.
Устремлены воззваньем и проклятьем
к сырому небу,
где все будут братья
небратья - тож.
Небратья - что ж
Когда меня спросили
сколь много здесь грустят об Украине
о солнечной и налитой мякине
вишневой вышитой кипенной золотой
я б солгала, если бы сказала что никто.
Той Украины нет;
небратия сынов
в овраге доедает дохлый труп.
распертый газами, подрагивает круп
и движется нога, инерционно
копытом чертит подлый знак
сегодня - так.
А розы не мертвы, всего лишь спят
как город - дремлет в долгом карауле -
среди войны застигнутый солдат.
И шпиль собора задран в полнолунье.
***
...Короткая стрижка заходит в тему -
что под шапкой, что в шлеме
впрочем, у меня никогда не было лабутенов.
А в избе ижорской,
который год
болтается на тремпелях
весь мой гламурный дресс-код.
Здесь -
убитая хата, пыльная взвесь
через день приходится подметать
я пишу тебе, находясь,
что я счастлива снова поверить людям
только вот на позиции не попасть
командир морозится, но дожму его и тогда обсудим
как подобраться поближе к смерти.
и не то чтобы я желаю ее,
не то что я к ней стремлюсь
я здесь живу так как будто до этого не жила
боюсь?.. нет, наверное, не боюсь.
сегодня ночую в поселке где крест-накрест
звенящего на морозе стекла
наклеена полоса
скотча,
а дальше взлетка легла.
разбитого аэропорта.
каждую ночь снится как осыпается на меня стекло
как штурмовик снижается, атакуя
наверное, можно смыться и в ночь другую, но
Мне в этой ночи сколь страшно
столько же и светло.
***
Морозный день. И трещины в стекле,
Как будто трещины в зиме оледенелой.
Ракета прилетает; на игле
Всё крутится старинный вальс замшелый,
Обросший мхами там, где мхи растут,
На севере покинутом и милом.
А здесь – огонь и сотворенье рук
Над зевом проницающим.
Могилы?
О нет, утроба этих жутких ран,
И животов разверстых, и постелей
Нам говорит: рождается титан.
Рождается народ – как он умеет.
***
Военфельдшеру Игле
Грязная одежда, чистое бельё –
Вот и всё, что скажут в оправдание моё,
Коль в «буханке» фельдшерской будут разрезать.
На комке, шевроном – Богомать.
Фельдшерица кинет перевязочный пакет
Стороной кровавой – в белый свет.
Рассечёт штанины и чистое бельё,
Ну а дальше – всё, что есть, моё.
Распростёрт носилками, закреплён ремнём.
Лик печальный девичий – не о том.
Было бы неловко мне перед ним лежать.
Глядь – ко мне склоняется
Богомать.
***
Мои друзья идут по жизни маршем,
а остановки там – после ранений,
В больничный корпус поднимаясь
И не зная,
Кого увидишь,
и невольно замираешь
перед палатой,
что там, жизнь или сраженье
со смертью?
Как изуродован? Идёт или лежит?
Узнает или просто прокричит;
а если ходит – то пойдём закурим
на чёрной лестнице
и обо всём поговорим.
Где угол зла, как ты его берёшь,
Кого ты любишь из осьмнадцатого века
И кто в разведку в крайний раз уйдёт,
Не ожидая подкрепленья и ночлега.
Здесь жизнь и смерть в окровленных бинтах
И здесь – любовь: а застегни живот мне;
Живот зашит, застёгиваешь куртку
И на ступенях вытянешь впотьмах –
одну, другую, ту ли сигарету
пока сестра торопится узнать, что не в порядке.
Но, открыв коробку,
Ей молча предлагаешь папиросу;
Она – сестра, а ты – наверно, тоже.
И мы сидим дымим, мы так похожи,
Донецка, Питера или Москвы –
Сестрицы всей России таковы.
А наши братья – белые, в бинтах,
Стоят напротив,
И никто из нас
Не скажет им присесть хоть на ступеньку.
Мы этим оскорбили бы бойца,
что жизнь нам отдавал, а не копейку.
– Я не могу тебя, как женщину, отправить –
туда, где нам пристало, не тебе…
– Я женщин не сужу из тех же правил,
что и товарищей… но то не значит, что
Я не люблю, не доверяю я тебе.
И как теперь?
Мы вместе в общей боли.
Как на иконе – венчанных страстей.
Таких мужей земля рожает, в воле –
Чтоб сёстры нежили,
А женщины несли от них детей.
***
Старый шахтёр, сосед, говорит: по ночам мне страшно.
Раньше с гранатой спал.
На случай, если зайдут эти.
Чтоб – и себя, и их.
Потом развинтил и выкинул –
когда поверил, что не зайдут.
Теперь, когда сильно лупят, он берёт в кровать кошку.
В доме пусто – жену вывез к детям, в Ростовскую.
Там пока безопасно.
Но завтра жена приедет.
Он говорит о ней: «Приедет любимая».
Его любимой – шестой десяток,
она полная, широкоскулая.
Она мордвинка.
Он местный.
Можно сказать, хохол.
Но гранату развинтил – когда «Россия напала».
Спрашивает: «Тебе не страшно?»
«Иногда», – признаюсь.
«Правильно. Только дурак не боится».
«Или человек без воображения», – думаю про себя.
У меня здесь стало худо с воображением.
Чего ни вообрази – жизнь переплюнет.
Сосед сворачивает в свою улицу.
В её конце – слышно – ложится снаряд.
«Мне туда», – говорит с тоскою.
«Мне хорошо. У меня есть кошка.
Ты заведи тоже. А лучше – выходи замуж».
Я смеюсь. Он машет рукой, улыбается,
на лице движется дублёная кожа.
Глаза подведены угольной пылью.
Столько лет прошло, и рудник разгрохали,
а до сих пор не смылась.
***
Расскажи, как цветёт виноград
На границе падения света,
Где отчаянных избранный ряд
Совершает свой подвиг бесследный.
Расскажи, как стояли полки,
Расскажи, как они умирали,
Как в столице гуляли и жгли
Жизнь и деньги в последние мая.
О, мне многое вам рассказать
Неизбежно когда-то придётся
Тем, кто выбрал – не жить, подождать,
Перекидываясь и – на отлёте
Задевая горячий простор,
Задевая кровавую рану
Пустотелой, пустой, холостой,
Холощёной – и нет больше срама,
Чем примазаться к тем, кто упал, –
Никогда не вкусив чернозёма,
Что скрипит и горчит на губах,
Как письмо из остывшего дома.
Расскажи, как цветёт виноград,
Как в саду обещает закланье
Той лозы, от которой солдат
Принимает причастие ранним
Утром боя и утром смертей,
Что ложатся в ту жирную землю…
Новостей, новостей, новостей –
Лучше новости нету, что жив он.
***
Ночь сквозь ветер смотрит на цвет земли;
Абрикосы вспыхнули и сошли;
Вишни словно ангелы на ветру –
сыплют перьями.
«Я не умру», –
Шепчет в красном платке вдова.
Под обстрелом бывала – не раз, не два,
Живый в помощи – и хранит
Он, пока разряд грозовой бежит.
Двор церковный тих, даже ветер стих,
И поют полуночный первый стих.
Ручка торопливо скребёт листы:
Пять имён, и десять,
А там и ты.
Вот все имена унесли в алтарь
Постучался в небо молодой звонарь.
Ручейком огня – люди,
А меня?
Не забудь меня в новом свете дня.
Помолитесь, отче,
За тех, кто смел
Встать в защиту и – посмотреть в прицел.
Кто взял грех, чтоб мы – избегли его.
Помяните всех, словно одного.
А ещё скажите за тех словцо,
Кто врагу и другу открыл лицо.
Кто годами жив – как живая мишень.
Помощь Вышнего им – это новый день.
Помяните, отче,
Моих друзей,
От кого неделями нет вестей.
Может, словом вашим храните их.
А за мёртвых тоже – как за живых.
Красный плат. Красивая.
Как сестра за брата –
умоляет вдова за всякого солдата.
Он вернётся – не зная, кем
вырван из-под смерти, когда обстрел.
Алых риз погаснет узор златой,
Белые цветы опадут во прах.
…кто же, батюшка, молится за Того,
Кто в атаке жаркой прикрыл его?
Чьим оружьем стала – любовь, не страх,
У Кого жизнь наша – птенцом в руках?
***
Филиппову
На малой этой на земле
Всё больше у меня соседей
С земли большой.
О ком-то знаю только имя
И позывной.
В иных краях и не бывала,
И города
Большой России знаю только
По их следам:
Вот Тула, Кострома, Калуга,
Новосибирск.
Вот Мурманск и Улан-Удэ.
Казань и Бийск.
Но вышло так, со мною рядом
Среди дончан
Стоит наш полк, наш Ленинградский –
И ополчан
Его знакомы позывные,
Как на сетчатке
Родных кварталов стройный план;
Как отпечаток
Небесной линии Петра:
Вот крепость,
За ней – Васильевский,
а там – учёный север:
Военный Мед и Политех.
А дальше, к югу –
узоры Царского Села,
И там, по кругу –
Ораниенбаум, Петергоф,
Златая Стрельна,
И будто слышен звон подков,
И всадник – стрельнет,
Слегка склонившись из седла,
Как на манеже.
Империя, восстав из зла,
Не будет прежней;
Но будет то, что сохранит
Её от мрака:
Какой-то парень, что ушёл,
Обняв собаку,
Жену целуя и детей
В залог надежды,
Что та империя, за ним –
Не будет прежней.
***
Давнее и древнее
Купальской ночью - дрожь воды и тишь
Летучей мыши писк и рокот чаек
Не нарушает, только придаёт
Ей колебаний в ритме блеска вод.
Здесь над рекою плыли в ночь костры
И страстью плавились языческие очи.
Девицы окунали в мёд реки
Свои венки; любовь была короче
И яростней саксонского меча;
И искры разлетались, стрекоча
Над огненными капищами отчей
Земли; и духи пращуров из нави
Тянулись сквозняком над берегами.
Теперь в воде дрожит не пламя, крест
Простерт хозяйкой древних этих мест
Что тоже отдавала в дань огню
Предерзких, набивавшихся в родню,
За разом раз оказывая честь
Последнюю, рифмуя власть и месть.
Давно погас огонь волшебной ночи,
Остыли угли Ольгиных обид.
Лишь дождь слезами щеки пощекочет
Как будто облак плат мироточит.
Да звон печальный в Рождество Предтечи
Уронит в реку храм тысячелетний.
***
На юге распахиваются ворота запахов.
Когда-то впервые приехав в Донбасс в марте месяце, почувствовала острый запах весны, пробуждения земли - после ледяного Питера, где месяц этот по праву считается зимним. С этим духом и настроением Донбасс у меня и связался. С духом ранней - может, даже преждевременной - весны.
А вот магазины в Донецке и других городах пахли тогда вкусной местной колбасой - и залежавшийся картошкой. В условиях экономической блокады со стороны Украины и пиратских поставок из России и Белоруссии регион жил в основном "на своем". Как-то нам нужно было купить фруктов в детский дом - и я долго выискивала на прилавках супермаркета яблоки и апельсины поприличнее, среди подвявших. "Свои-то уже закончились, а импортные - пока доедут, и какими путями..." - извинялась продавщица.
В горячем 2022м, да и в 2023м - как-то не обращалось внимание на ассортимент местных лавок. Но вот в феврале 2024 взяли Авдеевку, фронт отодвинулся и по Донецку стало можно даже гулять, не прислушиваясь к звукам "входящих" и "исходящих".
В наступивший внезапно, после длительного тепла, холод начала ноября, зашла в овощной - и обалдела от запахов. Перед лавкой были сложены мешки крупного картофеля с ядреным молодым ароматом; внутри в ящиках красовались литые редьки и свекла - или "буряк", как называют ее здесь. Лоснились тугими листьями кочаны капусты.
Лежала янтарная крымская айва и зелёная россыпь йодистых фейхоа из предгорьев Кавказа.
"А действительно... - подумалось, - коридор сухопутный ведь отвоевали - и весь русский юг теперь в едином поле, торгует и обменивается".
В ловких пальцах продавщицы перекатывались с мягкой ещё скорлупой грецкие орехи нового урожая - это уже местный продукт, нигде нет такого изобилия орехов, как в Донбассе, особенно в его приазовской, греческой части. И десертный виноград - тоже местный: синий, розовый, зелёный и белый, превосходящий даже крымский.
Но окончательно покорили поздние грунтовые помидоры: огромные, жёлтые, немного корявые - живые. Подошла к ним тоже на запах, напомнивший что-то из советского детства. Во взрослом возрасте привозные помидоры уже не пахли так; тяжело, пикантно, даже как-то неприлично... Остановилась, взяла в руки помидор-гигант, прислушиваясь.
Точно.
Настоящий, живой помидор - пах нагретой солнцем землей и солдатской портянкой.
***
С Донецком в сердце
Вечер субботы. К остановке подходит поздний троллейбус; поздний в этом городе - семичасовой. С лязгом складывает двери, впускает одинокого пассажира. Крепкий кривоногий парень в трениках, жилетке, флисовой шапке, с тактической сумкой через плечо. Военный в увале. Возможно, даже офицер. Парень смотрит на меня беглым взглядом: чего забыла эта женщина на скамейке, в такой час, в такой же одежде, как и у него, плюс очки в пол-лица?
На окне троллейбуса картонка: ДОК. Это остановка за полдороги до моего дома. Я остаюсь ждать маршрутки - хоть и нету уверенности, что она пойдёт.
Троллейбус шипит - будто вздыхает, и уезжает, дребезжа железным телом. Борта его давно проржавели. За рулём - старик или женщина. И одежда на них такая же, как у парня и у меня. Прифронтовой дресс-код.
Донецк уже выдохнул после бесконечных обстрелов, в городе тихо уже несколько месяцев, но выглядит он всё ещё как старый боксёр после тяжелейшего спарринга: пот, синяки, сбитые костяшки, кровь и крошево зубов под капой. Его шатает.
На улицах - выгрызенная ракетными ударами плитка и асфальт. Дома в оспинах осколков. Сгоревшие магазины и заводские корпуса. Стихийные свалки мусора. Пожухлые венки на местах массовых убийств: как на Университетской, напротив больницы, где зимой 2023 от попадания ракеты сгорел автобус с пассажирами.
Осенний вечер тих, витает лёгкий туман. Мимо проносятся автомобили - дешёвые рабочие лошадки жителей, военные джипы в плащах масксетей и сверкающие тачки премиум класса. В Донбасс пришли федеральные деньги - и вместе с ними люди, готовые их заработать или попросту украсть.
Я курю в туман и вспоминаю местных друзей. Многие воюют. Некоторые уже погибли. Другие вознеслись или шустрят - и тем для разговора с ними почти не осталось.
Разные у нас стали темы.
И, всё же, я представляю, каким будет этот город лет через десять.
Как обновятся дома, засияют освещением дороги. Как осенние туманы станут пахнуть свежемолотым кофе, отдушками из сверкающих магазинов, чистотой улиц и довольством горожан.
Как военный из позднего троллейбуса наденет кашемировое пальто, а пожилой водитель - или водительница - тёплую кофту, и в такой промозглый осенний вечер станет сидеть дома и дуть на чай.
Как все оставшиеся в живых - будут живы, хоть уже и не слишком молоды.
И только беглый взгляд в призрачные клубы осеннего тумана напомнит нам этот город военных лет.
Мы встрепенемся на мгновение, от укола в сердце - но сердце вскоре успокоится осознанием, что всё пережитое, все жертвы и лишения - были не напрасны.
... За углом помигивают фары бусика - и к остановке подваливает моя последняя маршрутка. "С Донецком в сердце" - написано на ее веселом, пусть и обшарпанном носу.
***
Военным поэтам
Стремительный, как стилет
Умный, как Лейбниц,
Лучший ученик в классе -
В войну кидается, как в волну
И десять лет упирается на Донбассе.
Ленинградский мальчик -
порядочный, как верительное письмо,
Словно невский гранит, надёжный -
Идёт на войну, разорвав государевой брони клеймо,
Все защиты сбросив.
А с ними - и ты, хулиган из Инты.
Парень рабочий, чуткий русскому слову.
Уже отсидел за правду - но правоты
Твоей, не отменяет правда и правила -
Первого и второго.
Так вы и будете - идти рядом
Разные и неправильные такие.
Встречались в госпиталях - и на параде Победы
Встретитесь.
Где медали позванивают, словно осколки -
Готовые душу из тела вынуть.
Словно осколки памяти павших, ветра степные волки
Словно товарищей -
улетевшие в рацию безответные позывные.
Наталия Курчатова https://vk.com/nata_kurchatova
__________________________________________
167178
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 15.11.2024, 17:22 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 22:26 | Сообщение # 2873 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Перечитаем всю литературу,
Забудем - чтобы снова повторить.
В читальном зале нужно быть культурным,
Но разве можно запретить любить?
О нет, нам не до кратких содержаний,
Нет, не читаем бегло между строк.
От лишних глаз бессовестно сбежали,
Касаньем фраз сплетая диалог.
Да, жизнь - лишь предсказуемая книга,
В библиотеке взятая взаймы.
Пролистываем вновь, стараясь вникнуть,
Но авторы сюжета - это мы.
***
Дневник Тани
Ангелов путь недолог,
прибывших вечен век.
Пепел, мороз и голод -
лишь хлебом жив человек.
Стопы дубеют сталью,
горло жжёт на ветру.
Снег на руках не тает -
он тает только во рту.
Тайно, стараясь, Таня
пишет свой алфавит:
«"Д" - дядя Лёша, в мае.
"М" - мама тоже... спит.»
В братских ботинках стёртых
тихо скрипит земля.
В справочной книжке мёртвых
нет места... Осталась «Я».
***
Мы с любопытством детским наблюдали -
Посылки разбирает командир.
Игрушки выдавая как медали,
Меня, позвав последним, наградил:
Распределив запас "небесной манны",
Коробку незамеченную вскрыл.
Среди гостинцев прибыл Безымянный -
Нежданно он единственный там был.
Вручную связан чьей-то нежной мамой,
И, значит, чьей-то бережной женой.
Возможно, так же тот в окопной яме
Благодарит игрушку, что живой.
Здесь всё как раз по-взрослому, нормально
Беречь брелочек, связанный с семьёй -
Поэтому мне так принципиально
Ни петельки не распустить вознёй.
Справляемся пока что без потери,
Штурмуем, устояв на рубеже.
Так хочется всегда в кого-то верить,
Когда совсем не верится уже.
Уверенно я верю в Чебурашку,
В его добро иконописных глаз.
С товарищем мне в бой идти не страшно,
Мне страшно подвести его сейчас.
В подсумке прячу апельсин гранаты,
Загнав врагов в засаду, покормлю.
Взяв на себя фашистов, если надо,
"Последний полдник" с ними разделю.
С братишками душою нараспашку
Устраиваем "праздничный салют"
За Ангелов, за Мир, за Чебурашку,
За тех, кого сильнее всех люблю.
***
Как хирург, оперируя тёплое тело,
Контролировать пульс, забывая страх.
Совершая своё повседневное дело,
Взяв ответственность, чувствовать жизнь в руках.
Удалить, не позволив пустить метастазы,
Продолжающий рост роковой очаг –
Принимая решение действовать сразу,
Вычисляя заранее каждый шаг.
Как скрипач, обладая заточенным слухом,
Атакует штрихами, ведя смычок,
Приподняв автомат, стать всеведущим духом,
Целясь в ноты, вжимать спусковой крючок.
В совершенстве работы достигнуть маэстро,
Пробивая незримо насквозь сердца.
Выдвигаясь вперёд, быть созвучным оркестру,
Исполняя симфонию до конца.
Ощущая тепло отпечатков ладошек,
Аккуратно державших скользящий лист,
Посмотреть будто дома в родное окошко.
Так глядит через тримплекс на свет танкист.
Треугольный конверт скрыв под бронежилетом,
Подготовив себя, отправляться в бой,
Сохраняя письмо неотложным билетом:
«Возвращайся, пожалуйста. Мы с тобой!».
Отыграть в свой черёд пулемётное соло,
Монологом моление вознеся,
Уловив непосредственный ангельский голос:
«У тебя всё получится! Верь в себя!».
Удержать на плечах равновесие мира
Ради радости вишенок детских глаз.
Вновь вставать, вспоминая слова командира:
«Шагом марш! Не вальсируем! Раз-два, раз...»
Находясь на войне, подбирая ответы,
Ничего невозможно пообещать...
Ничего, кроме нашей Великой Победы.
Есть профессия – Родину защищать.
***
Монолог Гиви. Памяти Михаила Толстых
Мы с Арсеном не звёзды, не скрою -
Мы обычные люди - как все.
"Сомалийцы", "спартанцы" - герои,
Я вернулся к своим насовсем.
В тишине - без пальбы - непривычно.
Встретил рыжего - думал чёрт.
Повторил поздравление лично,
Он ругался как пулемёт.
Что теперь? Отдыхаем на море -
На нашем - Донецком - тут.
Не носите цветы Мотороле -
Скоро в бороду прорастут.
Глазомер, дисциплина, натиск.
Я не мамочка - я комбат.
Вас потом не погладит нацик -
На войне автомат тебе брат.
Посоветуюсь, хоть и упрямый.
Что неблизко? "Полёт шмеля",
Уважаю Хачатуряна,
Просто живность не для меня.
Откровенно скажу - накрыло:
Да, я плакал, всего лишь раз -
В день, когда перебитые крылья
Свободно расправил Донбасс.
Отвечаю за собственный выбор:
Наши люди - моя семья.
Возвращаемся, скинув нимбы,
Чтобы вновь расцвела земля.
Дни без боя казались снами,
Но, поверьте моим словам -
Мы за правду. Победа за нами.
Будет мир. Обещаю вам.
Грэм! Дружище! Скучаю страшно!
Спасибо тебе, помог.
Наш - отчаянный, не продажный -
Будь таким же, братан, дай Бог.
Да, мамуличка, я сейчас рядом.
Марише скажи: "Люблю".
Чёрный чай, сигареты не надо.
Просто-напросто - не курю.
***
Иван доброволец
Лик сокрыт под балаклавой добра-молодца,
Лишь открыты светлы очи добровольца-бойца.
Доводить так до победного - ни пяди вспять.
Наготове автомат калибра пять сорок пять.
Уезжал в другую жизнь, уезжал за ленточку.
Обещался долго жить будущей невесточке.
Спальник, воду и БК взял с собой в дороженьку.
Тяжек груз - душа легка.
Берцы запорошены...
Устремлён аки орёл в небесах над львом златым,
Вырос в Белгороде воин, где салюты взрослые.
Грозен в ярости берсека, рвёт врага на клочьюшки,
В бой летит, забыв о боли, ох, под «Град» грохочущий.
Пацаны на массу давят, содрогаются,
Видно снова двести стали - дорогА цена.
Ваня вехи не смыкает в блиндаже надышанном,
Воду меряет глотками, надобно дожить ещё.
ОдеснУю вдоль стены вёсла да акулины,
Да - стреляют иногда. Как всегда.
Ах люли нэй.
Привыкают на войне к Мать-Земле под пулями.
Помнят то, ни сколько были, а когда не умерли.
На открытке «лепестки» семенами сорными.
Багровеет мурава - стольких затрёхсотило.
От прилётов и хлопков всё село колышется.
Дюжий вой ударных волн поздним эхом слышится.
Птички бусые следят - ищут одноглазые,-
С высоты сердца гранат да ВОГи сбрасывают.
Обещался долго жить молодой невесточке.
Ждёт-пождёт - от жениха, ой-ёй-ёй, ни весточки...
Собиралась Просковья по ягоды,
Оставляла житейские тяготы,
Надевала платье зефирное.
Нет, да глянет на небушко эфирное.
Выходила на полянку, на бархатную.
Урожая поле непаханное!
Сласть-малинку собирала Яхонтовую,
Выбирала самую сахарную,
Напеваючи песню карагОдную,
Обрывала и в корзиночку одну к одной.
Зрелок полное лукошко - рассыпается.
Столько ягод, сколько дней не высыпается.
Песнь не льётся уж елейная из алых уст -
Вспоминала, что мил друг ей сказал:
«Вернусь».
Встрепенулось сердечушко пташечкой,
Застучало ретивое в клеточке...
В боевой рубахе парень, в брючках карго штопанных,
За плечами тени крыльев штурмового опыта.
Не прихрамывать стараясь, молча подошёл, обнял...
- Я ждала тебя.
- Я знаю, - молвит полушёпотом.
Слёз не видел, не видал, верной жёнушки.
Длань погладив, угощает - бережёт его.
Сладку ягоду едАл, солонА одна.
Ой-ли О-ли,
ой-ли-О-ли,
солона одна.
***
Мы здесь волки - сбиваемся в стаи,
Обживая свои блиндажи.
Горячась, автоматы устали,
Последим - поднажмём - будем жить.
Фильм идёт по другому сюжету,
Роль комбата играет сам Бог.
Нацик думает он ищет жертву -
Я охочусь сейчас на него.
В этом Мире достаточно жести,
Порождающей импульс войны.
По дороге и триста, и двести,
С неизмЕренным грузом вины.
Выдвигаясь на штурм, штормом станем,
Защищаем своих всей семьёй.
Легендарными стенами встанем,
Если надо, то ляжем землёй.
Всё заштопают, всё зашивают,
Ну, подумаешь, чуть раскроил.
Брось, малАя, уже заживает.
Вот штаны жалко, чёрт, все в крови.
Лишь тебе, сняв оружие, сдамся.
Хочешь сердце бери, хочешь - в плен.
Жду, когда вновь смогу повидаться,
Взяв в кольцо, ниспадать до колен.
Закружу в завоёванном танце,
Ты ведь знаешь, что я ураган.
Слышим мысли на равных без раций.
Чую снайперски - так же легка.
Перемерив, наряд выбирая,
То - цветочное платье надень.
Просто будь, не меняйся, родная.
Будь всегда верой в завтрашний день.
***
Вера. Надежда. Любовь
Стихло полюшко многокласное,
Расцветало небо бело-сине-красное.
Неразлучные сёстры кровные,
К сарафанам выбрав ленты, косы сковывали.
Дочерь первую звали Верою,
Заплетала в длинну косу ленту белую.
Сердце юное, очи мудрые.
Солнце грело длани нежно-перламУтровые.
Исто ласточка пела сказочно.
Так горит на безымянном перстень красочный.
«Слепо верую, свято следую,
Помогу спасти душу светлую.
На Земле на всё воля Божия -
Знаю сбудется невозможное.
Если бьют рукой неумелою,
То прощу, ещё подставив щёку левую.»
Рядом с Верою пела Наденька,
В пальцах тонких чередуя, пряди гладила.
То ещё одна дочь Софиева,
В волосах волна атласная сапфировая
Тонкой змеечкой вслед за прядочкой,
Извиваясь, ниспадала вплоть до пяточки.
«Залила лазурь высь безбрежную,
Тишина небес безмятежная.
Нет ни облачка, ни бурунчика.
Ежли не было - значит лучше так.
Ветры вольные реют волнами
Долгожданное будет вовремя.»
Утончённая - вся точёная -
Дочка младшая, Любовью наречённая,
Непокорные кудри длинные
Усмиряла волей алою калиновою.
Отдала себя без остаточка -
Приумножила талант краса-касаточка.
«Пусть закончатся все пророчества,
Смолкнут знания, скалы сточатся,
Сжав ладонь твою дланью пламенной,
Излечу теплом сердцем праведным.
Босиком пройду путь рискованный,
Ибо паче естества любовь исконная.»
Стихло полюшко многокласное,
Расцветало небо бело-сине-красное.
Было радостно, было празднество,
В волосах мелькали всполохи контрастные.
Русь Единая откровенная,
Ты осталась на века благословенная.
***
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе,
Ибо я ещё дышу в незаколоченном окопе.
По намешанной земле переползаю полосу,
Снаряжаю магазин - мой гроб ещё растёт в лесу.
Слёз не лей по мне - Сыну Божией Воли.
Ощущаю в жилах жизнь - смерть несовместима с болью.
Глушит мысли шум прибоя, заштормил адреналин.
Сердце хочет разорваться как граната Ф-1.
Ведь восстану бо и прославлюся.
Ты учила: «никогда не останавливайся».
Подымаюсь с колен, нянча спящий автомат.
Продолжаю крестный ход - своё сошествие во Ад.
Вижу цель - второй щелчок - тень дрожит среди развалин.
Здесь на линии огня четыре ангела трубят.
Непрестанно, яко Бог, вознесу в ответ во славе
Всех с любовию и верой величающих Тебя.
***
Отче Наш, Иже еси на небесех!
Подошли к укрепрайону ближе всех.
Да святится имя истое Твоё,
Вызываю подкрепление! Приём!
да приидет снова Царствие Твоё,
Отбиваем пачку нациков втроём!
да свершится воля крепкая Твоя
Там наемники - картаво говорят!
яко над святой землёй и на земли.
Мы к опорнику вплотную подползли...
Господи, хлеб наш насущный даждь нам днесь
Продвигаемся. Ещё патроны есть.
и остави долги наша целиком,
якоже мы оставляем должником.
Уточнил координаты, дальше ждём -
"Бог войны" поддержит праведным огнём.
Не введи во искушение, прошу,
но избави от лукавого наш дух.
Враг орёт сдаваться, да пошёл он сам!
Стебанул - на вылет - прямо к небесам.
Душим их в траншее градом из гранат.
Гады, озверев, стреляют наугад.
"Урожай собрали", не переберёшь.
Цель. Снаряд. Орудие - огонь! Хорош!..
Вэсэушников, пока ещё живых,
Дружно бросивших трёхсотых как чужих,
Выбиваем штучно - чётко - не дыша.
Оставляем сдавшихся. Не нам решать.
Пленных - пятерых в обмен на пацана.
Слава силе Духа, Сына и Отца
ныне, присно и во все века. Аминь.
Всё, братишки, отработали по ним.
***
Вновь вам решать запутанные фразы
И путаться в красивых волосах,
Распущенных и обречённых сразу
Стать камнем преткновенья на губах.
Выходим в свет, одев каблук повыше,
Крадемся на носочках босиком -
Мы просто так стараемся быть ближе,
А вы боитесь быть под каблуком.
В изящных туфлях повреждаем ноги,
А вам нести строптивых на руках.
Сбиваем с мысли, ставя понемногу
Горячие печати на щеках.
Смущаетесь, когда не отрываясь
Исследуем ваш профиль и анфас
И душу отдаём, не раздеваясь.
За вас мы боремся и молимся за вас.
Простите нам случайную небрежность
И снова опоздания на час.
За смелость, уважение и нежность
Сердечно вас благодарим сейчас.
***
Расправив гордо женственные плечи,
Подшив слегка надорванный рукав,
Спешили девушки прибыть на место встречи,
Собравшись с мыслями и волосы собрав.
Лишь чудом уцелевшие солдаты
Держали их в ладонях как ружьё,
Забрав нерукотворную награду,
Припомнив фразу - «каждому своё».
От затаённых чувств горел румянец,
Когда друг с друга не сводили глаз.
Решал судьбу неповторимый танец
Заслуженного счастья - белый вальс.
***
Безоружно равняясь в строю,
Поправляя рукав каждый раз,
Маскируя тревогу свою,
Ждал – не я выбираю сейчас.
Ты меня уступила Войне,
Я шепчу: «это всё не всерьёз».
Голос мой утонул в тишине.
Понимала – не выдержу слёз.
Резкий взгляд пеленой затенён,
Нежеланной недолго кружить.
И жалею, и злюсь на неё,
Продолжая до срока служить.
Тает рук обжигающий лёд
На ладони моей и плече.
Направляю прицел, сжав цевьё,
Воздух дымный ещё горячей.
Взрывы рядом гремят невпопад,
Прерывая обратный отсчёт.
Ход событий меняет расклад.
Шаг вперёд. Поворот. Мой черёд...
Я веду, став ударной волной.
Танец Вечности перенесён.
Забываю Войну за спиной.
Ну, поплачь. Можно, милая, всё.
***
Сказать жизни «Да!», глядя в иссиня-чёрное небо,
Цепляясь душой за созвездие трепетных сфер.
Возделывать дар, не жалея насущного хлеба,
Услышав в безмолвии беспрекословное - «Верь».
Рыть рвы, рыть, когда поглощает засушье всецело,
Лишь крапины пота въедаются в кожу земли.
Жаре не поддавшись, притягивать время всем телом.
С трудом восстанавливать то, что уже обрекли.
Работать, всегда продолжая держать своё слово.
Нацелить себя испытания перестрадать.
Не зная, что дальше, не ставить пред Богом условий.
Стать импульсом жизни. Быть тем, кому есть что сказать.
Bogena Dia ( Божена Доду) - поэт, художник https://stihi.ru/avtor/meavesher
_______________________________________________________________
167245
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 17.11.2024, 22:27 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 19.11.2024, 17:23 | Сообщение # 2874 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| А неба теперь не видно.
Зима-повариха — близко,
склонилась над нами низко,
ладони кладёт поверх
волшебного белого теста,
бросает и кружит лихо, —
рука у зимы не дрогнет
и круто замесит всех.
Столешницу присыпает
таким необыкновенным,
колючим и драгоценным, —
увидеть и умереть.
И падает эта манна
путём своим неизменным
на нашу земную бедность,
на скучную нашу твердь.
А той поварихи локти
зовут из метельных складок,
мороженый воздух сладок,
но досыта не вдохнуть.
Я чую, как чудно пахнет
припудренный снегом фартук —
белёный, кухонно свежий,
как лес, задубевший чуть.
И через преграды эти
не видно нам, ослеплённым,
в декабрьский пир влюблённым,
не видно застывшим нам,
как в синее небо солнце
взлетает птенцом зелёным,
насвистывая рецепты
совсем другим поварам.
***
Мы брели меж деревьев,
растущих густыми рядами.
Направление — дом.
Мировая волшебная ось
Зацепилась за нас
и туманы прошила насквозь,
Расшатала колонны
в огромном покинутом храме, —
Той забытой огромности в нём,
говоря между нами,
Той покинутости
на десяток небес набралось.
И царапался снег —
это резала нас по живому
Штукатурка, летящая
от расписных потолков,
Где на фресках —
размах и размытая суть облаков,
Где не сыщешь подсказок,
что делать: молиться святому
Или, двигая ось
в направлении тёплого дома,
Всё идти да идти
по холодной границе веков.
***
Звёздная полночь взяла в руки вёсла,
Молча сомкнула прохладные пальцы.
Смотрит в людей, продираясь сквозь космы
Рощ. Ничего не стесняясь, пялится.
В узенькой лодке Счастливого озера
Ищет волны прохудившейся впадину.
Плещет вода голубая, венозная.
Полночь присела на мост-перекладину.
Там, где отыщет порталы сочувствия,
Бросится в них всеми безднами-звёздами —
Лучше вот так, ограничить присутствие,
Чем по лесам безразличия — с вёслами.
***
Нет ни одной причины унывать.
"Чайку?"
Стакан и крошка-кипятильник,
которому годков примерно дцать,
а он всё так же пашет.
Сел мобильник,
и горняя накрыла благодать.
Покров. И снег.
Посыпались стихи.
Пошли стеной. Наперебой читаем
(начало — ты, а я — конец строки),
припоминаем:
дух неубиваем,
мир полон несусветной чепухи.
А правда, как победная печать,
как непрощение
за смерть ребёнка,
как горький хлеб и жёсткая кровать,
но верная защитная иконка.
Нет ни одной причины унывать.
Порвётся там,
где бессердечно тонко.
***
Двадцать второй.
Горящая Волноваха:
бьют, отступая.
Камнем легла во двор
срезанная осколком,
мёртвая птаха.
А из подвалов,
как из глубоких нор,
подслеповато щурясь,
навстречу нашим —
маленькие
пергаментные старики.
Так обнимают!
— Как вы, родные?
— Страшно!
Скинув рюкзак,
боец раздаёт пайки.
И подбегает —
в толстых очках, в ушанке —
голубоглазый,
светлый такой дедок.
— Были сейчас, - смеётся, -
на русском танке!
Здесь проходили.
Я уже ждать не мог!
Как и сказать,
история-то для книжки!
В улице тут стреляли
с конца в конец.
И увидал солдатик меня,
парнишка,
выкрикнул:
"Может, надо чего, отец?"
Я отвечаю:
"Есть у старого просьба.
В погребе быстро
кончился весь запас.
Мне б сигаретку,
мне б сигаретку просто..."
"Ты, - говорит, -
дождись, отец, я сейчас!"
И шуронул,
а улица под обстрелом.
"Сгинет касатик!" - думаю.
Веришь, нет,
считаные минуты —
бежит пострелом!
Жизнью рискнул,
а деду принёс сигарет!
В двадцать втором.
Волноваха. Такая сцена.
Светлый дедок:
запотевшая синь очков,
чудо-глаза.
У тех, кто вернулся из плена,
то же сияние в лицах,
та же любовь.
***
Из моего окна не увидеть фронта.
В наших широтах стоны войны не слышны,
Артиллерийских дуэлей гневные ноты
Не нарушают в ночь городской тишины.
Лишь раздаются возгласы электричек,
Визги и шелест автомобильных колёс,
Лишь по утрам тяжёлых из дальних больничек
К центру несут винты синеватых стрекоз.
Я возвращаю полке томик Бальмонта.
Даже стихи померкли. Вскипает огнём
В рёбрах бессонных кварталов линия фронта,
Густо рокочет через сердечный разлом.
***
Эти люди с улицы Садовой,
что в Торецке, жили под землёй
месяц и другой, покуда город
наводнялся армией чумной,
выметался к чёрту, ненавидим, —
русскоговорящий, хоть убей —
оседал под гогот фрикативный
выпущенных вслед очередей.
Если люди с улицы Садовой
ждали "клятых", месяц и другой,
подземельцев из большого дома
выручали хлебом и водой, —
кто ж они? Осмелились перечить —
значит, возвышают голос "за"...
Смотрят, чисто храмовые свечи, —
всё нутро порвали их глаза.
Русские.
Защёлкали затворы.
Нацики заходят с козырей.
Нет людей на улице Садовой.
Улица — руина без людей.
В каждом русском городе,
должно быть,
есть своя Садовая. Она
вереницей домиков кондовых
или новых светит дотемна.
Не найти меж нами трёх отличий,
всё — Россия, только продержись,
маленький, на время пограничный,
городок Торецк
(читай: "Дзержинск").
***
— Наши под немцами, —
крутится на повторе.
Это страшнее смерти,
больше, чем горе.
Стало недавнее прошлое
камнем на теле.
Будущее — младенец.
Из колыбели
плачет и плачет,
но
до всех докричаться
не получается, братцы.
Вот —
настоящее, вкратце.
***
А в Горловке,
где у тебя друзья,
нельзя бояться,
и зевать нельзя.
Так бахает,
что стряхивает крыши
с панелек.
Бах-х!
Вода дрожит в ведре.
Старейшины
гутарят во дворе, —
тот боевой,
который еле дышит,
бьёт дамкой, —
Бах-х! —
и шашки на столе
подпрыгивают,
как слепые мыши.
Идёт, стирая страхи
на подкорке,
борьба за жизнь.
Готовится еда.
Вставляют стёкла.
Шоркают метёлки.
Электрики
меняют провода.
Но в молодой коре
сидят осколки,
которые не вынуть
никогда.
Прищурившись,
подкрашенные шины
по-матерински
обняли газон.
Над улицей
выцеливает дрон.
Обочины.
Сгоревшие машины,
а в них
под неестественным углом
загнулись чьи-то
призрачные спины.
И, всё равно.
Шахтёрский город это.
Гуляют люди —
им не запретишь.
На горке,
обжигающе нагретой,
читает
загорелый Кибальчиш.
И пахнет так: десятым
русским летом
войны известной,
безымянной лишь.
И здесь передовая:
вид с балкона,
между тобою
и врагом — стекло.
Смерть близко так,
что всё теперь легко,
предельно ясно.
Ты глядишь спокойно,
и смерть
невероятно далеко.
***
В моём заполярном детстве
Отец, молодой охотник,
Принёс из осенней тундры
Янтарной морошки горсть,
Костровый, щипучий запах,
Заточенный камнем ножик,
Две глиняные таблички
И мамонта хрупкую кость.
Я больше всего боялась
Подстреленной куропатки,
Её посиневшей лапки,
Торчащей из рюкзака.
О происхождении бивня
Была у меня догадка:
До талого северный берег
Порой размывала река.
А то, что на наших землях
когда-то бродили стадно,
Паслись слоны шерстяные,
Об этом известно всем.
И если бы не таблички,
Тогда бы всё было складно, —
Отец такую находку
Не мог объяснить ничем.
Сдавив за щекой морошку,
Почти не чувствуя вкуса,
Я две обгоревшие плитки
До ночи вертела в руках.
Оттуда смотрели боги —
Тибетцы или индусы,
Сложившие ноги в лотос,
Сидящие на облаках.
Над ними смыкались храмы
Округлыми куполами,
И лица богов — вот чудо! —
Разнились в своих чертах.
На глиняных плитках — крошки,
В действительности — титаны,
Откуда пришли такие
Лежать в ледяных пластах?
Я помню, что было дальше, —
Как древних богов вселили
В заветный угол гостиной
С иконою на стене.
И боги с тех пор, я знаю,
Все вместе меня хранили,
Растили меня, учили,
Являлись ко мне во сне.
В кирпичную пыль истёрто
Родное моё зимовье,
Но я и сейчас, как в детстве,
Повсюду ношу с собой
Богов таких непохожих,
Объявших меня любовью,
И солнечный вкус морошки
Взрывается за щекой.
***
Он треплет меня по макушке русой.
Норильск. Непроглядные ночи короче.
"Пойдём! — говорит. — Собирайся, доча!
Куплю тебе всё, что захочешь!"
Натягиваем ушанки и валенки,
сходство наше сильнее — мне нравится!
Папа — красавец, и я красавица,
только мороз кусается.
Идём по забитой сугробами улице,
и снежные горки стреляют санками.
Мы не боимся — в любви, как в танке —
он — сибиряк, а я — нганасанка.
Отец начинает читать Маяковского,
и вот по проспекту имени Ленина
шагаем втроём, широко и уверенно,
крепкой командой северной.
Внутри городского универсама
становимся тёплые и заторможенные,
мне достаётся пломбир-мороженое —
вкусное, невозможное.
Звучит: "Завидуйте, я — гражданин..."
Ревёт Маяковский, и, странное дело —
ведь я ничегошеньки не захотела,
а радости нет предела.
***
Я носила кольчужную сеть
Из решительных слов округлых.
Как она принималась петь
Во сражениях многотрудных,
Как, пришпорив буланых коней,
Уносились вдаль полководцы,
Как любимых своих детей
Выдвигали навстречу солнцу.
И над бранью великою — меч, —
Это было страшней едва ли,
Чем порочный уклад беречь,
При котором нас истребляли.
И никто бы не взялся сказать,
Оттого ль, что кольчуга пела,
Шла с победой русская рать,
Или равных себе не имела, —
Или верно, что шла вперёд,
Оттого и родилось слово,
Заслонившее свой народ
И смертельное для чужого.
***
Я никому не доверю
этот секрет.
Горестей много.
Крови для сердца нет.
И потому нутро горячо
— не тронь!
Бьёт из него
по рёбрам, насквозь, огонь.
Всё, что живёт во мне —
из того огня:
русская речь —
сердечная мышца моя,
русская степь —
праматерь трав-ковылей,
русское поле —
хлеб для души моей.
Всё из огня, но живо.
И не умрёт
космос-дитя,
большого космоса плод.
Здесь до поры пасётся,
дымит ноздрёй
мой огнегривый конь,
мой конь боевой.
***
В мягком подбрюшье
у русского города — полчище.
Лезет на стены,
подёргивая ноздрями,
Взрощенное в чужеземных
столицах чудовище,
Вскормленное — для убийства —
орлами да львами.
Лёг его хвост бронированный
точно по взморьюшку,
Крылья над степью
сомкнулись в гудящий купол.
Долго ли, скоро ли —
выгляни, ясное солнышко!
Встань, и змеиная сила
пойдёт на убыль.
Сколько живого и светлого
в пыль перемолото
Пастью чудовищной,
чёрными жерновами...
Время глаголить!
Молчание — больше не золото.
Время глаголить
булатно, звенеть мечами!
***
Диво, куда занесло нас в домике нашем!
Диво, что мы упали, но уцелели.
Надо сварить густую походную кашу,
определиться: Дороти или Элли.
Время не терпит. Определиться надо,
наш ураган прошёл или их торнадо,
что предпринять: идти гуськом по дороге
или висеть фургончиком на отроге.
Определились. Стелется путь неблизкий.
Сказки вокруг — чужие, в полях — редиски.
Маковые лужайки слипают очи,
даже когда ни капельки спать не хочешь.
И не хватает то одного, то другого:
миролюбивому льву — огня и задора,
доброму мудрецу — озарений свыше,
а дровосек вообще лежит и не дышит.
В мокром остатке — девочка и собака,
чьё положение, прямо сказать, двояко.
Знаешь ли, воображаемый собеседник,
что там за всемогущий такой волшебник?
Не отвечаешь. Верно, самим ответы
надо искать, зарытые рядом где-то.
И в котелке — густая походная каша,
и ежечасно пишется сказка наша.
* * *
Неслышно встала. Лицо закрыла.
"Его убили, — так говорила. —
Зачем всё это? Не вижу смысла".
Вдоль тела плетью рука повисла.
И крикнул лоб из диванной пыли:
"А что Герой? Ведь его убили".
И враг заклятый примерно то же
сказал, кривляясь корявой рожей.
Но зрячий видел, что враг, собака,
трясётся телом и полон страха.
Есть проигравший. Есть победивший —
себе и Богу не изменивший.
И столько силы, и столько света —
как поворотных времён примета —
теперь нисходит на наши души.
Героев поступь —
не слышишь? —
слушай!
***
Он обжёгся, споткнулся,
и в щепы расколотый лес
на него полетел, навалился
и впился зубами.
Жизнь текла по руке,
собираясь в земле, под корнями.
"Значит, вот как болит огнестрел.
И куда я полез..."
За парнями полез.
Отмотать бы минуту в начало —
и полез бы опять,
и пошёл бы на хрипы своих.
Чуть не ложкой одной харчевали.
Не вытащить их —
тут и сгинут. И вспомнил жену:
"Будто знала.
Никогда ни слезы,
а вчера — через весь разговор
эти всхлипы. Зачем?.."
Он почувствовал: справа немело,
словно камень собой замещал
перебитое тело,
а над телом стояла седая,
глядела в упор.
Прорастала трава,
и старуха под нос бормотала —
он едва её слышал —
про первый и главный закон,
про расколотый лес
и людей, заблудившихся в нём,
и про то, что не будет конца —
отмотают в начало.
А потом его тронули,
сдвинули сильным плечом.
Он узнал их: "Ребят, аккуратно,
работает снайпер..."
— Да уже не работает.
Вот ведь, упёртый характер,
прямо в пекло полез!
Потерпи, мы тебя донесём...
***
— Дед сражался с фашистами.
Я продолжаю дело, —
Так боец говорил, а небо
за ним кипело:
Пели ТОСы — потомки "Катюш",
и многоголосье
Клокотало одним припевом:
"Своих не бросим!"
На прощанье назвал
по имени, как подругу,
Протянул мне свою
тяжёлую, жёсткую руку.
— Доведём до конца, —
говорил, — семейное дело!
Я родному ему вослед
глядела,
глядела...
Наталья Денисенко https://vk.com/denisenkonat
_______________________________________
167423
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 19.11.2024, 17:25 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 23.11.2024, 21:50 | Сообщение # 2875 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3261
Статус: Online
| Вот и осень. Вот и друг мой
(бедный блоковский паяц)
заливает тёплой клюквой
мокрый плац.
Рядом мастер этой сцены,
принимая грозный вид,
по приказу Мельпомены
говорит:
"Здесь — театр военных действий
и один на всех закон:
или, брат, священнодействуй
или — вон!"
И под русскую гармошку
(вроде тёркинской такой)
умирает понарошку
мой герой...
Позади героя задник
с речкой Северский Донец,
впереди — увядший мятник
и борец.
В стороне, из-за кулисы
за учебною игрой
наблюдает добрый лысый
рядовой.
Он, не ведая покоя,
репетирует в состав;
знает все слова героя
и устав.
Завтра важная премьера
у безропотных ребят.
А театр — это вера,
говорят...
***
Мой север безутешен,
юг излишен.
Варенье из черешен,
сок из вишен.
В лесах кусты густые,
в поле — пусто.
Страна моя — простые
щи с капустой.
Пути мои разбиты,
воды вешни,
вороньи гнёзда свиты,
а скворешни
сколочены для песен
и для жизни.
И ты уж будь любезен —
зубы стисни.
Свистит ноябрьский ветер
в голой роще.
Не жить на этом свете
было б проще,
но я люблю варенье
из черешен
и сок из вишен, пенье
из скворешен...
***
Чую сладкий запах перегноя,
вижу чагу ржавую на пне —
это межсезонное апноэ —
золотая осень на войне.
Ожидая мира и отсрочки,
обнажают ветки тополя —
мёртвые холодные листочки
принимает прелая земля.
В небесах кричит большая птица,
во сырой земле — мышиный писк.
Что умрёт, то сразу сохранится —
попадёт живым на Яндекс-диск...
...О войне один расскажет устно,
а другой напишет о войне:
умирать и воскресать не грустно,
это даже весело вполне.
Поле, роща, вымерший лесочек,
пересохший к осени ручей —
каждый отвоёванный кусочек
стал очарованием очей.
***
Капает больничный йод
в сердце Левитана,
потому что каждый год
там бывает рана.
Ни палаты, ни врача —
никакого мрака —
просто чудо Ильича —
осень Исаака.
Капли йода, рыжина —
бывшая зелёнка.
Осень — не моя жена,
а моя сестрёнка,
только без приставки "мед"
и в цветном халате.
Осень оставляет след
на живом солдате.
Всё случается не зря,
но теперь хотя бы
дотянуть до октября.
Нет. Прожить октябрь
и увидеть первый снег
праздника Покрова:
снег в России — оберег
от всего плохого.
Только русская зима —
наша ойкумена
нас избавит от ярма
и спасёт от тлена.
***
Ещё чуть-чуть — и кончится война,
а большего сегодня и не надо.
Весной надежда с нами, но она
уходит после майского парада
к наивным невесёлым выпускным,
ко дню всеобщей памяти и скорби.
Действительное сделалось больным
по глупости обманутого Горби,
а прошлое не проливает свет
на всё, что уготованно сегодня
тому, кто в камуфляжное одет
и ходит в коридорах преисподней.
Никто не виноват — таков пасьянс,
разложенный жестокими богами.
Попутал атлантический альянс
всё то, что называют берегами
кисельными. Не трогаю фольклор,
но пью густой напиток на поминках,
где Ваня Карамазов до сих пор
толкует всем о мире на слезинках.
Ещё чуть-чуть — и русская беда
уйдёт в разряд кошмарных сновидений.
Жаль, правды нет, а истина всегда
темнее самых страшных заблуждений.
***
Не верю хитрому обману
иезуитского врага,
но верю юному шаману,
поющему из утюга.
Мир поднебесный недоступен
тому, кто мается пока,
но лишь шаман ударит в бубен —
и я лечу за облака.
Там голос пращуров далёких,
что в поле брани полегли
поёт таинственные строки
о связи неба и земли.
Там лес шумит и бьётся море
о берег Родины моей,
и дым Отечества не горек,
а сладок, сладок — хоть убей
меня на этом поле брани,
где чернозём на вкус — халва
и небо выше, чем в романе
писателя Толстого Льва.
***
Атеизма нет без веры —
Бог не может без России:
красный галстук пионеры
вместо крестика носили.
Кто не верит в пропаганду,
те обманываться рады.
Бог доверил Александру
строки "Гавриилиады".
А помазанник высокий
прочитал с утра пораньше
эти пушкинские строки —
и сослать куда подальше
был готов его за это,
но не стал опять по-новой
в ссылку отправлять поэта —
он ведь только из Молдовы.
Пушкин не был пионером
и уж точно атеистом,
но однако стал примером
всем на свете коммунистам.
Ведь не может быть России
без поэтов и без веры:
вместо крестика носили
красный галстук пионеры.
***
Отдайте море древним грекам, а нам оставьте сотню рек —
Мы доплывём по этим рекам туда, где не был древний грек.
На кораблях краснеют стяги — серпа и молота союз.
Мы — православные варяги — плывём "под сенью дружных муз",
Которых выкрали в походе у древнегреческих богов,
Плывём на корабле-заводе по производству облаков.
Нет, мы не зевсы, мы другие, и этих муз не стали б красть,
Но для чего они нагие повсюду нам внушали страсть?
Мы оправдаем наши кражи, отмолим страшные грехи:
Построим музам эрмитажи и сочиним про них стихи.
Зачем им жить среди гомеров на полувыжженной земле?
Пускай рожают пионеров на нашем — русском корабле.
Пускай живут, не зная горя, у берегов большой реки.
А греки пусть живут у моря, не заплывая за буйки.
***
(Осторожно: сарказм!)
Лишается природного таланта
художник, поддержавший СВО,
ведь вся его мораль и пропаганда —
не больше, чем пустое мастерство.
Кропает он бездарные стишата
на злобу отступающего дня:
о миссии российского солдата,
о праведности русского огня,
о том, что замышляют злые Штаты
и прочей несусветной чепухе.
Все самые затасканные штампы
найдёшь в его ремесленом стихе.
Бывает он в себе отыщет доблесть
и сядет на военный самолёт:
в Ростовскую какую-нибудь область
приедет — и за ленточку махнёт.
А там начнёт почти без выраженья
читать духоподъёмные стихи
вернувшимся с недавнего сраженья
солдатам от станка и от сохи.
Приободрив бойцов фальшивым словом,
становится собою очень горд.
И вот уже он снова под Ростовом
садится на другой военный борт.
Зачем он предал наши идеалы,
ведь был же обещающий пиит?
Его хотели толстые журналы,
он даже был немного знаменит.
Писал же о любви и о цветочках,
о тайнах мироздания сего —
всё было у него в великих строчках,
написанных до этого всего.
Теперь он стал поборником режима,
на аватарке реет триколор.
И сердцу и уму непостижимо,
как мы его любили до сих пор...
***
Какую тему не бери, а всё равно придёшь к Донбассу,
Поэтому себе не ври — начни писать об этом сразу.
Стоит плешивый террикон и терпит солнышко июля.
А чуть поодаль полигон, и от него шальная пуля
Летит к искусственной горе, вот-вот в неё уткнётся носом.
Я о любви и о добре, о солнышке рыжеволосом,
О тёмно-синей вышине, ста градусах по Фаренгейту,
О том, как слышно в тишине степного жаворонка флейту.
Как хочешь это назови. Пускай я буду зэт-поэтом.
Я о добре и о любви. Все мои помыслы об этом.
***
Что от рождения до смерти
успел увидеть человек
на обязательном концерте?
Траву и солнце, дождь и снег,
подъезд хрущёвки, проходную,
сберкассу, кладбище и проч.
И вот теперь он одесную
сидит и хочет нам помочь
определиться с тем, что тщетно,
а что бессмертно на земле.
Но эта помощь незаметна,
как эти крошки на столе.
Так и живём свою земную,
другого счастья не ища:
идём уставшие в пивную
и пьём хмельное под леща,
ругаем бывшего генсека,
клянём тупую молодёжь
и всё, что есть у человека:
траву и солнце, снег и дождь.
***
Видал сосун шампуня "вош энд гоу"
и до сих пор развидеть не могу.
До смерти это пенистое шоу
останется флешбеками в мозгу.
Кто знает, тот поймёт. Но как совпало,
что в доме был развал и за окном
последствия глобального развала?
Короче, как в рекламе, два в одном.
Родители в разводе: дети с папой,
а маму, что ни делай, не спасти.
И только телевизор тихой сапой
воспитывает, господи прости.
Я всё забыл: себя, страну и маму.
На этом месте — чёрная дыра.
Запомнил только пошлую рекламу,
пришедшую ко мне из-за бугра...
***
Проходят заданные сроки,
а на дворе жестокий век.
Но Путин всё же не жестокий —
он очень добрый человек.
Ему бы надо быть пожёстче:
сменить печенье на бичи.
Казалось бы, чего уж проще,
возьми — и деспота включи.
Начни по-лютому тиранить,
как Поликрат или Нерон,
ведь человек уже на грани —
давно диктата жаждет он.
Но не в России отморозки,
а там, где редко сыпет снег.
Владимир Путин — он не жёсткий,
а очень мягкий человек.
Уже у власти четверть века,
а мы за то его клянём,
что терпеливей человека
не обнаружишь днём с огнём.
Спасибо, Ленинградопитер,
за то, что в эти времена
у нас такой чудесный лидер
и очень чуткая страна.
Когда кругом такие пляски,
что кажется всему конец,
пора вернуться к старой сказке,
где у народов есть отец.
Сквозь нашу нынешнюю призму,
как через тусклое стекло,
мы видим, что капитализму
исчезнуть время подошло.
И нам не нужен театральный
царь, император и генсек:
мы знаем, Путин — либеральный,
но и советский человек.
Нам не Малюты, не Орловы,
не аппаратчики нужны,
а те, кто в будущем готовы
идти на жертвы для страны.
Повсюду мнимая свобода
и в ней живут десятки стран,
но только Путин — глас народа,
а не диктатор и тиран.
От Амстердама до Оттавы
мир абсолютно погрешим,
и лишь в России не кровавый,
а добрый путинский режим.
И хорошо, что мы с войсками
(Ракетой ЯРС системы ПРО) —
добро должно быть с кулаками,
чтоб не обидели добро.
Но ты запомни эти строки
и заруби себе навек:
Владимир Путин — не жестокий,
а очень добрый человек.
***
Друзьям из отельного отряда БПЛА "Буревестник"
"Кто сеет ветер, пожнёт бурю..."
Ветхий Завет
Война идёт на небе,
А люди на земле
Разглядывают степи,
Лежащие во мгле.
Оскомина, привычка —
Текущая война.
Летит степная птичка,
Но птичка ли она?
Не жаворонков песни,
Не выкрики орла —
Летает "Буревестник" —
Отряд БПЛА.
Пока ты в полудрёме,
У птички много дел —
Она всегда на стрёме,
Чтоб враг не разглядел.
Она всегда в ответе
За мирных горожан.
А кто посеет ветер,
Получит ураган.
И ночью, хоть ты тресни,
Чтоб Родина спала
Летает "Буревестник" —
Отряд БПЛА.
Кто прямо, кто окольно,
А кто наискосок,
Но каждый добровольно
Пришёл на передок —
В измученные степи,
Лежащие во мгле
Вести войну на небе
За счастье на земле.
И до победной песни
У общего стола
В отряде "Буревестник"
Летят БПЛА.
***
Вглядевшись осени в лицо
ты каждый раз затылком чуешь
(перед обманчивым концом)
одну весну лишь.
Очередной закончен год
и посреди его развалин
я становлюсь, как идиот
сентиментален.
Мой край невинный как всегда
по-левитановски пейзажен.
Ах, как же лес красив когда
он не изгажен.
На стылом воздухе легко
дышать и греть дыханьем руки,
и слышать где-то высоко
глухие звуки
не то подгнившего уже
и потому глухого хруста,
не то растущего в душе
большого чувства,
где постигается такой
простой, казалось бы, феномен:
весь мир открыт перед тобой
и он огромен.
***
Поздней осенью в робком смирении
Лес прозрачен невзрачен и глух,
И какое-то стихотворение
Произносит по памяти вслух.
Он читает его с выражением,
Но при этом с такой простотой,
Что равняется чтение с пением
Предпоследней осы золотой.
И под мерное это гудение
Я иду в обнажённом лесу,
И надеюсь, что стихотворение,
Не разбив до зимы донесу.
Сорокин Роман Валерьевич https://stihi.ru/avtor/rom4iksorokin
___________________________________________________
167724
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 23.11.2024, 21:57 |
| |
| |
/> |