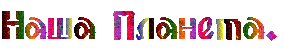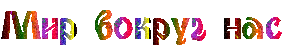|
Мир прозы,,
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 26.11.2024, 11:00 | Сообщение # 2876 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Белеют косточки плодов
у ног черешен.
Забыв угрозы холодов,
зацвёл орешник.
День прибывает на глазах,
питаясь ночью.
И скоро чёрная лоза
слезу заточит.
Горит закатный Чатыр-Даг
в одеждах снежных,
а здесь в долине, юн и наг,
зацвёл орешник.
И птицы белые в полях,
и пашни строчки.
У кизила и миндаля
набухли почки.
Пирамидальных тополей
седые свечи.
Под небом родины моей
цветёт орешник.
Покуда спит туман в садах,
крупнеют звёзды.
Сквозь ветви чёрные звезда
на абрикосе
горит, предвосхищая цвет.
О жизни вечной
напомнив, в преющей листве
взошёл подснежник,
посажен маминой рукой.
И в знак надежды,
что ей покойно и легко,
цветёт орешник.
***
Текст
I
Как вам пишется, спросят порой.
Как-то так: из затакта, на долю слабую
текст вступает.
Потрогает мягкой лапой,
а войдёт во вкус — не сочтёшь царапин,
сколько хочешь кричи «не тронь»
и процесс называй игрой.
Так плавник керамической рыжей рыбы
на фасаде храма
Инны,
Пинны
и Риммы,
текст в Алуште у моря, на солнце Крыма
запекает не глину — кровь
по извёстке, рельефно впечатав тени.
Он кричит о боли: а вы как хотели?
Тяга к тексту навечно пребудет с теми,
кто отважился на любовь.
II
Тело текста плотно, не тонкокостно.
И ему изначально противна плоскость:
текст стремится занять объём.
Тема с ремой слились, формируя тело,
зачиная его вдвоём.
Текста тьма ворочается на белом
от усилия глаз и рук.
Состоящий из самых обычных знаков,
текст с иным в сравненьи не одинаков,
и при том любому родня — замахом
возгоняться из знака в звук.
Дело текста — свидетельствовать о высоком.
Потому бумага — всего лишь кокон,
просто пауза.
Ты прости:
глуховатый вначале — как треск цикады,
на ветвях исполняющей пиццикато,
затрепещет текст.
И взлетит.
III
Коды и кодексы — капище прошлых истин.
Ключ ко всему — карандаш.
Или кончик кисти.
Сянь водружает чарки с вином на листья.
Взмах и касание.
Ветер-поток, фэн лю.
Прикосновением к шёлку
кисть
клянётся:
люблю.
Знаки любви сохранят и глина, и камень,
ею пропитан папирус или пергамент.
Кем бы ты ни был, скажи о любви руками.
А без неё текст всего лишь черты и резы
костью и деревом, углем или железом.
Сянь, каллиграф и поэт, не бывает трезвым:
переливая энергию в цао шу,
он раздвигает штрихи,
отпускает стихи.
И уходит за белый шум.
***
Пушкин - Горчакову
Лицейский друг, любезный Горчаков,
одной у нас коллегии мундиры.
Нам не вести в сражение полков.
Твой зримый путь — всё хлопоты о мире,
а мой — дуга, подобие петли:
от бессарабской степи до Кавказа.
Отчёты в пыль архивную легли,
они не для поэм, стихов и сказок.
Ещё и бритт с французом нам друзья,
ещё мы заодно тесним османа,
но полыхнёт нежданная резня,
и мне встречать арбу из Тегерана,
в которой Грибоедова везут.
Варшавской дверью напоследок хлопнув,
Мицкевич, призывающий грозу,
сам, труся, навостряется в Европу…
Гляди же, Горчаков: опять война
грозит России. И откуда — с тыла!
У недругов всё те же имена,
их ненависть нисколько не остыла.
И чья же сталь в истерзанных полях?
Британский и французский говор, шведский.
И малоросса понуждает лях
нацелиться на мой бульвар в Донецке.
Нет, не тиха украинская ночь.
И не нужны им, чьи уста кровавы —
ни Анна Керн, пленительная дочь
семейства Полторацких из Полтавы,
ни град Херсон, что строил Ганнибал.
Им — слышишь? — мира русского не надо.
Кому б ты думал, тут кричат «ганьба!»,
когда идёт волна пушкинопада?
Когда поверх святынь, крестов, могил
вскипает и бушует пена злая,
нас чохом — всех — запишут во враги
Чернигов, Конотоп и Николаев.
О, я б клеймил мазепиных сынов —
и оттого я им первейший ворог
и потрясенье самых их основ:
я, Александр — как Невский и Суворов.
Не в бронзе дело вовсе, не в камнях.
Я — памятник себе. На сём довольно.
А речь, в которой столько от меня,
пусть льётся мощно, невозбранно, вольно,
и возвещая им: не мир, но меч! —
разит вероотступников и катов.
Тут не одним глаголом должно жечь,
идя к победе и верша расплату.
Но, именем моим вооружась,
пусть явит воин мужество и силу,
и принесёт, храня со мною связь,
возмездие клеветникам России.
***
Плоть и кровь
Памяти Виктора Левакова, Андрея Дорохова и Романа Комащенко,
погибших 3 марта 2022 года
На полу у царских врат
двое раненых сидят,
широко расставив ноги.
Третий срезан на пороге.
Он сражался до конца,
но не смог вползти с крыльца.
Плотный слой осевшей пыли.
Губы еле разлепили:
— Тут наш пост, спиной к спине —
я к тебе, а ты ко мне.
Запятнали кровью плиты.
Маковка с крестом разбита,
уцелел один каркас.
Со стены взирает Спас.
От очередного баха
вздрагивает Волноваха.
— Что же мы с оружьем — в храм,
к алтарю, к святым дарам?
Очереди — дальним эхом:
пробиваются морпехи,
но успеют ли? Едва.
Тяжелеет голова.
Только в отголосках взрывов
глас:
— Да разве знать могли вы,
дорогие сыновья,
плоть моя и кровь моя,
что из всех высоких точек
украинский пулемётчик
выбрал ту, что под крестом,
оскверняя Божий дом?
Вашей в этом нет вины.
Вы свершили, что должны,
обративши взоры к небу.
Жертва — не вином и хлебом,
а собой — в Моём дому.
Ныне я её приму.
Нет на вас греха, сыны.
…Шёл девятый день войны.
***
Излом
Мы помним каждый день и год.
Метро.
Троллейбус.
Переход.
Подвал.
Сложившийся подъезд.
Мы родом все — из гиблых мест.
Наш век растёт из тех времён,
где дым, где взрыв, где крик, где стон:
роддом, аэропорт, спортзал —
и пламя хлещет по глазам.
Черна весна, чья ночь красна.
Очнись, очнись же ото сна.
Не говори: что я могу?
Не отвори дверей врагу.
От белых круч до алых стен
пусть наше сердце будет с тем,
кто держит времени излом
в борьбе с огнём, в бою со злом.
Взыскуя мёртвых у икон,
всем нам не перечесть имён.
Все наши храмы — на крови.
И горшей в мире нет любви.
И нет спасения для нас
который век, который час,
покуда мы не отстоим
свой дом, пройдя сквозь боль и дым.
***
Без имён
За десять лет гражданские авто,
расстрелянные на дорогах смерти,
доставили их в никогда.
Никто
не перечтёт.
Не вымолит.
Не встретит.
И вот они выходят из машин,
без провожатых, эмчээс и скорых:
тут кроме них нет больше ни души.
Все безымянны — кроме репортёров.
Рокелли видит банки и детей,
но в ракурсе уже с небес как будто,
а Клян — автобус.
Хроника сетей
фиксирует последние минуты.
Так планы подрапижены — в Снежном,
и в Славянске, и вот теперь под Суджей —
что загустело вязкое кино
и слиплись титры, и имён не нужно.
Не названные продолжают путь,
ещё держась своих, но без поклажи.
Уходят в нескончаемую муть,
не сетуя, не обернувшись даже —
за годом год и за душой душа
в огонь.
И лишь со спутниками Стенин
из головы колонны добежав,
толкнёт: вставай, пока не время, Женя.
***
Родничок
Стоит черешня, сок течёт —
такая ранняя…
Он был убит.
Она ещё
жива, но ранена.
Чернеет сок.
Спешат врачи.
Дорога длинная.
Сирена скорой замолчит:
не довезли её.
И лишь руины вслед глядят
от дома отчего.
И нерождённое дитя
под сердце — косточкой.
Буравит болью родничок,
пронзает темя мне:
жива, жива была ещё.
И до последнего
слепил глаза горячий май
Старомихайловки:
к черешне руки поднимай,
смотри, мой маленький,
три гилки ягодных торчит.
От горя горького
охрипли в Марьинке грачи
и в Красногоровке.
Ребята, Бог нам помоги
не быть такими, как враги,
но это — кровное.
Под Ровно прадед мой погиб.
Дойду до Ровно я.
***
Черта
В Диком поле и зверьё, и супостат.
А была, была у предков неспроста
ровно в тех краях — засечная черта.
И её отодвигали как могли,
где дубравы превращали в корабли
верфи Дона и воронежской земли,
где глядел сторожко Белгород на юг —
если проворонишь, то каюк,
и стоять тебе на краешке сам-друг.
И не всем костьми да в землю лечь везло,
и куражилось, и беленилось зло —
гнали пленных к рынкам в Кафу и Гезлёв.
Слишком в поле этом тяжелы кресты.
Вновь на лике, полном скорбной немоты,
засекаются морщинами черты.
То ли мало прежним ратям было ран,
то ли цепок не бурьян в степи — дурман,
басурман как был — и нынче басурман:
сын ли, внук ли, прапраправнук янычар.
Натаскал недобрый сотник палача,
дал ему замену лука и меча.
И теперь опять врастаешь в землю ты
там, где был по всем статьям не фронт, а тыл —
у засечной,
у забытой зря
черты.
***
Тревога
Связи, понятно, не будет с тобой.
Первого марта, сказали, в дорогу.
Голос мужской объявляет тревогу.
Женский потом объявляет отбой:
сбили, должно быть. Умолкли сирены.
Рёв самолётов привычен: у нас
город военный, ты видел.
Весна.
Скоро подъезды утонут в сирени.
Про назначение не написал,
кем: командиром расчёта ли, взвода.
Кашель не мучит в сырую погоду?
Белая в небе лежит полоса
от самолёта. За ней, как за лентой,
ты, дэ-шэ-бэ. И воюющий сын.
Книги тебе подарю, как просил.
Только вернитесь, пожалуйста, летом.
***
Попутчик
Правил барышням носы:
лицевая хирургия.
Но мобилизован сын,
да и многие другие.
Поезд тронулся сейчас
от столичного перрона.
Он — за сыном, в ту же часть,
снявши бронь, надевши броник.
Полка верхняя. Уснул
моментально — это ж сколько
ехать через всю страну,
если с Дальнего Востока.
Вот она, в его глазах,
до Джанкоя от Амура.
Мне про сына рассказал
в Россоши на перекуре.
А с утра стонал во сне,
разбудив купе пораньше,
потому что на войне
и таким мужчинам страшно.
Сразу вскинулся, затих.
Говорил, что не голодный,
но за чаем на двоих
я делила бутерброды.
На прощанье помолчал.
Как добрался, вот узнать бы.
У него, военврача,
младший-то не медик — снайпер.
Будет верить, будет ждать
на другом краю России
женщина, жена и мать,
двух бойцов: отца и сына.
***
Отрезало
Эскалаторный триммер подрежет поджилки в шагу.
Поверни в забытьи: здесь направо...
налево...
направо...
Увязая в снегу, повтори: не могу...
нет, могу...
выдыхая слова вперемешку с табачной отравой.
Пусть везет как везет: по кривой...
по прямой...
по кривой...
Истеченье минут не опаснее кровотечений.
И не то чтобы мертвой, но, в общем, почти неживой
одолей еще восемь пролетов подъездных ступеней.
Шаг за шагом. Не надо хвальбы: если бы...
да кабы...
Зажимая ключи от пустой и постылой квартиры,
ощути не потугу сказать, а потребность любить
только после того, как ее уже - чик - ампутируют.
***
Хронотоп
на ветру кругами спутана
кочевая та трава
шевардинское редутово
да пожарская москва
лесополки окаянные
белизна березины
тропы торные сусанные
из-под нижнего видны
на каяле пели плакали
настояли на угре
между минными поляками
змея на груди пригрев
с маннергеймерами цацкались
целовали неспроста
ту складскую ленинградскую
землю в сахарны уста
жернова у мельниц новые
воду в ступе растолкут
где слагали халхинголовы
или слово о полку
брат за брата в поле древнее
врос по пояс в нелюбви
от работино до времьево
хронотопы искривив
***
Славянку!
Помяните как надо, три раза.
Он сегодня не в море уйдёт —
ляжет в землю, где вражеской базой
заменили разграбленный флот.
Младший сын стал военным хирургом,
но отцу не сумеет помочь:
не прорваться из Санкт-Петербурга.
Не приедет на кладбище дочь.
Тут жена да соседки седые.
Над Очаковом стелется дым.
Утопающий в горестном дыме
без огней, без тепла и воды,
берег здешний — как ношенный китель,
что годами хранили на смерть.
Погодите, каптри. Погодите!
Над причалом рокочет не медь,
но как будто оркестр помедлил
после третьего залпа — салют! —
и теперь обнимается с медью.
И «Прощанье славянки» поют.
***
Коса
Там, где самый край косы словно волос тонок
и сливаются во тьме Понт и Борисфен,
в полынье ломает лёд вольный жеребёнок,
мечется у берега, угодивши в плен.
Берег стылый, ветер в спину,
снега круговерть.
А в песке под снегом мины.
Мы в дозоре ночью длинной,
след по следу: ступишь мимо,
ошибёшься — смерть.
Он хрипит едва-едва — на исходе силы,
но легла на гриву вдруг тёплая рука.
Ну-ка, братцы, подсоби, чтоб не сгинул сивый.
Оставлять коня в беде — не для казака.
Лютый холод. Злое время.
Коник слаб да мал.
Подымай, и в путь скорее:
заберём на батарею.
Оботрём и обогреем
парой одеял.
Тут, на Кинбурнской косе, гнал Суворов турок,
и такой же вольный конь в бой ходил под ним.
Пусть не эскадрон, а дрон, вместо сабель ПТУРы —
всё одно мы ворога, парень, победим.
Только где ж ты, наш Суворов?
Велика нужда.
Николаев — русский город.
И Одесса — русский город.
Нам все эти земли скоро
вновь освобождать.
Заждались земля и море:
столько боли, столько горя…
Неоконченные споры,
новая вражда.
Но Одесса — русский город.
Николаев — русский город.
И Очаков — русский город.
Скоро ль явишься, Суворов?
Время побеждать.
***
О точности
Там, где кашляют койот и кукабара,
городишко - что плевок на карте прерий.
Два ковбоя молча пьют у стойки бара,
созерцая проходящих мимо двери.
Говорит один, поигрывая кольтом:
- Видишь парня, вон того, в пальто и шляпе?
Собеседник отвечает:
- Все при польтах,
а без шляпы, знаешь сам, одни растяпы.
На песке ряды бороздок чертят шпоры.
- Вон стоят напротив двери двое. Спорят.
- Где? Под вывеской на лавке «Пули. Порох»?
- Да. Сутулый.
- Оба горбятся. Который?
- Ну вот этот, в профиль, посередь дороги.
У него и ноги кривоваты.
- Да у всех, кто слез с коня, такие ноги!
Оба в профиль: боком. Укажи понятней.
- Вот заладил!
- Я? Да это ты заладил!
- На, смотри!
И выстрел кольта сухо треснет.
Вроде бы и от бедра палил, не глядя,
а дыра в груди на самом видном месте.
Смолкла музыка в салуне. Крики, визги.
С крыши каркнула и поперхнулась птица.
Убирает кольт стрелок, глотает виски:
- Говорю тебе: вот он вчера женился.
***
Кадык
Не надо мне о временах святых.
Я старше праха мамонта.
А ты?
Когда путаны выходили в дамки,
когда меняли жирные коты
свой солидол цепочек золотых
на business siut и галстуков удавки,
оставив девяностым красный след,
прикинь, я не был туп, я не был слеп,
я торговал тогда чем мог: словами.
Был не последним в этом ремесле,
хватало и на масло, и на хлеб.
Не спрашивая, почему сломали —
не мне, а всем, кому не так свезло
непыльное освоить ремесло —
одним границы, а другим и шеи,
я стал навроде девушки с веслом:
не артефакт, но символ.
Форма слов.
Столица, безусловно, хорошеет,
но цепко держит за кадык рука,
удавка галстука из бутика
на Монте-как-её-Наполеоне.
И пустота, продетая в рукав,
приветственно махнёт: пока-пока,
пока живи, никто тебя не тронет.
… Холодный май. Над полем вижу снег.
Мы рвали рынки, шпаря пиджин-сленг:
кто цель и чья стратегия вернее.
А жизнь, выходит, тот ещё стратег.
И выбор слов: за этих? или тех? —
приводит к миномётной батарее.
***
Тактильность
За гладкость не дала бы и гроша.
Царапает мне лист инжира кожу:
в шершавом мире человек шершав.
Несовершенны облик и душа,
с лозою виноградной чем-то схожи.
По мне, так всё не гладкое — честней.
И потому и в яви, и во сне
определяю близких и знакомых,
притёршихся в круговороте дней,
по бороздам, морщинам и заломам.
Так отмечают нас и боль, и труд.
Я старой груши трогаю кору:
цветёт, упряма и непобедима,
пускай на солнцепёке и ветру
ей трещинами ствол избороздило.
А гладкая на ощупь — только слизь.
Прожив уже немаленькую жизнь,
твержу, душой не покривив нисколько:
за тех, кто слишком гладок, не держись
и с омерзением смотри на скользких.
***
Озими
Южный и северный фронт
снова схлестнулись с разбега.
Дождь на вершины идёт
так, что доходит до снега.
Густо водой поросло
небо над устьем долины.
Облако тащит в разлом
ветер полотнищем длинным.
Укоренившись во мгле,
струй водяные побеги
тянутся книзу, к земле,
зёрнами спелого снега,
сытным для здешних земель,
даром что тучное небо,
приготовляясь к зиме,
сеет водой, а не хлебом.
Озими ну зеленеть:
поле, изрытое штормом,
напоено — по весне
встанут стеной.
И прокормят.
***
Плазма
Звали работать в Дубну.
А он возвратился в Крым.
В августе у телескопа мы говорим
в горном посёлке Научном, в обсерватории:
— Помнишь, как после экзамена по истории
бросил конспекты об стену, грозился сжечь?
— Помню (смеётся).
Плазма такая вещь:
вырвется из короны протуберанец
и остывает.
Для непосвящённых — танец,
для астронома — процессы кипения вещества.
Этим же августом, позже, вскипит Москва.
За горизонтом событий исчезнет Костя.
Нет, понимаете, Костя не бросит космос,
просто уедет.
В Лондон, а позже — в Стэнфорд,
здесь защитив диссертацию.
У НАСА крутые темпы.
У Стэнфорда спутники, чтобы кружить у Солнца.
Он возникает из ниоткуда в скайпе и вновь смеётся,
мол, одержимость наукой есть разновидность недуга,
а именно астрономией — крайне редкая штука:
один ненормальный примерно на четверть мильона.
Я написал алгоритм. Всего четыре учёных
на этой планете могли бы создать такой.
Энергия в недрах светила бурлит рекой,
но больше бюджета у НАСА на солнце нет.
Есть лишь на лазеры.
Эта плазма теперь в цене.
…Какие контакты, если нашло затмение?
Холод и вакуум между нами.
И тем не менее
жмурюсь на солнце — был бы здоров и цел,
бывшую родину разглядывая в прицел.
***
Затмение
I
Каштаны ветер разбросал
И лист ореховый.
У моря нежился вокзал.
А я уехала.
В ливрее новенькой состав
с двойными шторками.
Луны взошедшей полнота
была подчёркнута
полосками от облаков.
Порой осеннею
насквозь из Крыма, далеко —
как раз в затмение.
II
На станции новой наискось
белеет по плитке надпись:
наушники, мол, сними.
Дорога-то — через сердце.
И курят мужчины в берцах
без шума и толкотни.
Скользнув из тепла на ветер,
который в Тамани встретил,
глазами найди луну,
притушенную затмением,
как будто — портал во времени
в утерянную страну.
III
Курско-Харьково-Азовская,
где под Борками откос.
Словно выломана кость.
И вагона крыша жёсткая
на плечах у императора.
То наследие утратили,
и вернуть не довелось.
Над степями ветры во поле.
Ржавы рельсы к Мелитополю,
колея пока пуста
к Лозовой от Севастополя:
шесть тоннелей, два моста.
Только церковь Вознесения
над Форосом на скале
светом чагинского гения
в лихолетье как знамение
маяком горит во мгле.
IV
В такие ночи, сквозь провал времён
просачиваясь, брезжит и надежда
на то, что мы однажды обретём
утерянное вновь, как было прежде,
что из тоннеля выберемся мы
на свет.
Пройдём сквозь коридор затмений,
хотя пока не верится самим.
Тепло.
Луна.
И поезд — не последний.
Ольга Старушко https://stihi.ru/avtor/mastodonia
________________________________________
168123
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 26.11.2024, 11:01 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 28.11.2024, 23:17 | Сообщение # 2877 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Общежития красный кирпич,
Ткацкой фабрики чёрные трубы.
На значке октябрёнка Ильич
Сжал покрытые золотом губы.
У порога товарищи ждут,
На часах половина восьмого.
Нам до школы пятнадцать минут,
Девять лет до звонка выпускного.
Мы без шапок - плевать на мороз!
Мы отважны - уже октябрята!
Снег укутал ключицы берёз,
Лёг на медные плечи солдата.
Он задумчиво смотрит вперёд,
Как архангел на иконостасе.
Нам до школы один поворот,
Тридцать лет до войны на Донбассе.
(Валерий Маккавей)
СВАДЬБА В КАЛИНОВКЕ
1
Тётя Зоя уже десять минут как преставилась. Её остывающее тело лежало на кафельном полу в подсобном помещении столовой при Калиновском хлебзаводе, куда его заботливо положили родственники невесты, унеся подальше от пьяных глаз односельчан и Витькиной родни. Не хватало ещё испортить Вальке свадьбу.
В тусклом свете сорока ваттной лампочки, свисающей с потолка, словно висельник, восковое лицо тёти Зои таращилось остекленевшими глазами на потемневший от копоти и жира потолок.
– Блин-нафиг, – сказал дядя Гриша. – Зойка даже умереть по-нормальному не может.
Достав из кармана два пятака, он опустился на корточки, дрожащими пальцами прикрыл высушенные фиолетовыми тенями веки тёти Зои и, чертыхнувшись, водрузил монеты ей на глаза.
Сашка стоял, прижавшись спиной к холодной поверхности каменной стены, и боялся пошевелиться. Покойника он видел впервые в жизни.
– Ну, чего стоишь как вкопанный? – дядя Гриша неловко поднялся. – Скорую вызывать не будем, ментов тоже. Если понаедут, испортят весь праздник. Сейчас машину подгоню, мы Зойку тихонько вынесем, погрузим и сами доставим в морг. Благо тут ехать недалеко.
Сашка отклеился от стены.
– Дядя Гриша, я с тобой, – испуганно затараторил он. – Я не останусь здесь один.
– Блин-нафиг, Санёк, ты чё это в штаны наложил? – ухмыляясь в усы, произнёс дядя Гриша. – Ты должен смело нести порученную тебе вахту, смотреть в светлое будущее широко открытыми глазами и не допустить, чтобы в это царство мёртвых проникла хоть одна живая душа.
– Я здесь не останусь, – заупрямился Сашка.
– Ещё как останешься, пацан, – парировал дядя Гриша. – Ты мне за четвёрку по физре ещё не проставился!
Дядя Гриша работал физруком в общеобразовательной школе и пользовался непререкаемым авторитетом у местных. В Калиновке его знала каждая семья, многие были ему чем-то обязаны.
– Когда вернусь, подам такой сигнал, – дядя Гриша постучал по стене кончиками пальцев, одновременно приговаривая: «Дай-дай-за-ку-рить». – Усёк?
– Усёк!
– Всё! Ушёл, – дядя Гриша поправил съехавший на бок галстук и скрылся за дверью.
Сашка остался один. Он робко посмотрел в сторону тёти Зои: скрюченные от химической завивки волосы ржавыми пружинами торчали в разные стороны; нос упругим парусом натянул обескровленную кожу; плиссированная юбка задралась, и были видны крупные белые икры в мраморном узоре усыхающих вен.
Сашка отвёл глаза. Ему внезапно сделалось дурно. В этот момент он ясно осознал, что наступит день, когда он тоже умрёт и его бездушное тело будет вот так же где-то лежать.
– Серёжа, прекрати, – послышался из-за двери женский голос.
Сердце у Сашки забилось чаще, ладони от волнения вспотели: если сейчас сюда кто-то завалится, то ему влетит от дяди Гриши. Да и скандала не оберёшься. Хорошо хоть, дверь открывается наружу. Сашка схватился за ручку, упёрся ступнями в дверные косяки, а туловищем откинулся назад. Теперь придётся сильно постараться, чтобы проникнуть в помещение.
– Серёжа, хватит, я сказала. Здесь совсем не место для этого.
– Марин, да ладно тебе. Как будто первый раз.
Кто-то попытался открыть дверь. Сашка вцепился в дверную ручку так, что костяшки пальцев побелели.
– Чёрт! Заперта. Ладно, иди сюда.
Сашка услышал возню у двери и звуки поцелуев.
– Блин-нафиг, вы чё тут устроили? – голос дяди Гриши прозвучал неожиданно. – Нашли место для свиданий!
Неловкое молчание было не долгим.
– Ты это, Гриш, сам-то чего здесь делаешь? Ковёр какой-то припёр.
– Тебе несу, чтоб помягче было.
– Смешно, конечно…
– Серёж, пойдём уже. Неловко всё это как-то… – по голосу чувствовалось, что девушке и правда неудобно. Сашка так и представлял, как она стоит за спиной у Серёжи, краснея от стыда.
– Пошли, Марин. Счастливо оставаться, Григорий Иванович!
– До встречи, друзья мои!
Сашка дождался условного сигнала и распахнул дверь. В коридоре, без пиджака, с галстуком, заправленным в брюки, стоял дядя Гриша. К стене был привален свёрнутый в рулон ковёр.
– Блин-нафиг, Санёк, я задолбался его тащить.
Они вдвоём взяли ковёр, занесли его внутрь подсобки и бросили на пол.
– А зачем он нужен?
– Как зачем?! Ты как собираешься Зойку выносить? Под мышкой через парадный? – дядя Гриша достал из кармана брюк моток бечёвки. – Мы её завернём в ковер, обмотаем верёвкой и незаметно вытащим через чёрный ход. Тихонько погрузим на багажник, который у меня на крыше машины, закрепим, и всё – дело сделано! – дядя Гриша усмехнулся. – Не ссы, всё будет нормально.
Ничего нормального в том, что предлагал дядя Гриша Сашка не видел. Более того, данная ситуация выглядела полным абсурдом. Но сдать назад он тоже не мог. Дядя Гриша приходился ему дальним родственником по линии отца, а Валька – двоюродной сестрой по матери. И все в Калиновке знали, как трудно было сосватать Вальку – весила она под сотню. Поэтому, когда на горизонте нарисовался щуплый, невзрачный Витька – Валькин однокурсник – её родители, недолго думая, решили сыграть свадьбу.
– Дядя Гриш, а ковёр-то где взял?
– Где, где? Дома, блин-нафиг. Живу-то на соседней улице.
Дядя Гриша опустился на корточки и начал разматывать ковровое полотно.
2
В стареньком «Москвиче» пахло бензином и сигаретными окурками. Между передними сиденьями лежали тряпки с маслеными пятнами. Приборная панель была покрыта слоем пыли. Магнитола отсутствовала, зато через прикуриватель, путём хитросплетения проводов, был подключен кассетный магнитофон. Дядя Гриша любил слушать Высоцкого. Вот и сейчас тот хриплым голосом пел:
«В этом доме большом раньше пьянка была
Много дней, много дней...»
Завёрнутое в ковёр тело тёти Зои стяжными ремнями было притянуто к багажнику на крыше автомобиля. Ехали медленно, дворовыми улочками, избегая центральных дорог.
– Так, Санёк! Морг находится в городе, в районной больнице. Это километров десять, если огородами.
– Но мы же не можем туда заявиться как ни в чём не бывало с трупом на крыше машины! – Сашке было не по себе. Он чувствовал, что это как-то неправильно. Нельзя вот так взять и замотать покойника в пыльный ковёр, закинуть на ржавый багажник, как мешок с картошкой, и везти на хранение в морг. Не по-людски всё это.
– Вот именно, блин-нафиг! Нам нужен Михалыч, он там главврачом работает, в отпуске сейчас. Давай к нему заскочим и прихватим с собой, пусть справку о смерти выписывает.
Дядя Гриша резко нажал по тормозам. Сашка всем телом подался вперед и упёрся руками в бардачок. Беспокойно озираясь и квохча, дорогу перебегала бело-рыжая курица.
– Сань, а ты знаешь, почему курицы не летают?
– Потому что у них крылья маленькие.
– Вовсе нет, – дядя Гриша включил первую передачу, отпустил педаль сцепления, и машина тихонько тронулась с места. – Потому что курица домашняя – у неё есть всё. А птицы летают только в трёх случаях: ищут пожрать, свить гнездо, обосрать прохожих.
Сашка улыбнулся:
– Оригинально.
– Ещё бы, – дядя Гриша выключил магнитофон и посмотрел на Сашку. - Есть один нюанс.
– Какой?
– Михалыч живёт в соседнем посёлке.
Сашка засуетился: задвигал желваками, затем судорожно начал сжимать кулаки. Вена, разделяющая его лоб на две половины, стала нервно пульсировать, словно отбивая сигнал SOS на азбуке Морзе.
– Останови машину! – в голосе Сашки слышались истеричные нотки.
– Зачем, блин-нафиг?
– Останови, я сказал, иначе на ходу выпрыгну! – Сашка нажал на кнопку разблокировки двери.
– Ты чё задумал, пацан? – дядя Гриша посмотрел по сторонам. Убедившись, что они отъехали на приличное расстояние от жилых домов, прижался к краю обочины и остановил машину.
Сашка резко распахнул автомобильную дверцу и выскочил на улицу. Дядя Гриша, недолго думая, последовал за ним.
– Твою мать, дядя Гриш! Во что ты меня втянул? – Сашка готов был разрыдаться. – Сидел бы сейчас за столом, прибухивал, гладил Таньку по ляжке. А теперь что – нелегальный труповоз, блин! А если менты схомутают? Что я маме скажу?
Сашка в бессилии опустился на землю. Он сидел на обочине дорогисжав кулаки и уставившись в одну точку. Единственным утешением для него было то, что солнце не спешило садиться. Сашка подставил лицо его тёплым лучам.
Про Таньку на сегодня придётся забыть, – думал он. – Ведь исчез, даже не попрощавшись. Как он теперь ей всё объяснит?
Дядя Гриша подошёл сзади и положил руку ему на плечо.
– Сань, блин-нафиг! Ну, ты чего, в самом деле? Думаешь, мне это нравится?
– Видимо, нравится, – Сашка дёрнул плечом. – Руку убери!
–Убрал! – Дядя Гриша достал из кармана брюк сигареты и зажигалку, присел рядом на корточки и закурил.
– Всё будет тип-топ, не переживай. Михалыч – мой старый друг, мы вместе учились в школе. – Дядя Гриша курил так, словно проглатывал табачный дым. Он глубоко затягивался и, не успев выдохнуть, начинал говорить. – Однажды он приехал и попросил помочь устроить его дочку в институт. У меня в том институте декан знакомая. Ну, я и помог. Должен он мне теперь.
– Ну и чё? – огрызнулся Сашка.
– Чё, чё! Через плечо – не горячо! Блин-нафиг, сказал же – всё будет нормально. Чё ты кипятишься!
– Я, по-твоему, чайник что ли?
– Да твою мать! Самый настоящий чайник! – не выдержал дядя Гриша и, поднявшись, отшвырнул в сторону окурок. – Был бы не чайник, сидел бы сейчас за столом, прибухивал, гладил Таньку по ляжке.
– Сука ты! Сука! Сука! – Сашка вскочил и начал пинать по колёсам машины. – Я сейчас тебя завалю и положу рядом с Зойкой, козёл ты усатый!
– Санёк, хорош, блин-нафиг! Зойку разбудишь! Если очнётся, как объясним ей, зачем в ковёр завернули?
Сашка занёс было ногу для удара, и расхохотался.
– Сука! – смеялся Сашка. – Если очнётся…
Он согнулся пополам и смеялся так, что казалось, выплюнет лёгкие. Дядя Гриша посматривал на него, сощурив глаза, и улыбался.
– А ментов, может, и не встретим, – дядя Гриша похлопал Сашку по плечу. – Я знаю короткий и надёжный путь.
3
Выехали с Калиновки в седьмом часу вечера. Грунтовая дорога между кукурузными полями была достаточно ровно укатана сельскохозяйственной техникой. Тусклое солнце косыми лучами щупало автомобиль и, отражаясь от хромированных деталей, слепило глаза. Дядя Гриша опустил солнцезащитный козырёк.
– Ехать тут недалеко. Мигом управимся.
Сашка прикрыл глаза и откинулся на спинку сиденья.
– Странная штука жизнь: сначала начинаем справлять свадьбы, юбилеи, потом поминки, затем умираем сами.
Сашка молчал. На него навалилась такая усталость, что не было ни сил, ни желания философствовать. Почему-то именно сейчас ему вспомнилось, как отец сажал его шестилетнего к себе на колени. Они ехали в пригородной электричке. За окном мелькали деревья, шлагбаумы, переезды, железнодорожные столбы с загадочными знаками, и когда внезапно появлялась одиноко стоящая ветхая избушка, Сашка радостно кричал: «Домик Бабы-Яги». А отец задумчиво отвечал: «Думаешь? А может вот этот? Или вон тот?». Сашка смеялся. Сидя на коленях у отца, он испытывал счастье, доступное только ребёнку.
Из полудрёмы Сашку вывело причитание дяди Гриши.
– Накаркали, блин-нафиг!
Первое, что увидел Сашка, открыв глаза, был чёрно-белый жезл гаишника, как дуло пистолета нацеленный прямо на них. Во рту сразу стало сухо, желваки лихорадочно забегали.
– Санёк, не ссы! Прорвёмся! – дядя Гриша включил правый поворотник и, проехав немного вперёд, остановился. – Сиди и помалкивай.
Со стороны водителя к машине подошёл гаишник. Дядя Гриша полностью опустил боковое стекло.
– Здравия желаю! Инспектор ГАИ, старший лейтенант Блум! Проверка документов. Предъявите водительское удостоверение и техпаспорт на машину.
– Отставить, инспектор Плюмбум! – в голосе дяди Гриши появились командные нотки. – Встать по стойке смирно! Раааавнение нааа флаг!
– Григорий Иванович, вот так встреча! – инспектор наклонился и через открытое окно протянул руку для рукопожатия. – Не ожидал увидеть. Только просьба у меня: не нужно плюмбумом – не в школе же…
Густые усы дяди Гриши расплылись в широкой улыбке.
– Отставить, блин-нафиг! То, что происходит в школе – не остаётся в школе, а сопровождает нас всю жизнь. Как были чмошниками, так и останетесь чмошниками! Напомни подрастающему поколению, кто это такие.
Инспектор исподлобья посмотрел на Сашку.
– Ну, чрезвычайно маломощный отряд.
– Вот именно, инспектор Плюмбум! Чрезвычайно маломощный отряд! А теперь разрешите откланяться, мы спешим.
– Я всё-таки настаиваю на проверке документов, – инспектор пытался вернуть ситуацию в правовое поле. – Тем более, мне кажется, я унюхал алкогольный запашок.
– Кто унюхал, тот и набздюхал! – не собирался сдавать позиции дядя Гриша.
– Так, Григорий Иванович, выйдите из машины и предъявите документы, иначе мне придётся Вас задержать до выяснения обстоятельств! – Инспектор выпрямился и сделал шаг в сторону. Дядя Гриша нехотя открыл дверцу и вылез из машины. Достал из нагрудного кармана удостоверение и техпаспорт.
– Чё ты какой дотошный, Плюмбум? В школе бы так учился. – протягивая документы, процедил дядя Гриша сквозь усы.
– Не плюмбум, а старший лейтенант Роман Алексеевич Блум! – прокомментировалинспектор.
Сашка наблюдал за всем из машины, не смея шелохнуться. Казалось, что он старался даже не дышать. От напряжения у него разболелась голова. В пересохшем горле першило так, словно его забили сухой соломой. Мокрая от пота рубашка прилипла к телу.
– С документами всё в порядке.
– Кто бы сомневался, блин-нафиг!
– А в ковре что?
Инспектор подошёл к машине и, встав сбоку, заглянул в утробу ковра. Странная гримаса перекосила его лицо. Левой рукой он снял форменную фуражку и тыльной стороной руки вытер вспотевший лоб. В правой руке он всё ещё сжимал документы дяди Гриши.
– Вы чё, дебилы, туда человека засунули?
– Нет.
– Как нет? А это что такое?
– Труп.
– Как труп? – опешил инспектор.
– Так. Самый обыкновенный труп, – дядя Гриша оставался невозмутим. – Тут, понимаешь, какое дело, инспектор Плюмбум... У Вальки свадьба, а Зойка прям там возьми и умри. Сердечница она. Ну, мы и подумали, что нужно вывезти тело в морг, чтобы свадьбу не испортить.
Сквозь лобовое стекло Сашка видел, что инспектор порывался что-то сказать, но как будто потерял дар речи. Взгляд его метался от ковра до дяди Гриши и обратно. Лицо побагровело.
– Какая на хрен свадьба? Кто подумал? У вас на крыше труп, идиоты вы конченные! Да я вас всех посажу! – инспектор посмотрел по сторонам, как будто что-то потерял. – Сейчас только за рацией схожу, – и направился в сторону патрульной машины.
– Отставить, старший инспектор Блум – лейтенант Плюмбум! – Дядя Гриша включил старшего по званию. – В память о незабываемых школьных годах и о скоропостижно скончавшейся Зойке, с заботой о светлом будущем Вальки, во избежание недоразумений и исключения преступления предлагаю незамедлительно отправиться вместе к главврачу районной больницы, а затем без почестей доставить тело нежданно усопшей в морг. Так сказать, под конвоем, блин-нафиг.
Инспектор подошёл вплотную к дяде Грише.
– Скажи мне, ты дебил? – произнёс он сквозь зубы, злобно сверкая глазами и тыча указательным пальцем ему в грудь. – Тебе повезло, что ты мой школьный учитель, а мой напарник дрыхнет в машине, иначе ты уже минут пять как лежал бы, уткнувшись мордой в землю, и пожёвывал травку. У меня дикое желание арестовать вас двоих и доставить в участок. Вместе с вашим «багажом». Так что заткнись и жди.
Инспектор развернулся и ушёл. Дядя Гриша залез в машину и захлопнул за собой дверь.
– Чё будем делать? – голос у Сашки предательски дрогнул. – Нас теперь посадят?
– Да не паникуй ты, блин-нафиг, – дядя Гриша достал сигареты и закурил. – Чё они нам сделают? Ну, задержат суток на двое до выяснения, а потом всё равно отпустят. Умерла-то Зойка своей смертью.
Сашке не верилось, что всё будет так просто.
– Пойду, отолью.
– Ссышь, когда страшно?
– Типа того.
Сашка вылез из машины, расстегнул ширинку и, обернувшись, посмотрел на ковёр. Ему казалось, что Зойка за ним наблюдает.
– Придёт же в голову, – пробормотал Сашка, и горячая струя мочи с журчанием полилась на землю.
4
Инспектор сидел на заднем сиденье автомобиля. Сашка слышал его тяжёлое дыхание. Дядя Гриша чувствовал себя хозяином на своей территории и без умолку болтал.
– Как там поживает твой закадычный друг Егорка?
– Да нормально. Женился, – инспектор отвечал как-то отрывисто, словно через силу. – Досталась ему квартира от бабки в Крыму. Туда уехали. Не жалуется. Только с отоплением проблемы бывают. Через генератор оно что ли…
– Генератор случайных чисел, блин-нафиг. Кому сегодня выпадет счастливое число, того и отапливают, – дядя Гриша захохотал. Сашке тоже понравилась шутка, и он улыбнулся. Инспектор молчал.
– Почти приехали, – дядя Гриша свернул на улицу, прилегающую к границе посёлка. Дом главврача оказался первым от пожарного пруда; высокий забор из плотно подогнанного горбыля прятал его от назойливых взглядов соседей. Дядя Гриша припарковал машину на газоне напротив калитки. Немного поодаль мальчишки прямо на дороге играли в футбол.
– Мы с Сашкой пойдём к доктору, а ты, старший инспектор Блум, останешься здесь следить за порядком. Смотри никого не допускай до тела, блин-нафиг.
– Валите уже, – огрызнулся инспектор.
5
Дверь открыла полная красивая женщина в цветастом халате.
– Доброго здоровьица, Антонина Васильевна, – дядя Гриша расправил усы. – Михалыч дома?
– Да где ж ему быть-то? В аккурат с огорода пришёл. Чаёвничает, – Антонина Васильевна посторонилась. – Проходи, Григорий Иванович, раз уж пришёл.
– А ты всё хорошеешь, блин-нафиг. Губы-то вон – цвета спелой вишни, и помада не нужна.
– Да полно тебе, – зарумянилась Антонина Васильевна. – В дом проходите. Пойду курам положу.
Дядя Гриша с Сашкой миновали широкий коридор, обитый вагонкой, и вошли в избу. За столом возле окна с поллитровой кружкой в руке сидел лысый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой. Увидев дядю Гришу, он поставил кружку, поднялся из-за стола и пошёл ему навстречу.
– Здорово, Михалыч!
– Приветствую тебя, Григорий Иванович! Какими судьбами? – Михалыч пожал пятерню дяди Гриши и, приобняв его за плечи, повёл к столу. – Сейчас Тонька придёт: вечерять соберём, посидим, выпьем, поговорим.
Повернувшись в сторону Сашки, добавил:
– И Вы, молодой человек, располагайтесь, где удобно.
– Да некогда рассиживаться, Михалыч, блин-нафиг. Я ведь по делу к тебе.
– Что случилось?
Дядя Гриша с Михалычем присели к столу. Сашка опустился на край табурета и уставился на настенные часы строгой квадратной формы из светло-коричневого дерева. На белом овальном циферблате с чёрными римскими цифрами замерли часовая и минутная стрелки. Хромированный маятник точным хирургическим движением рассекал пустое брюхо часов.
– Ты помнишь Зойку Сироткину?
– Это та, что училась двумя классами старше?
– Ага. Умерла она, блин-нафиг.
– Да ты что? Как же так? Когда?
– Пару часов назад. На свадьбе прям.
– На своей что ли? – Михалыч удивлённо поднял брови.
– Да нет. У Вальки – Саянова дочки. Зойка им кем-то приходится.
– Делааа, – протянул Михалыч и сделал большой глоток из кружки.
– Сейчас перед домом твоим лежит.
Михалыч поперхнулся, выплюнул чай обратно в кружку и зашёлся кашлем. Потом достал из кармана носовой платок и звучно высморкался.
– Снова твои шутки, Григорий?
– Кроме шуток, блин-нафиг.
Михалыч сощурил глаза и внимательно посмотрел на дядю Гришу.
– А чё ты её ко мне-то припёр? Разве эта комната похожа на прозекторскую?
– Да нет.
– Может, на морг?
– Нет.
– То-то и оно.
– Михалыч, мы за тобой заехали, чтобы ты нас в больницу сопроводил, блин-нафиг. Ну и справку выписал. Мы же не преступники какие, да и Вальку жалко.
– С ума сошли! – недоумевал Михалыч. Он переставил кружку на подоконник, поднялся из-за стола, и принялся мерить пространство комнаты широкими шагами, словно пытаясь догнать ускользающую мысль.
Сашка продолжал смотреть на часы. Ему нужно было сконцентрировать внимание на чём-то обыденном, чтобы не потерять рассудок.
– А что с милицией? Им что говорить будем? Положено же…
– Менты у нас с собой, – дядя Гриша повернулся к Сашке. – Сгоняй за инспектором, блин-нафиг. Пусть зайдёт.
Сашка хотел было подняться, но Михалыч остановил его:
– Не нужно. Тоньку напугаем.
Раздался металлический звон. Куранты пробили две четверти часа. Сашка от неожиданности подскочил.
– Михалыч, блин-нафиг, иди, собирайся! Пока у нас не стало на одного покойника больше. Пацан от инфаркта чуть не помер.
– Да ну вас... – Михалыч ушёл в соседнюю комнату.
Сашка разглядывал лицо дяди Гриши, жёсткую щётку усов… Временами он завидовал этому человеку, его невозмутимому спокойствию, умению находить выход из любой ситуации.
Через пять минут дядя Гриша поднялся.
– Чё-то Михалыч запропастился, блин-нафиг. Пойдем, посмотрим, куда он делся.
Они вошли в соседнюю комнату, которая оказалась просторной гостиной. На почётном месте в красном углу, где в деревнях обычно висели иконы, на хохломском журнальном столике красовался цветной телевизор. Вдоль стены, противоположной от окон, стоял большой дубовый шкаф. Дверцы его были открыты. Михалыч наполовину залез в него, и только задница торчала наружу.
– Михалыч, ты чё в Нарнию свалить решил, блин-нафиг? Тогда и Зойку прихвати. Проблем не будет.
Михалыч попятился назад и вылез из шкафа.
– Да я ключи от кабинета искал. Вот нашёл.
– Поехали уже! Нехорошо заставлять покойницу ждать, блин-нафиг. Мы мужики или как?
– Да причём тут… – Михалыч поморщился. – Тоне только скажу сейчас, чтобы ужин пока не ставила.
6
Выйдя на улицу, Сашка вздохнул полной грудью. Инспектор сидел на капоте машины и смотрел, как мальчишки гоняют мяч. Дядя Гриша молча закурил. Ждали Михалыча.
– Дядя Гриш, дай сигаретку.
– Ты чего это, пацан? Всерьёз разнервничался?
– Как раз наоборот. Впервые за сегодняшний день я чувствую себя спокойно – инспектор с нами, главврач тоже.
– Да. Дело за малым, блин-нафиг.
Дядя Гриша протянул Сашке сигарету. Тот взял её двумя пальцами, помял, понюхал и раскурил. Осталось чуть-чуть. Что ещё может случиться?
А где-то Валька в безупречно белом свадебном платье плясала под оглушительный вой артистов российской эстрады и одобрительные аплодисменты приглашённых гостей; кружила вокруг Витька, словно вокруг пилона, и не могла поверить своему счастью…
Валерий Маккавей
_______________
168326
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 28.11.2024, 23:19 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 30.11.2024, 22:26 | Сообщение # 2878 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Когда закончится книга жизни,
я напишу Тебе в книгу смерти,
о том, как ползали капустные слизни
и воробьи садились на жерди,
что я приставил к стене бани,
что примыкала к яблоням сада,
который мы посадили с Аней
в уже далеком две тысячи пятом,
я напишу про синие звезды,
я напишу про напрасные слезы,
про белую розу на стебле ветра,
Снежную Королеву,
не задавай же мне больше вопросов,
не отделяй во мне тьму от света,
отдай мне только мою Герду,
что вечно путала право и лево, –
как, совершенно замерзая в морозы,
весною рыба покидает могилы,
и как дрожат от боли стрекозы,
когда становятся шестикрылы.
***
В солдатских сапогах священник,
взойдя на кафедру, сказал,
что каждый в этом мире пленник,
я тоже слушал и молчал.
А перед ним на табуретах
стояли разные гробы,
и души пленников отпетых,
освободившись от судьбы,
как бабочки, перелетали
туда, к огням береговым,
и свечки на помин сгорали
и превращались в сизый дым.
За домом дом, за сотней сотня -
исчезли, слившись с темнотой
лишь храм горел в руке Господней,
как будто факел над водой.
***
«Сей город, называемый Авдос,
по имени латинского поэта,
был местом, где пасли овец и коз,
пока мы не построили всё это:
дома, мосты, заводы и дворцы,
и в Диком поле — наши мертвецы
не улеглись широкими рядами
под звёздами и ржавыми крестами.
И наш черёд — за мёрзлый чернозём,
за город, называемый Авдосом,
сражаться, и возможно, мы умрём.
Ты видел склянку с медным купоросом?
Вот здесь такое небо иногда,
и из траншеи, словно из колодца,
видна бывает некая звезда,
нет, я не знаю, как она зовётся,
я чувствую смертельную усталость
и сам не видел, но другим являлась.
Одна звезда в четырнадцать лучей,
волшебная, как первое свиданье,
сияла им во глубине ночей
и исполняла каждое желанье.
Рассвет над промкой теплится едва,
никак моя не кончится простуда,
пусть каждый скажет главные слова
и пусть они исполнятся как чудо.
Я верю в то, что смерть не навсегда
и что воскреснут павшие герои,
и пусть горит волшебная звезда
над городом, разрушенным, как Троя»
***
Зачем ты погиб под Авдеевкой, брат?
Что будет делать жена?
– Я был всего лишь русский солдат,
на то она и война.
Мне в самое сердце ударил дрон
и душу выпустил вон.
И видит душа моя – взят Коксохим,
и наше знамя над ним.
Я вижу цветущий и мирный Донецк,
я вижу победный войны конец,
и в праздничном небе я вижу салют,
и больше меня никогда не убьют,
а ты, если встретишь, скажи моей,
что любит ее Андрей.
***
Господь умирает по-русски,
спокойно и с чистой душой.
Он в поле лежит за разбитой межой,
и кровь у Него на разгрузке.
Не верь пропаганде, лишь этому верь:
Господь умирает по-русски теперь.
Но снова со смертного одра встает,
выходит из внешнего мрака.
И снова за Ним поднимается взвод
в которую за ночь атаку.
И вновь канонада - до звона в ушах,
и смерть низвергается с неба,
дрожит, как листок на осине, душа,
но надо дойти до укрепа,
и танки выходят на выстрел прямой,
вставай же - осталось немного,
и в мороке огненном перед собой
ты видишь бегущего Бога.
***
Сорок лет войны пузырится пена,
деда учит внука стрелять с колена,
поднимает винтовку и бьет, прицелясь,
пуля попадает солдату в челюсть,
и он корчится в луже на черноземе.
Городской телефон оживает в доме:
"Здравствуйте, с вами говорит Моторолла,
президент наш выходит еще на татами?
Жаль я не могу подняться из гроба,
сорок лет лежу в этой яме с цветами,
знать бы, что да как у вас получилось!"
Дед кладет на рычаг горячую трубку:
"Это было взаправду или приснилось?" -
говорит стоящему рядом внуку.
Над донецкой степью пылают звезды,
дед и внук ползут в грязи по нейтралке,
и над ними, с воем врезаясь в воздух,
всё летят в обе стороны катафалки.
***
Одна другой говорит:"Не реви.
Они герои войны.
Поставят в Донецке Спас-на-крови
на средства со всей страны.
И будут их имена сиять
на мраморе навсегда.
Давай товар раскладывай, мать.
Масло поставь сюда.
Твой-то был завидный жених.
А мой шебутной, как я".
И с неба донецкого смотрят на них
бессмертные сыновья.
***
Мы не увидимся с тобой.
Мне снились ржавые патроны
в воде прозрачно-голубой.
От огуречного лосьона
старинный плоский пузырек
я видел на прибрежной гальке,
в нем - водоросли и песок.
Над катером кружились чайки,
ты в нем сидел - ко мне спиной,
а рядом был старик огромный,
тот берег - белою стеной
проглядывал в тумане, словно
манил к себе великой силой
и бесконечной красотой.
Проснувшись, "Господи, помилуй"
шептал я в комнате пустой,
очки нашарил на полу,
умылся и в печи золу
до красного разворошил,
и чай в стакане заварил.
Во сне мне показался слишком
спокойным гулкий голос твой.
Давай обнимемся, братишка,
вдруг не увидимся с тобой.
Где шли бои - там лес и поле,
где ночь - там в окнах яркий свет,
травою сделались герои,
но смерти, как и прежде, нет.
Есть наш, один во всей Вселенной
небесный Иерусалим.
Какую Бог назначит цену,
такую мы и отдадим.
***
Когда закончится война,
я знаю, будет ночь без сна,
мы первый выпьем за Победу,
и за товарищей - второй,
а к третьему - с границы света
потянется походный строй
солдат, погибших за свободу.
За взводом - взвод, за ротой - рота
у бесконечного стола
они стеной безмолвной встанут,
колеблясь, как живая мгла.
Над городом салюты грянут,
и это будет мирный гром,
и будут песни фронтовые,
и мать - за праздничным столом
заплачет, как сама Россия,
о светлом мальчике своем.
***
Я мерз, моя рука болела,
я просыпался то и дело,
рукой махал, таблетки пил,
луна в окно мое смотрела,
и лунный свет, густой, как ил,
стекал на стол и на предметы,
что я оставил на столе,
на телефон, очки, рецепты,
на черновик в печной золе.
И всё. Вот цепь событий главных,
непостижимых, достославных,
вот вся основа бытия.
Октябрь. Поет душа моя,
как лунный свет на ветках голых,
простые песенки свои,
и мир вокруг все так же полон
надежды, веры и любви.
Течет река, горит звезда,
летают в небе птицы.
Привет от бравших города,
любимая столица.
Пусть наши губы изо льда,
из грохота и дыма,
встречай нас, Родина, всегда,
как мать родного сына.
Встречай нас, Родина,
привет,
готовь свои подарки,
ни времени, ни смерти нет,
есть только фото в рамке.
Мемориал и монумент
на каменной Варварке.
***
Моей звезды на небе нет,
моя звезда давно погибла,
я сам себе пустынный свет,
как паутина, что налипла
на все пространство целиком,
я соткан древним пауком,
Арахна в сны мои проникла
и стала русским языком.
Я чувствую на нитях звезды,
как будто утренние росы,
я обнимаю города,
материки и океаны,
я дождь, я морось, я вода,
вино из галилейской Каны,
и мрак ночной, и воздух горный,
и хлебец, брошенный врагу,
и пятна красные у Черной
замерзшей речки на снегу.
***
Какие-то волшебные растенья,
растущие под снегом, в темноте,
паучьи лапы – голые деревья,
две ягоды прозрачных на кусте,
два фонаря на маленьком причале,
холодное дыхание зимы
и тишина, и гладь речной волны, –
как зеркало из вороненой стали.
Я вышел в ночь, и снег обнял меня,
как женщина, которая однажды
пришла ко мне и встала у огня
под покрывалом ненасытной жажды,
и сильными горячими руками
виски мне сжала. – Ты была одна?
– Всегда одна, всегда тебя искала.
Казалось мне, что ты стоишь в тумане,
как Инженерный замок – мрачен, пуст,
и только элетрическое пламя
касается твоих гранитных уст,
но не воздушно-пламенные струи
должны касаться обнаженных чувств,
а тихие, как тайна, поцелуи.
Вот ты, вот я. Прекрасен наш союз.
Жизнь движется из домотканой детской
сквозь время – к неизбежному концу,
как бабочка, что пролетела Невский
и улетает к Зимнему дворцу.
Всё кончится. Останется полет
над фарами слепящими зимы,
над городом, почти замерзшим в лед, –
белесый в небе прочерк. Это мы.
Снег падал на деревья и на крыши,
и медленно я к набережной вышел.
***
Оставшимся на поле боя,
впечатанным в огонь и дым,
скажи чего-нибудь такое,
как будто в утешенье им,
про предстоящий Новый год
и про апостола с ключами,
что сын растет и дочь растет,
и что жене, ну то есть маме,
отдали смертные сполна.
Жена садится у окна
и молча смотрит на дорогу,
и варит детям суп. Она
их очень любит, слава Богу.
И свысока, издалека
снег сыпет, превращаясь в кашу.
И движутся вперед войска,
освобождая землю нашу.
***
От капустного листа
до картофельного поля –
всё знакомые места,
непонятные до боли.
Церковь, рядом магазин,
жизнь направо, смерть налево,
голые персты осин
молча указуют в небо.
Надвигается зима,
она будет дольше прежней,
снова внутренняя тьма
будет спрашивать у внешней:
Кто Ты, русский Бог живых,
и Тебе какое дело
до печали остальных,
в ком душа не уцелела?
Будут ходики стучать,
лисы бегать через реку,
снова будет Бог молчать,
отвечая человеку.
Дмитрий Мельников https://stihi.ru/avtor/milleroff - https://t.me/s/DmitryMelnikoff/395
______________________________________________________________________
168421
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 30.11.2024, 22:27 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 04.12.2024, 13:12 | Сообщение # 2879 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Донецкие одноклассники https://ic.pics.livejournal.com/prilepi....nal.jpg
Основано на реальных событиях.
***
…они всегда угорали и жили на всю катушку —
Их так научили русские папки-мамки,
Что раздавали лещей и в кровь надирали уши,
Когда они поздно возвращались домой с рыбалки.
Они жили в одном дворе, волокли на линейку розы,
В классе одном учились, ходили в одни гальюны
Три п**дюка — Лёва, Бабай и Козырь,
На Донбасскую Первую пришлась их юность.
Улыбчивые шалопаи в свои не совсем семнадцать
Поступили по-хулигански, сделав из дома тапки,
Их занесли в пираты, комбат не стал разбираться —
Но они едва ли успели наиграться в танки.
Ведь потом были «минские», служба, где ждали часа,
Жевали рутину, курили бамбук, били друг другу рожи,
Ну а когда в феврале началась эта вся катавасия —
Жадно соревновались, кто больше из них отморожен.
Бились в первых рядах, в Мариуполе шли на штурмы,
Прикрывали товарищам спины, не жалели врагам «морковки»,
А потом у костра фронтовые шутили шутки,
Военной измазаны славой, как сажей средневековой.
Козыря вспоминали перед финишем командировки,
Козырь погиб последним, он был больше других улыбчив,
Когда ровно в семь, после нашей артобработки,
Уходил настрелять жовто-блакитной дичи.
Лёву убило первым, подлый прилёт в окопы,
Били из самоходок, корректировка с «птичек» —
Раскромсали его осколки, острые, как синкопы,
И из трёх одноклассников одного шалопая вычли.
Долго потом бухали, клялись, что теперь — ни пяди,
Что отомстят за друга, Козырь твердил Бабаю,
Что им двоим отныне, в их взрослые двадцать пять,
Нужно жить за троих, даже если так не бывает.
На штурмах затёрлась боль, они дальше опять рубились —
Щедрые на раздачу шустрых боеприпасов.
И вот однажды на них взвод правосеков вылез,
И стали они вдвоём разматывать пидорасов.
Зажали их у домов, на окраине самой Песок,
Козырь бил с РПГ, Бабай прикрывал улыбаясь —
Оставался один рывок, буквально один отрезок,
Чтобы уйти в укрытие. Пулевое нашло Бабая.
Козырь был ранен, но после вернулся в группу —
Всё так же был отморожен, но меньше стал улыбаться,
Ведь теперь, поднимаясь каждое Божье утро,
Некого подколоть про классуху байкой по рации…
До больницы его успели, но сердце тряслось на лямке —
Не вытащить с того света, их в могиле сегодня трое,
Как и в списках прогульщиков. Ревут молодые мамки
Трёх п**дюков, трёх одноклассников, трёх Героев.
***
Не успели
Отдельные сюжеты, увиденные в месиве этой войны, врезаются в сердце и память навсегда. «Донецкие одноклассники» - это, если честно, моя первая попытка документальной баллады, попытка зарифмовать такой сюжет. Поводом - увы, трагическим - для ее написания послужила недавняя гибель под Водяным одного из героев этого стихотворения и история трёх лучших друзей из родного мне штурмового батальона «Сомали».
С Лёвой, Бабаем и Козырем я познакомился во время самых горячих боёв за Мариуполь, эта троица воевала под командованием легендарного Воробья и вытворяла просто чудеса штурмовой акробатики. Все они были мальчишками, всегда весёлыми - несмотря на окружавший ужас и хаос - и всегда держались вместе.
Позже, мне рассказали, что мамы Лёвы и Бабая - лучшие подруги и парни знали друг друга совсем с пелёнок, Козырь - был их чуть постарше и влился в семейную тусу уже позже, когда они все втроем начали служить в одном подразделении. Сам он вообще был из интерната, рос без родителей. Когда Лёва с Бабаем погибли, их матери так ему и сказали: мол, всё, ты нам как сын и теперь будешь отдуваться за двоих. Они переживали и очень болели за него.
В итоге, на днях разговаривая с Воробьём, я узнал, что Козырь был тяжело ранен во время обстрела под Водяным, ему оторвало руку и ногу, он потерял много крови, до больницы довезти успели, делали переливание, но сердце не приняло кровь, парнишка умер на операционном столе.
Я видел его последний раз в день своего ранения, мы как раз вспоминали с ним Лёву с Бабаем и он, обычно улыбчивый и жизнерадостной, с грустью рассказывал, как остался один из этой залихватской троицы (все они, кстати, были пулеметчиками). Помню хорошо, с каким задором после Мариуполя он, интернатовский, твердил о том, как срочно хочет свою семью и детей.
Не успел.
А две лучшие подруги остались без своего последнего, общего сына….
Семён Пегов https://t.me/s/wargonzo?before=9854
__________________________________________
168615
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 04.12.2024, 13:13 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 06.12.2024, 18:24 | Сообщение # 2880 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Тот погребок мы нарекли Плацкарт:
Как будто бы в прокуренном вагоне
На поезде "Анапа - Ленинград"
Трясёмся, мчим... Торговки на перроне
Суют в окно пивко и пирожки...
Работает арта в сырой ночи,
И стрелкотней срезает где то ветки.
Бьёт "саушка", дрожит соседний двор,
Оглохший кот сигает за забор,
И значит скоро прилетит ответка.
"Не попадут", - закуривает Галл.
Плацкарт наш тесен и настолько мал,
Что это надо очень постараться
В него попасть.
Короткий свист.
Разрыв.
Наш поезд вздрогнул, рельсы укротив,
Но не упал и даже не сломался.
Мы открываем банку огурцов -
Запас семьи, что здесь жила когда то,
Довольные, хрустим с набитым ртом...
В трех метрах у канавы труп солдата,
На рукаве кроваво-синий скотч.
Таков удел. Солдату не помочь.
Противник мёртв, и нечего тут плакать.
Он будет вечно, беспробудно спать.
"Хохла с рассветом надо закопать,
Пока на запах не пришли собаки", -
Промолвил Галл.
Мне кажется, что нас,
Уставших, грязных, - в предрассветный час
Разбудит молодая проводница
И пожелает доброго пути.
Её улыбка в отсветах зари
Потом, через года мне будет сниться.
С утра мы закопаем старый труп,
На таганке согреем кружку чая.
Вернется кот, забывший ласку рук,
И мы, любую живность привечая,
Откроем ему банку тушняка.
Он будет есть, пока молчит арта,
Поглядывая нервно, исподлобья, -
С него давно слетел домашний лоск...
Наш поезд едет к станции Покровск,
Но он прибудет завтра - не сегодня.
(Дмитрий Филиппов)
***
4. Блудный отец.
Мы разругались с отцом три года назад, на годовщину смерти матери. Он с вечера ходил хмурый, раздраженный. Засыпая в бабушкиной комнате, я слышал, как он о чем-то тихо спорил с новой женой. В шепоте угадывались извиняющиеся нотки. А утром мы пили чай на кухне, и отец сказал:
- Я не пойду на кладбище. Оля против. Ты один сходи...
- Пап, ты чего? - я помахал рукой перед его лицом. - Это же мама!
Он встал из-за стола и отвернулся к окну.
- Я знаю. Просто я не могу.
- Это свинство!
- Чего ты душу мне рвешь? Я просто пытаюсь жить дальше. Как умею.
- Неплохо умеешь. На этой вон женился... Секаса не хватает?
- Не борзей.
- Посмотри на себя, в кого ты превратился. Ты же маму предал.
- Еще одно слово, и я вышвырну тебя вон.
Отец напрягся. Было видно, как сжались плечи, потяжелела спина. Тесное пространство кухни не вмещало в себя ситуацию, да и никакое пространство не могло ее вместить. Разве что оградка маминой могилы. Я не видел его глаз и не знал, что он чувствует (голос жесткий, холодный -- не определить). А в моей душе ржавели обида и усталость, и разочарование, и злость. Как будто на твоих глазах котят топят, они пищат, ворочаются в мешке, а ты ничего сделать не можешь. Стало понятно, что точка невозврата была уже пройдена. Ну что я мог ему ответить? Вариант был только один, мы оба понимали это. Время шло на секунды. Я знал, что он не обернется, не схватит меня за плечи, не тряхнет, как куклу, обволакивая больным взглядом. И тогда я ответил, вбивая каждое слово ему в затылок:
- Ты больше мне не отец.
Молча собрал вещи. Кинул в пакет рисовую крупу, конфет, достал из холодильника приготовленную с вечера бутылку водки. Отец продолжал стоять у окна. Не обернулся, не вышел в прихожую проводить.
Я вырвался из подъезда в холодное сентябрьское утро и зашагал на автобусную остановку, оставляя за спиной чужой дом, чужого отца и свое прошлое. Ночью прошел дождь, и асфальтовая дорога была сплошь усеяна мясистыми кляксами раздавленных лягушек. Такова жизнь -- все самое паскудное происходит внезапно. До кладбища я так и не доехал. Напился по дороге.
Через месяц я ему позвонил, хотел объясниться, но он не взял трубку. И не перезвонил. Я почувствовал облегчение в тот момент. Значит, все идет правильно. Каждый из нас сделал свой выбор.
Городок встретил меня сонно и равнодушно. Наверное, все провинциальные городки похожи один на другой. Помните зачарованного Теодена, короля Рохана из киноэпопеи "Властелин колец"? Сидит дряхлый старик на троне, щеки впали, глаза мутные, подернутые белесой пленкой, губы еле шевелятся, озвучивая унылый маразм. Вот так и провинция. Морок этот впаян крепко и безусловно; родившийся в провинции впитывает его с молоком матери. Морок этот гнет плечи, сутулит спины и плотно держит цепкими пальцами за кадычок. Соскочить удается немногим, выдирая глотку с мясом и кровью, по живому. Только соскакивать все равно надо. Когда мир начнет корчиться в агонии, - бесчисленные поселки, городки, деревни вяло разлепят ресницы и будут молча ждать приближения конца. Лишь в глубине сонных глаз мелькнет отблеск долгожданного облегчения.
Ничего не изменилось за те три года, что меня не было, только прибавилось ям на дорогах и стало больше бездомных собак. Они бегали стаями из двора во двор, нагло забирались в помойные баки, облаивали прохожих и, казалось, чего-то ждали.
Дверь открыла Кира, моя сестренка. Открыла, не спросив, увидела меня и сразу попыталась захлопнуть, но я уже входил, отталкивая ее вглубь коридора. С криком: "Мама, этот приехал", - она побежала в большую комнату, сверкая голыми пятками. В коридор вышла Оля.
- Мать честная, блудный сын явился.
- Тебя не спросил. Отец дома?
- На работе.
- Ничего, я подожду.
В моей комнате все изменилось. Проще говоря, не было моей комнаты. В ней сделали ремонт, переклеили обои, выкинули старую мебель. Новые шкаф, тумбочка, кровать, занавески... Все новое и безликое, не имеющее памяти. А вещам, как и людям, необходимо прошлое, чтобы выглядеть если не живыми, то хотя бы одухотворенными.
Оля молча зашла в комнату, кинула на кровать постельное бельё и так же молча вышла, аккуратно прикрыв за собою дверь. Я стал разбирать рюкзак. Выложил зубную щетку, пасту, мыло, бритву, свежую рубашку, свитер, носки, томик Сарояна "Приключение Весли Джексона". Все. Как мало на самом деле нужно для путешествия. Не имеют значения сроки и расстояния: то, что не влезает в твой рюкзак, не заслуживает права в нем находиться.
Мачеха крикнула из глубины коридора:
- Иди поешь. Суп на столе. Остынет.
Я долго мыл руки под струей горячей, обжигающей воды; плотно растирал кусок мыла, пока пена не скрыла полностью худые ладони, потом смывал, доводя кожу до скрипа. Какую грязь я хотел смыть? Я и сам толком не знал.
На кухне пахло варёным луком и уксусом. Такой не родной, противный запах, раздражающий ноздри. Его никогда раньше не было, а вот взял, появился, напитал собой воздух, вычеркивая меня из этих квадратных метров.
Я сел за стол, занёс ложку и замер на полпути. По центру тарелки плавал сочный сопливый плевок.
Посмотрел на сестру - Кира старательно прятала глаза. Красивый, но неприятный ребенок. Волосы густые, белесые, как у мамы, а губы и подбородок отцовские, в любую секунду готовые задрожать; взгляд карих глаз верткий, не пытливый, а выпытывающий.
- Тебя где так плеваться научили? - спросил я.
- В школе.
- Ясно. А брата уважать тебя в школе не учили?
- Мама говорит, что ты мне не брат, а приблуда.
- Мама говорит... - передразнил я. - А сама как считаешь?
- Никак.
Она о чем-то задумалась, а потом выпалила:
- Дай пятьсот рублей.
- Ишь ты! Зачем?
- В МакДак схожу.
- Обойдешься. На вон, лучше супу поешь. - Я придвинул к ней тарелку и встал из-за стола.
- А ты правда болтаешься, как говно в проруби? - Звонкий её голос цвел недетской иронией.
- Правда.
Отец вернулся домой под вечер, небритый, грустный и во хмелю. Я думал, что буду рад его увидеть, но, когда мы обнялись, и он ткнулся мне в лоб щетинистым подбородком, изо рта шибануло перегаром, - жалость развернулась в душе. Это была особенная жалость, ни на что не похожая, потому что она не приносила облегчения и накаляла рождающиеся слова еще до того, как они будут произнесены. Собственно, ничего не изменилось за три с лишним года.
- Ну, здравствуй, Андрей.
- Здравствуй, - ответил я.
- Устроился?
- Вроде того. Только вещей своих не нашел.
- Отвезли к деду в деревню. Извини.
- Ничего. Все ровно.
Мы разговаривали о всякой ерунде, и я никак не мог понять, что же в нем изменилось. Морщин прибавилось над переносицей, мешки появились под глазами, седина окружила проплешину на затылке... Но это все внешнее. А ведь что-то печальное, непоправимое произошло внутри него, и я никак не мог уловить эту спрятанную ноту.
- Веру Родионовну помнишь? Над нами жила?
- Ну.
- Умерла на днях. Онкология. Она и так всю жизнь худая была, а в последние месяцы совсем высохла. Я ее одной рукой поднять мог. Не напрягаясь.
Я вспомнил сухопарую невысокую старушку, вечно всем недовольную. Старая дева. Всю жизнь прожила одна. Учась в школе, я делал "дымовухи" из линейки и подкладывал ей под дверь. Она мерзко жаловалась отцу, и тот драл меня за уши, оттягивая их до красноты, почти отрывая.
- Оказалось, у нее сын есть, - продолжил отец. - Приехал откуда-то с севера, сейчас квартиру на себя оформляет. Даже на похороны не явился. Ее и не хоронили. В крематории... - Он замялся и не стал заканчивать фразу.
- И так бывает, - произнес я.
- Может по пять капель за встречу?
- Нет, я не пью сейчас. В праздники хорошо отметился.
- Как знаешь. А я выпью.
Он достал из шкафа початую бутылку коньяка, пузатую стопку. Налил себе до краев и осушил одним махом. И уже просвечивалась в этой торопливости стойкая алкоголическая жажда.
- Ты знаешь, - что-то живое зазвучало в голосе, - мне часто снится лодка. Тусклый свет лампочки в отсеках, трещат переборки на глубине, плещется балласт в цистернах. Я даже запах чувствую: спертый, соленый и такой вкусный, родной. Я прохожу из отсека в отсек, а никого нет. Только лодка и я. И в этот момент я понимаю, что она живая, умеет думать, способна чувствовать, и мы с ней как-будто связаны невидимой ниткой. Мне плохо -- и она на борт заваливается; мне хорошо -- и лодка идет ровно, радостно. А потом вдруг наступает тишина, как в фильмах ужаса, и сразу же верещит сирена, зажигаются аварийные лампочки, и рвется нить между мной и лодкой. Страшно становится до чертиков, а лодка, потеряв меня, не чувствуя связи, уходит носом в глубину с жутким дифферентом (такой уже не выровнять, даже если все цистерны продуешь). Сжимаются переборки с треском и хрустом, манометр зашкаливает, а я вдруг понимаю, что это сон, но просыпаться мне нельзя, нужно выровнять лодку, вытащить ее на поверхность. Откуда-то из глубин памяти доходит, что если увидишь во сне свои руки, то можешь управлять сном. И я смотрю вниз -- ничего не видно. Лодка дрожит, аварийная лампочка мигает красным светом. И тогда я пытаюсь поднять руки и поднести их к глазам, но в них будто свинца налили, тяжесть нечеловеческая. Становится обидно, как ребенку, у которого конфету отобрали. Спасение рядом, а ты ничего сделать не можешь. И вдруг картинка меняется. Я уже не в лодке, а снаружи, на глубине, плаваю эдаким красивым дельфином и вижу как тонет мой корабль. Глубина мерцает зеленоватым светом, все видно, хотя должна быть тьма кромешная. А сон разбивается на кадры, идет с такими паузами: лодка приблизится ко дну и остановится, снова приблизится и снова остановится. И перед самым ее падением на дно я просыпаюсь. Глаза на мокром месте, сердце колотится. Выхожу в туалет покурить, а потом долго уснуть не могу... Как думаешь? Это ведь снится мне неспроста?
- Попробуй помолиться.
- Пробовал. Серьезно пробовал. Не помогает.
- Налей мне тоже, - произнес я.
Мы выпили, легонько чокаясь. Отец сидел не радостный и не хмурый, но будто потерянный, заплутавшийся в трех соснах. Он растерял предметы, к которым можно прикипеть кожей, костьми, прикипеть не ради мещанства, а чтобы жизнь оставалась наполненной смыслом. Лодка, мама, я, Дальний восток, - мы являлись этими предметами. Он их растерял. Думал, что сможет нажить новые -- не вышло. Новые предметы оказались иного масштаба, чужой эпохи. А ведь ничего уже не исправить. Это как склеить чашку: пить можно, но выглядит уродливо.
Бесшумно возникла Оля, порезала лимон, разложила сыр, колбасу на тарелки и так же незаметно удалилась.
- Вообще плохо спать стал. День через день. Вернее, ночь... В общем, неважно. Как у тебя дела? Когда внука мне подаришь?
- А ты внука хочешь? Ни за что бы ни подумал.
- Годы идут, годы. - Отец сделал вид, что не заметил иронии. - Я их тормозить пытаюсь, придержать за узду, а они скачут в своем темпе, болезненные, лихорадочные. Я раньше не любил стариков. Ущербные, немощные и сморщенные, - они казались мне ошибкой природы. Их нужно ждать, уступать им место, пропускать в очереди, переводить через дорогу, терпеть их брюзжание, жалеть, уважать... Тьфу! А сейчас чувствую, как сам в скором времени превращусь вот в такого шаркающего, никому не нужного. Сколько мне еще бодрых лет? Пять? Десять? А дальше? Кто мне хлебушек жевать будет? Ты? Кира? Оля? Кто?
Я молчал, ничего не говорил в ответ. А отцу казалось, что если я не возражаю, значит, соглашаюсь, молчаливо одобряю его скорбный пафос.
- Скажи, Андрей, что я не так сделал в этой жизни? В какой момент произошла ошибка и все пошло наперекосяк?
- Я не знаю, - соврал я.
- Не лгал, не подставлял, не предавал. - Он стучал кулаком по столу, жестко вбивая каждый глагол.
- Папа, хватит.
- Любил жену, вырастил сына. О, даже дерево посадил. Помнишь, у деда в деревне яблоньку купили - саженец - и посадили за баней? Помнишь? По-о-омнишь. А недавно звонил деду, как, говорю, яблонька моя? А никак, говорит. Пятый год яблок не дает. Срублю, говорит... Я все делал по совести. Так за какие грехи я не сплю по ночам, зачем лодка мне снится? А по утрам работа из рук валится, тошно, хоть в петлю лезь.
- Перестань.
- И ни одна блядь мне руки не подаст, по плечу не хлопнет, не подмигнет. Что, капитан третьего ранга, Вознесенский Валерий Викторович, обосрались? Так точно, тащ Бог, по полной программе.
Он не был пьяным, - выпившим малость, не больше. Но вся боль, которую он копил долгое время и не давал выхода, внезапно хлынула горлом, и было ее не остановить. Отец уже и не пытался. Морщился, бил кулаком по столу, смотрел мне в глаза, остро и цепко, выедая подтверждение своим словам, а потом внезапно ронял голову на грудь, больно сглатывал и тяжело дышал ртом, чтобы не зареветь. На проплешине выступили капельки пота. Лицо раскраснелось. Он вяло закусил куском колбасы, разлил остатки коньяка.
- А давай к деду в деревню рванем? Прямо сейчас. - Взгляд его оживился. - Баньку затопим, как в старые времена, выпьем, поговорим...
- Поздно уже.
Он криво усмехнулся.
- Да, ты прав. Поздно.
А потом он выпил коньяк, не чокаясь со мной, закусил лимоном, аккуратно отставил стопку в сторону и начал говорить, глядя мимо меня.
- Оля у меня молодец, все понимает, не лезет с расспросами. Живем душа в душу. Она в "Пятерочке" работает, продавец-кассир. Зарплата небольшая, но ничего, крутимся. Я снова инженером на ТЭЦ устроился. График сменный, удобно. Работа не пыльная - следи за датчиками приборов; чаек, кроссворды, пиво после смены. По выходным гуляем, магазины, посиделки. Ничего, жить можно. Стабильность появилась, уверенность в завтрашнем дне. Не то, что раньше.
- Это ты к чему?
- Кира растет не по дням, а по часам. Платьица ей нужны, туфли нужны, косметика детская, телефон хороший, игрушки всякие. Все денег стоит, все не просто так. Ты теперь сам знаешь, как деньги зарабатываются. Да и я на ржавой "семерке" езжу, заводится через раз. Надо карбюратор чистить, сцепление барахлит, регулировать надо, холостой ход плохо держит. А зимой так вообще беда - глохнет постоянно. Надо менять машину. Я уже присмотрел себе Logan, трехлетку. Но на все деньги нужны. Замкнутый круг какой-то.
- Пап, ты чего?
- Но я не жалуюсь. На днях хотел матери позвонить, бабушке твоей, да потом передумал. Как считаешь, может, зря передумал?
Он говорил и не слышал меня. И не для меня говорил. Как школьник, вызубривший урок, монотонно отвечает у доски, не вдумываясь в смысл произносимого, с одной мыслью: не забыть, отбарабанить слово в слово и получить пятерку, - так и отец сейчас разговаривал сам с собой.
- А ведь я наврал тебе. - Он продолжал смотреть мимо, вскользь, на чертика за моим левым плечом. - Не был я на могилке, оградку не красил. Вообще не знаю, как там все. Покосилось? Заросло? Не знаю. И знать не хочу. Потому что жизнь идет дальше, и нам надо в ногу идти, шаг в шаг, след в след. А задумаешься, помедлишь на секунду, и все, пропал. Не догонишь, заблудишься. Я раньше тоже думал, что все просто, что всегда есть выбор, а потом понял, что выбора нет. Это только в книжках правда одна, а в жизни много правд, и каждая правда верная. И ошибок никаких нет.
Мне захотелось встать и уйти. Что-то неприятное, мерзкое было даже не в словах, а в самой интонации, в голосе. Я сидел и думал о том, что этот человек не может быть моим отцом. Только не он. Но ведь нельзя без отца. Кто-то обязательно должен быть моим отцом, иначе как я на свет появился?
- Оля по вечерам "Дом-2" смотрит, переживает, ну, совсем натурально. Говорит, вот это настоящие проблемы у людей. Они, конечно, тупые, но такие живые, искренние, их так жалко. Я улыбаюсь, ничего, пускай смотрит. Она молодая еще, ей интересно. Кира планшет какой-то хочет, у всех, мол, в классе есть. А где денег взять?
- Посмотри на меня, пожалуйста. Папа, посмотри мне в глаза.
Не смотрит. Только сглатывает нервно.
- Вот мы и решили. Ты с нами все равно не живешь, а комната мертвым грузом висит. Будем менять квартиру на "двушку" с доплатой. Правильно, как считаешь? Я на Logan пересяду, оденемся, обуемся, кухню купим нормальную. Тебе что-то останется. Ну, правильно же мыслю? А за наследство не переживай. Тебе и Кире все отпишу. Сами потом решите, поделите... Только сейчас тебе выписаться надо из квартиры. У Оли знакомые в паспортном столе, все быстро сделаем, без очередей, без проволочек. А пропишешься у деда в деревне. Он не против. Я, правда, с ним не разговаривал. Он, как голос мой слышит, сразу трубку бросает. Но он согласится. Дед же. Родной. А нам надо дальше жить.
И он решился. Посмотрел в глаза. Взгляд прямой, смелый, уверенный в своей правоте. Только в глубине глаз, на самом дне зрачка что-то дрожит еле заметно.
- Придумал про яблоньку? - спросил я.
- Что?
- Дед ведь не разговаривает с тобой.
Он заморгал часто-часто, а потом расхохотался во весь свой желтый рот.
- Ишь ты, молоток! Подловил отца, поймал на крючок...
Дрожали плечи, ходуном ходила грудь. Он смеялся и всхлипывал, смеялся и всхлипывал. Выступили слезы на глазах, но было не понять: это от смеха или от стыда.
- Все, хватит, - хлопнул он ладонью по столу. Смех оборвался мягко, бесшумно, как лопнувшая нейлоновая струна.
- А если не выпишусь?
- Решим через суд.
- Ну, ты и тварь, папа...
- Дай Бог тебе не оказаться на моем месте.
Атомная подводная лодка проекта 670 "Скат" зарылась носом в песчаное дно, замерла на мгновение, вздрогнув от удара, и упала на грунт. Линии вала сместились вперед, разгерметизировались сальники выхода вала за борт, за ними переборочные сальники, и хлынула с кормы в лодку плотная, густая, черная морская вода. Корабль замер навсегда.
Удар был сильный, но не смертельный. Это я уже не о лодке - о себе. Спасибо, папа, тебе за все. За то, что родил, вырастил, воспитал. За то, что предал сначала мать, потом бабушку, потом меня. Спасибо, что научил не жаловаться, не плакать, не бояться и ничего не просить. Все еще пытаешься научить не верить, но здесь проблемы: ученик уперт и бестолков. Спасибо за то, что в детстве я гордился тобой. Гордился силой, когда взирал на мир с высоты твоих крепких плечей. Гордился мужеством, когда втайне от тебя и от мамы доставал твои медали и цеплял их на детскую бессовестную грудь. Спасибо за честность. Спасибо за то, что учил не сдаваться. Я и сейчас не сдамся. Тебе назло. Спасибо за то, что превратился в сволочь и подлеца: теперь я буду знать, как происходит это превращение. Спасибо за все и гори в аду!
Я лежал не в своей комнате, на чужой кровати, пытался сосредоточиться на Сарояне, но строчки плясали перед глазами, буквы прыгали, как кости в пустом стакане, а смысл слов доходил с трудом, прорываясь из вакуума. Игра в испорченный телефон.
Стены в панельной пятиэтажке тонкие, почти из картона. Это один из минусов великого прошлого моей страны: дома строили серые, безликие, штампованные под копирку. Не потому что пилили деньги. Нужно было построить как можно больше домов в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить жильем всех. Обеспечить всех не удалось. Великая страна рухнула, в ее развороченное сердце хлынул яд либеральной демократии. Но стены домов не стали от этого толще.
Я слышал, как ложится спать отец со своей женой, как скрипит пружинами диван, как они ворочаются, устраиваясь поудобнее, о чем-то шепчутся вполголоса. А потом он начинает ее драть. Сначала тихо и медленно, сохраняя видимость приличий; Оля старается не стонать, но стены, стены - их не исправить! - не глушат даже тяжесть ее дыхания. Потом прорываются стоны, раздаются ритмичные шлепки. Судя по звуку, он трахает ее сзади. Задолбали, уроды!
Громко стучу в стену кулаком. Три раза. Они затихают, но через какое-то время продолжают снова. Оля уже никого не стесняется, стонет часто, сладко и с издевкой. Шлепки ускоряются. Отец, видимо, решил поставить рекорд, вышел на спринтерскую дистанцию.
Зачем я приехал? Ведь все было понятно еще три года назад. Я сказал свое слово - он сделал выбор. Все. Ничего лишнего. Ни упреков, ни елейных объяснений. Зачем я сейчас все это терплю? Можно испортить им жизнь, не выписываться из квартиры, нанять адвоката и через суд добиться размена. Все это можно сделать. И, наверное, нужно поступить именно так. Потому что подлецов надо учить. Потому что подлость и предательство не должны оставаться безнаказанными. Но в тот самый момент, когда я об этом подумал, я уже знал, что никогда так не поступлю. И дело здесь не в принципах, не в родстве и не в крови. Если я так сделаю - он победит. Я стану таким же. Это паскудное противоречие невозможно объяснить рационально, но я четко знаю, что должен сделать: выписаться из квартиры и забыть о существовании отца. И никогда его не прощать. Так будет правильно. Только так и будет правильно. А человек всегда знает, прав он или нет, совершая поступок. Всегда.
Отец не соврал, формальности заняли полчаса. Никаких очередей, коридоров, заявлений. Оля сама все написала, о чем-то переговорив с паспортисткой. Я только подпись свою поставил. В паспорт плюхнули едкий штамп о выписке... И ничего не екнуло в сердце. Так я остался без дома.
- Ты не переживай, - суетливо затараторил отец, - Наследство на тебя и Киру оформлю. Продадим квартиру, я тебе позвоню.
- Хорошо.
Я знал, что это ложь. Он, вероятно, тоже об этом знал. Да и какая разница, позвонит он или нет? Никаких денег от него я брать не должен. Для меня это было ясно. Мысль оказалась легка, свежа и приятна. Ни копейки. Никогда.
Мы вышли из здания МВД. Ударило в глаза зимнее солнце, легкие наполнились морозом и свежестью. Ломко захрустел плотный снежный наст под ногами. Облезлая собака погнала вдоль дороги такого же облезлого кота, заливаясь от гневного лая.
Перед тем как уйти, я обернулся к отцу и сказал с улыбкой:
- А ведь тебе жить с этим. До самого конца.
Я шел и улыбался. Чувствовал спиной его злой, растерянный взгляд. Я шел и ни о чем ни жалел. В душе были мир и покой. Так всегда бывает, когда делаешь выбор, а он оказывается правильным. И стоило жить, и работать стоило.
На автобусной станции я заглянул в окошко кассы и спросил:
- Скажите, "семерка" когда пойдет? Мне до кладбища надо.
- Маршрут на зиму отменен.
Слово о равенстве
Необходимо понять, что мироздание подчинено единому замыслу, чья божественная природа бесспорна, точна и закономерна. Замысел этот - в достижении всеобщего равенства. В этом смысле социализм наряду с христианским мифом являются наивысшими выразителями природы этого замысла. Когда вбивали гвозди в ладони и стопы Христа, когда разваливали великую Советскую империю - уничтожали не Россию, не христианство как религию, которой на тот момент еще не было: убивали равенство, распыляли надежды о нем, высмеивали саму мысль о возможности быть равным в созидании, труде, радости и мире.
Силы Золотого Тельца приручили христианство, превратив его в институт власти, но не смогли приручить идею, что живет в сердцах миллионов верующих. Эти же силы свалили социалистический проект России (хорошо ли, плохо ли, но проект работал), но не смогли убедить народ моей страны в том, что он ложен. Борьба не прекращается. И есть только два пути завершения: либо Золотой Телец поглотит все и вся, либо на планете воцарится равенство свободных людей и народов. В этой связи смена правителей не играет никакой роли. Путин, Обама, Меркель, Аланд и т.д. и т.п... Даже не важно, кто из них искренне служит Золотому Тельцу, а кто лавирует, пытается вывернуться, ускользнуть из тисков. Нужен прорыв по всем фронтам одновременно: в экономике, политике, культуре, искусстве, науке. Но больше всего необходим прорыв в сфере духа.
Либералы в правительстве маскируются под державников и имперцев, правые грызутся с левыми, левые презирают консерваторов, правозащитники отрабатывают зарубежные гранты, Дума играет на заседаниях в игрушки на мобильнике (ручные, они знают когда, где и за что нужно отдать голос). Лживые колумнисты тратят долларовые гонорары в дорогих рестаранах, танцуют там своих блядей, средний класс загорает на пляжах Анталии, артисты славят действующий порядок вещей в каждом новом фильме, передаче, песне. Телеведущие льют патоку с экранов телевизоров. Менты жиреют, стригут бабло на улицах, трассах, дорогах, кабаках, как заправские баскаки. Морды их откормлены, подбородки дрожат и вибрируют при ходьбе, как загустевший студень, затылки троятся, глазки уменьшаются с каждой принятой взяткой. Главврачи толкают налево лекарства, оборудование, инвентарь. Директора среднего пошиба живут на откатах за выигранный тендер. И вся несусветная прорва денег всасывается упырями в человеческом обличье, прожирается, просирается.
В это самое время обычные люди живут своей серой, нищенской, пропитой жизнью. Инвалиды, когда-то давно, в другой жизни защищавшие Родину на южных рубежах, ныряют на работу в метро. Старушки расставляют в переходах свои банки с солениями, дешевые кофточки, веники, сушеные грибы, мочалки. Мнутся на морозе, плотнее закутываются в драные полушубки. Граждане огромной и некогда великой страны с серыми, не выспавшимися лицами бредут на работу. В больницы поступает новая партия больных. Как всегда не хватает места, и людей размещают в коридорах. Двадцать первый век на дворе, а у нас люди лежат в коридорах после операции, пьяные медсестры матерятся, орут и дышат перегарам. Я не придумываю ни капли - зайдите в любое хирургическое отделение среднего провинциального городка. В это самое время дембеля бьют провинившегося "духа" в сушилке: ногами бьют, встав полукругом, втаптывают с кровью в нагретый кафель. Офицеры сидят в своей комнате, делают вид, что не слышат. В это самое время мать-одиночка собирает дочь в детский сад. Дочь упирается и плачет, говорит, что Заур с Ахмедом опять будут ее бить. Мать тоже плачет, но продолжает молча одевать ребенка... Слышите? Это все в одной и той же стране происходит, это в моей стране происходит день ото дня. Это не две разных страны, не два разных народа - это расколотые надвое сердца и души, земля и вера, небо и недра, совесть и честь. Расколоты, разрублены, разъединены. Это все мы, русские, страдаем и ненавидим, совершаем подвиги и низвергаемся в подлость, страшим врагов и страшимся сами себя. И нет сил, чтобы соединить нас воедино. Все ищем, копим, тужимся... И терпим. Из века в век неистощимо наше терпение.
Что нужно сделать? Я не знаю. Может быть, сбросить лживого царя, который говорит одно, а за окном все совсем по-другому. Но поменяв царей, сменив шило на мыло, мы не приблизимся к равенству. А я убежден, что лишь одно равенство сможет спасти нас от полного вырождения и гибели, повернуть этот мир вспять, избежать падения в пропасть.
Наверное, надо поверить, что один в поле воин. Только один в поле и воин.
Филиппов Дмитрий Сергеевич
Я - русский (роман), читать онлайн: http://okopka.ru/f/filippow_d_s/jarusskij.shtml
___________________________________________________________________
168705
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 06.12.2024, 18:29 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 08.12.2024, 21:01 | Сообщение # 2881 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| ЛОМАНЫЙ СОНЕТ О ДУХЕ ВРЕМЕНИ
Уже забыли, как был болен мир.
Весь мир был болен, и совсем недавно.
Делилось общество, конечно, и тогда
На тех кто "против" и на тех, кто "за"
Сейчас оно делимо и подавно.
Но кто сегодня названный кумир,
Когда войной оплачен пьяный пир,
Где хлеб - вдова, а соль - её слеза?
Зачем опять марать бумажный лист?
Ведь очевидно, всё давно сказали.
Но время вновь бросает вызов нам,
И заставляет приступать к трудам,
Чтоб ковырять ответы на скрижали.
Наш режиссёр сегодня - журналист,
В игре не каждый человек - артист,
Но труппу не сочтешь по головам.
***
Делает ход голодная пешка,
Рвёт на две клетки вперёд.
Знают фигуры, лишняя спешка
Пешку к добру не ведёт.
Сон офицера не потревожен.
Тихая диагональ.
Скорый исход для пешки возможен,
Пешка продвинулась вдаль.
Битва идёт, становится тесно.
Мысли узлом на доске.
Движется пешка - не интересно.
Ферзь преуспел в марш-броске.
С грохотом жрут фигуры друг друга -
Многоэтапный размен.
Выйти живым из этого круга
Выпадет точно не всем.
Видит король придворное поле.
Дан королевский указ:
Фланги держать на жёстком контроле.
Пешку прощали не раз.
Белым - гарде! В тяжелом цугцванге
Делает выбор король.
Ферзь остаётся брошен на фланге.
Жертва - бесславная роль.
Пала при штурме крайняя клетка,
Ферзь умирает в бою.
Пешка дошла, сигналит разведка:
Стороны примут ничью.
***
Мне облако напомнило Россию,
Бок о бок - Крым, Калининград и Кольский.
Умом гражданским я едва осилю
Рассказ небесный, близкий, философский.
А вдалеке дожди и злые тучи.
Бомбили горизонт разряды молний.
Тревожно стало, воздух стал тягучим,
И рикошетил гром от колокольни.
Народ раскрыл зонты, прибавил шагу,
Лукавый побежал туда, где сухо,
В чужой подъезд, в ближайшую общагу,
Где колокольный гром не режет ухо.
Мой путь иной - держаться против ветра.
Нам, большинству, идти одной дорогой.
А дождевого фронта километры
Крамольно расползлись стеной широкой.
Не сильно мочит, но поганый ветер
Доносит морось, приближая холод.
Под ледяным дождем, промокли дети,
У края сферы небосвод расколот.
За облаком моим виднелось солнце,
Границу очертив свечным ажуром.
Лучи попали в списки Миротворца
За теплый свет на этом небе хмуром.
Не часто, но случается такое,
Меняют ветры вектор дуновений,
И радугой небесного покоя
Нам оставляют бремя размышлений...
***
На поле боя два пути -
Довольно старое клише.
Один - стреляй, второй - беги.
Путь начинается в душе.
На том пути ждут три моста.
Сам выбор - сложный нарратив.
Считаем, пройдена верста,
На первый мост едва вступив.
И если принял путь - "стрелять",
Мост номер два - курок спустить.
На "до" и "после" разделять -
Мост третий - с этим дальше жить.
Когда свернул на путь - "бежать",
Мостом вторым и будет бег.
Остался третий - утверждать,
Что сам - тот прежний человек.
***
МАРИУПОЛЬСКАЯ ТИШИНА
Осознавал в остывшей точке мира,
Что лишь немногим отличался от
Дорожной пыли, пойманной рассветом,
В себе хранящей свет ориентира.
Прилег в воронку спать бездомный кот.
Мне не спалось, я думал лишь об этом,
И знал, что именно придет во снах.
С закрытыми глазами видел слово -
Простое наше русское "живут",
Написанное всюду на домах.
За ленточкой, увы, я понял снова,
Что черпать смыслы - запоздалый труд.
Вернулся город в сторону родную.
Наполнен болью был его возврат.
Историю спасая от подмены,
Отодвигали вдаль передовую
В одном ряду строитель и солдат
К границам современной ойкумены.
Советский гордо устоял каркас.
Не зря на окнах россыпь красных флагов.
Шумело море, ветер отвечал.
Ответит Мариуполь не сейчас,
Был шумом каждый город одинаков,
Лишь он минутой памяти молчал.
***
В морщинах пыльная дорога
Кроит окраину страны
От многолюдного истока
До устья тихой глубины.
По сторонам такой дороги
Дома стоят, как сундуки.
Над ними кружатся сороки.
В них клада нет, лишь старики.
Зудит нечёсаное поле.
Скелеты тракторов на нём.
Дворнягам воля, что неволя.
Зарос пожарный водоём.
В морщинах пыльная дорога
Кроит окраину страны,
И два оставленных порога
Дорогой той разделены.
***
Закон обойдя по канату,
Искатель - азарта заложник,
Прибор, вещмешок и лопату,
Сложил в трудовой внедорожник.
На месте уважил примету,
Где сажа былого базара
Зарыл, на удачу, конфету,
Задобрив тем Деда Хабара.
Неспешно бродил, извлекая
Из толщи культурного слоя,
То гвоздь, то замок от сарая -
Лишал ту эпоху покоя.
Не густо... а день шёл на убыль.
Душа, что изба нежилая.
Вдруг - счастье! Серебряный рубль
С портретом царя Николая.
Когда-то, быть может, с повозки
Упал и в траве затерялся.
Под пылью обозов громоздких,
В земле подмосковной остался.
Над ним проходили сраженья
Снаряды кромсали плоть луга.
И в пахоту, в мирное время
Не встретился с лемехом плуга.
Искатель не ищет ответы.
Он в поле идёт за мечтою -
В судьбе той рублёвой монеты,
Остаться короткой главою.
Рутину едва он выносит,
Желая прибор взять в охапку...
Монету земля снова бросит
Ему, словно нищему в шапку.
*Дед Хабар или Земляной дед - суеверие копателей.
***
Петляет дальняя дорога
Уводит мысли в пустоту.
России вечная тревога
Качает лесополосу.
Седое солнце сигаретой
Дыру над елями прожгло.
За пеплом трассы разогретой
Томится пыльное село.
По сторонам такой дороги
Дома стоят, как сундуки.
Над ними кружатся сороки,
В них клада нет, лишь старики.
То нити между городами
Сшивают русский горизонт.
Всё тоньше нити те с годами,
Всё шире наш культурый фронт.
***
Вдохни, как дым, прохладу улиц,
Одерни рукава пальто.
От нежности продажных спутниц
Не остаётся ничего.
Пусть кепку смелую ты носишь,
Не скрыть, предательских седин.
- А дальше что? - себя ты спросишь
Когда останешься один.
Переворачивай страницу
Своих банальных стратагем!
Перебираешься в Столицу,
Чтоб возвратиться вновь ни с чем.
Ведь мы с тобой одной породы,
Но разве можно продолжать
Тонуть в иллюзии свободы,
И всё бежать, бежать, бежать...
***
На кафеле снежное тесто,
И в лифте сожжённые кнопки.
Недавно был выкуп невесты -
Остались разбитые стопки.
Повсюду железные двери.
В глазок кто-то смотрит прицельно.
Сегодня мы чаще не верим,
И рядом живем, да отдельно.
Где масса сомнений критична,
Закончились мирные темы...
И грустно, что это привычно.
Мы - часть неисправной системы.
***
Я в Бога не верил, но всё же молился,
Тащил свой нелепый пластмассовый крест.
Колодец наш пуст - видно, кто-то напился,
И выкачал влагу из поймовых мест.
Чем дальше петляют хромые дороги,
Тем реже стоят верстовые столбы.
Теперь уже здесь не пройдут скоморохи,
Не выронят песню из медной трубы.
Нам дышится трудно от каждого шага,
Но мы не паломники горных вершин.
Пустые слова еле терпит бумага.
На лицах грубеют кавычки морщин.
Я снова сказал всё другими словами,
Но не от того, что расплаты боюсь.
Душевная связь, что уже между нами,
Не требует слов - я об этом молюсь...
***
Окраина прячет от взглядов
Бескрайний гаражный массив.
Рабочие высших разрядов
Шабашат здесь, волю вкусив.
Беседуют на перекурах
О жизни своей и страны.
На лицах задумчиво-хмурых
Следы недовольства видны.
И надпись на сером заборе
Под стаей галдящих сорок -
Строку в современном фольклоре
Оставил гаражный пророк.
Прописано грубо, но точно,
С тяжелой рабочей руки,
В сознанье вбивается прочно:
"И русским простите долги!"
***
Ангелы играют в карты.
Ставка - пьяная душа.
Им поют блатные барды.
Ангелы играют в карты.
Поднебесные ломбарды
Примут душу алкаша.
Ангелы играют в карты.
Ставка - трезвая душа.
***
У звезды вдруг исчезли лучи,
Она стала мерцающей точкой.
Блёклый свет с леденящей отсрочкой
Потеряется где-то в ночи,
Лишь коснется огарка свечи,
Но не вспыхнет законченной строчкой.
Кто себя окрестил одиночкой,
Расплескал проливные лучи.
***
Снег колючей рукой мне отвесил
Замороченных дней оплеуху.
Промотал я, пока куролесил,
Гонорар, внешний вид и науку.
По хрустящей морозной глазури
Вдоль аллеи из сахарных елей
Шёл отчаянно к литературе,
Нёс в груди три десятка апрелей.
Но кабинки завода так близко,
Соцпакет, вечерами шабашки...
Был бы пропуск - вторая прописка,
Шёл бы утром в опрятной рубашке.
Не пришлось бы читать там до ночи
Ни стихов, ни статей полувнятных.
Получалось бы будни пророчить,
Без гаданий на солнечных пятнах.
***
Небо, словно черный кофе
С каплей молока.
Самозанятые "профи" -
С каплей дурака,
Предлагают во все щели
Бросовый продукт.
Звоном утренней капели
Телефон раздут.
Не оформлен без прописки
Висельный кредит.
От него, как от ириски,
На зубах скрипит.
Чем накроет день текущий -
Форма неясна.
Нагребла кофейной гущи
Погадать
Весна.
***
На фоне истерик и паники,
Запретов и колебания курсов,
В остро растущей динамике
Подлой коварности трусов,
В серой весенней промозглости
Меж лиц с характером низким,
При кажущейся безнадёжности,
Дарите любовь своим близким.
***
Сытость повсюду,
повсюду ленивая сытость.
Даже бродяги исчезли,
как вымерший вид.
Я тоже сыт,
и прошу извинить за открытость.
Сытость ли эта
сегодня меня вдохновит?
Томное "нега",
когда-то забытое слово,
Так странно, вернулось
в спешащие новые дни.
Если вокруг посмотреть,
то для многих основа -
Сытыми быть,
оставаясь при этом в тени.
Но не согласны,
кто сам голодал не однажды,
Тот, кто стерпел
нестерпимый мозолистый день.
Мир изменился
не только в сознании граждан.
Новые вызовы
просят не прятаться в тень.
***
Пролистать бы туда километры,
Где на окнах в стаканах окурки,
Где с фасада осенние ветры
Обдирали слои штукатурки.
В каплях краски скрипучие ножки
Табуретки на лестничной клетке,
Где таскали подвальные кошки
Из фарфоровых блюдец объедки.
Там внутри, за обшарпанной дверью,
В малой комнате время застыло.
Может быть, я тогда лишь поверю,
Счастье... кажется, здесь оно было.
***
Я ел лапшу в пластмассовом стакане,
Но руки о штаны не вытирал.
Мог разглядеть породу в хулигане,
А если драку видел, разнимал.
Бывал не прав. Да, всякое бывало.
И, разбивая вдребезги стакан,
Я не искал беды - она меня искала,
Выходит, что и сам был хулиган.
Но с возрастом становится сильнее,
Всё крепнет мысль весомая о том,
Что не всегда окажется вернее
Брать силой то, чего не взять умом.
Стихи творят голодные поэты.
Сегодня вряд ли что-то напишу...
А чтоб моя душа была согрета,
Пойду и заварю себе лапшу.
***
Достану поблекшие снимки,
Пусть снова меня обогреют.
Из памяти, словно из дымки,
Пробиться до сердца сумеют.
Припомню я, глядя на фото,
Детали ушедшего быта.
Мне вспомнится доброе что-то,
Недоброе всё позабыто.
Пусть там времена непростые,
Но это неважно, по сути.
Ведь рядом ещё молодые,
Такие родные мне люди...
***
Реальность плавится, как олово.
Нагрет невидимый паяльник.
В чащобах старого и нового
Блуждает изможденный странник.
Извлечь из мыслей разночтения,
Как колкий камень инородный,
Мешают звуки, размышления,
В окне фонарь светодиодный.
Поток сознания, ускорившись,
Скользнет на уровень инстинкта.
И только утро, позаботившись,
Укажет путь из лабиринта.
***
Мысль моя не идеальна,
Может даже кто осудит,
Но решил я кардинально -
Было, есть и будь, что будет!
Зачерпнёт полёт фантазий
Толщу слов со дна картины.
След оставив в каждой фразе,
Станут образы едины.
Александр Михайлович Рыжков https://stihi.ru/avtor/boing88
__________________________________________________
168869
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 08.12.2024, 21:18 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 11.12.2024, 00:05 | Сообщение # 2882 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| НЕСКАЗАННОЕ
Зимняя ночь. На улице горят фонари, и в небольшой темной комнате можно разглядеть детали обстановки. Слышны полеты метели, задевающей окно крылом; одинокий автомобиль тарахтит по опустелой проезжей улочке; но главное, сонную тишину в квартире Кастериных расстраивает загадочный несмолкаемый звук: словно кто-то призрачный собрался говорить, но застрял на глухо дребезжащем начале: «М-м…» Звук этот доносится со стороны ванной.
«Противное гудение, – думает Кастерин, лежащий с женой на кровати. Он осторожно пристроился в ногах у супруги. Она инвалид первой группы, и если муж невзначай толкнет ее, ей больно. – Гудит, как внеземной электротрансформатор, – размышляет он. – Наверно, в водопроводе гуляет ветер».
– Витя, кто там разговаривает? – спрашивает жена с одышкой. Голос у нее страдальческий. – К нам кто-то приехал?
– Никто не разговаривает, – отвечает Кастерин. – Никто не приехал. Уже много времени. В водопроводе как-то необычно гудит, а тебе чудится разговор. Вот и все. Мы с тобой одни, ты да я. Кто может сейчас приехать?
– Нет, подожди! Ты зачем так говоришь? Что-то от меня скрываешь, да? Я же отчетливо слышу: девочка и мальчик говорят в другой комнате вполголоса! Не могу разобрать только, о чем говорят!
– Если бы кто-то у нас был, я бы помнил, – ворчит Кастерин. – На память пока не жалуюсь.
– Но может быть, ты просто не застал, когда гости приехали? В магазин ушел или еще куда-нибудь. Не могли они разве открыть дверь своим ключом и зайти к нам тихонько, чтобы меня не потревожить? Пожалуйста, иди посмотри, чтобы я не беспокоилась!
Он знает: бессмысленно уверять жену в том, что она бредит. Его подруга жизни от долгих страданий теряется духом и разумом в пространстве и времени. У нее бывают свои понятия о текущих событиях, она нередко верит образам и звукам только собственного воображения. Коротко вздохнув, Кастерин встает с постели.
Он нащупывает ногами шлепанцы и осторожно, чтобы в сумраке без очков не споткнуться, идет в другую комнату. В квартире прохладно, но хозяин гол по пояс. Он долго занимался спортом, делал зарядку, закаливал себя и не боится прохлады. Ему недавно стукнуло восемьдесят пять лет, но он держится молодцом. Засветив потолочную люстру, он глядит на настенные часы, охает и думает: «Три часа, а лапушка моя не спит! И мне спать не дает».
Повернув обратно, старик идет в кухню, ванную, туалет и всюду прихлопывает двери, чтобы жена слышала, как он старательно оглядывает квартиру. Вернувшись к ней, он говорит деловито:
– Нет, гости к нам не приехали. Детские голоса тебе почудились. Это бывает, когда человек нездоров. Давление крови у него повышается, в голове шумит. Тогда и голоса могут чудиться, и обстановка кажется незнакомой. По себе знаю. В детстве я крепко болел.
– Да? – произносит жена по-детски наивно и вместе с тем недоверчиво. – Но я так ясно слышала! Так ясно!.. – Она горячится, волнуется. – Пожалуйста, Витя, зажги свет! Я хочу видеть твое лицо! Ты хорошо смотрел? Не обманываешь меня?
Кастерин щелкает выключателем и отвечает:
– Не обманываю. Зачем мне тебя обманывать?
Она приподнимает голову и старается в него вглядеться, но видит плохо. Ко всем ее немочам добавилась быстрая потеря зрения. Был по приглашению окулист, выписал глазные капли, очки, но ни то, ни другое не помогает, жена слепнет.
– Нет, не вижу! – восклицает она. – Черты твоего лица совсем не различаю! Господи, за какие грехи мне еще и это наказание!
– А голоса детские теперь слышишь?
– Голоса?.. Голоса?.. Ты попросил детей говорить тише?
– Нет никаких детей, никаких гостей. Голоса тебе, повторяю, чудились. Поверь мне и ни о чем не беспокойся. Поворачивайся на бок и засыпай. Мне тоже дай поспать. Хватит по ночам колобродить.
Он догадывается, что жену сейчас мучит. Скорее всего, ей сын приснился, и она ждет его, но не решается спросить мужа, жив ли их Коля-Николай, где он, что с ним.
– Да!.. Да!.. Никто не приехал!.. За порогом тоже не могут стоять, иначе бы позвонили! – Затмение ее рассудка медленно слабеет. – Надо тебе отдохнуть! Ты из-за меня потерял покой! Прости!.. Спой мне колыбельную. Мама с бабушкой убаюкивали меня на ночь, и я скоро засыпала. Спой, а? Я ведь опять стала как маленькая, правда?
– Я не знаю колыбельных, – отвечает Костерин. – Слышал, конечно. На ночь мне их не пели. Бабушка в войну умерла, а мать дни и ночи пропадала в госпитале, за ранеными ухаживала. Разве вот такую немножко помню. Откуда-то она в голове моей старой отыскалась:
Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю.
Придет серенький волчок,
Схватит Саньку за бочок.
Кастерин тихо смеется. Саней и – пошучивая – Санькой он звал ее в молодости. Полное имя его жены – Александра Николаевна, а он – Виктор Степанович.
Александра Николаевна морщится, отмахивается от мужа.
– Ну тебя! – говорит она. – Я серьезно прошу, а ты смеешься!
– Не смеюсь. – Виктор Степанович отпускает еще несколько смешков. – Это хорошая колыбельная, добрая, забавная. Жаль, целиком ее не помню. Но, может быть, она всего в одном четверостишии. Ты в детстве, я уверен, тоже слышала ее не раз.
– Нет, эта мне не нравится! Пустая она и ехидная!
– А тебе нужно что-то глубокомысленное? Дай подумать. Хорошо. – Он снимает со стены семиструнную гитару, старую, любимую, инкрустированную вокруг резонатора перламутром, подвигает стул к постели, садится и закидывает ногу на ногу. Кастерин простой хороший инженер. Работал всю жизнь на заводе. Он начитанный и музыкальный. – Вот эта, что я тебе сейчас промурлыкаю, – говорит он, – тоже колыбельная, но особая, для взрослых. А с другой стороны она вроде бы и не колыбельная – просто таинственная мифическая песня. Ладно, начнем среди ночи сольный домашний концерт.
Гитарист укладывает инструмент на колено, подстраивает и берет густые цветистые аккорды. Музыкально одаренный человек играет не как попало, а очень не плохо, пусть только на слух. Глядя пристально на жену, Кастерин поет:
Вы сегодня нежны, https://rutube.ru/video/6044f68a3e9f654a4474e932e1243bb0/
Вы сегодня бледны,
Вы сегодня бледнее луны…
Вы читали стихи,
Вы считали грехи,
Вы совсем как ребенок тихи.
Ваш лиловый аббат
Будет искренно рад
И отпустит грехи наугад…
Бросьте ж думу свою,
Места хватит в раю.
Вы усните, а я вам спою.
Дальше следует вкрадчивый гитарный перебор без слов – вступление к странному повествованию. Александра Николаевна отрывается от подушки, широко раскрывает глаза и произносит с живым интересом:
– Ну-ка! Ну-ка! Как необыкновенно: читали стихи … считали грехи … лиловый аббат … места хватит в раю …»! Что это? Что за песня?
Он снова поет:
В синем и далеком океане,
Где-то возле Огненной Земли,
Плавают в сиреневом тумане
Мертвые седые корабли.
Их ведут слепые капитаны,
Где-то затонувшие давно.
Утром их немые караваны
Тихо опускаются на дно…
Кастерин опять играет молча, нагнетая сказочно-мистическое настроение.
– Как страшно, прекрасно, неожиданно и загадочно! – восклицает жена. – Так что это такое, скажи, пожалуйста?
Он с трагическим пафосом приближается к финалу:
Ждет их океан в свои объятья,
Волны их приветствуют, звеня.
Страшны их бессильные проклятья
Солнцу наступающего дня…
И, разрывая, растягивая фразы, мрачно и задумчиво повторяет начальные строки легенды:
В синем и далеком океане,
Где-то возле Огненной Земли…
– Исключительно интересно! – Александра Николаевна возится на постели и с трудом садится, постанывая от боли. Муж ей помогает, подкладывает под спину подушку. – И ты замечательно пел! Очень кстати зловеще прогнусавил в конце! Прямо артист! Но скажи наконец, что это! Мне не терпится узнать, кто такое диво сочинил!
– Все очень просто, – отвечает Виктор Степанович. – Это песня известного русского шансонье Александра Вертинского. Сам написал, сам исполнил. Ты ее знаешь, но забыла. Кстати, мы с тобой застали Вертинского в живых. В юности были на его концерте в филармонии, году так в пятьдесят третьем – пятьдесят четвертом. Не помнишь?
– Нет, милый, не помню. Многое напрочь стерто в моей памяти. Все от болезни. Фамилия «Вертинский» мне знакома, но если бы ты не сказал, кто он такой, я бы не вспомнила.
– Но ты у меня молодец! – Он встает, вешает гитару на место и опять подсаживается к жене. – Возраст твой очень серьезный, почти как мой, волосы белым-белы, и ты сильно нездорова; но не перестаешь изумляться, восхищаться, радоваться. Значит, совсем молодая. Годы тут ни причем.
– Шутишь, но мне приятно, – говорит жена и снова охает, качает головой. – Если бы у меня ничего не болело, не ломило! Хотя бы ненадолго отхлынула боль, дала передохнуть! Особенно ногам худо! Кажется, что все кости в них переломаны, перемолоты! Огнем горят ножки мои! Мне бы на них встать, помочь тебе, сварить что-нибудь, белье постирать, вымыть, прибраться, а я не могу! Все на тебе! На одни мужские руки! Как только выдерживаешь?
– Выдерживаю, пока не капризничаешь, – говорит муж.
– А я капризничаю? Как?
– Отказываешься есть, принимать лекарства, вдруг заявляешь, что я тебе надоел, что в моей помощи ты больше не нуждаешься, что будешь жить одна и сама за собой ухаживать. И так далее.
– Господи, неужели я до такого докатилась? Ну, прости! Прости! Я не знала!
– Это не ты, а болезнь. Сны наяву. Прощать мне тебя не за что. А теперь давай спать. Петухи давно пропели.
Александра Николаевна послушно укладывается, закрывает глаза. Кастерин расправляет на ней одеяло, гасит свет и опять устраивается у жены в ногах, легко обнимает ее ноги, греет своим дыханием. Она не хочет спать одна, а он боится, что жена без него может упасть ночью с постели. «Валетом» же теперь супруги ложатся, чтобы муж меньше толкал ее во сне.
* * *
Рано утром она крепко спит, а Кастерин, очнувшись, с трудом пересиливает желание поспать еще часок другой. Зимний рассвет опаздывает за включением человека в активную жизнь. К тому же голова и тело Виктора Степановича толком не отдыхают из-за частых ночных бдений. Но он не дает себе поблажки, встает и, сделав несколько гимнастических упражнений, идет в ванную. Умывается по пояс водой комнатной температуры, а голову с поседелыми русыми волосами смачивает водой холодной: это его закоренелая привычка, охлаждение темени проясняет разум и мобилизует к действию. Дальше – поварские заботы. Надев кухонный передник, он прежде всего ставит на газ двухлитровый чайник воды, а в заварной чайничек сыплет черный байховый чай. Технология быстрого приготовления завтрака у него отработана: Виктор Степанович трет морковь – жена любит ее есть со сметаной; варит овсяную кашу на воде – эта еда тоже любима женой и хорошо ей подходит после давней тяжелой полостной операции.
Рассвет наступает, старается, но еще не распустил во все небо свой белый цветок. В ванной и кухне Кастерин бодрствует пока с электрическим светом. Можно позднее разбудить жену, пусть бы еще поспала, но из-за особенностей ее нездоровья и быта стоит разбудить пораньше. Он заходит в спальню и, присев на край постели, гладит жену по голове. Она не сразу открывает глаза и смотрит на мужа недовольно, исподлобья.
– Ау! – говорит Кастерин. – Доброе утро, мадам! Приводите себя в порядок и станем завтракать!
– А что так темно? – спрашивает Александра Николаевна. – Включи свет!
Он включает.
– Все равно темно! Включи еще настольную лампу!
Муж включает настольную лампу и думает: «Видит совсем плохо, и все у нее плохо. Если поведу себя неправильно, взорвется, нервы ее на пределе. Надо держать себя в руках».
– Давай помогу умыться, – говорит он. – Откидывай одеяло.
– Как умоюсь? – восклицает Александра Николаевна со злым отчаянием. – Лежу по уши мокрая! Всю надо мыть! Меня убить надо! Господи, дай умереть скорее! Больше не могу! А стыд-то какой!..
Она закрывает лицо худенькой рукой и плачет.
– Эко несчастье – мокрая! – спокойно говорит Виктор Степанович. – Через пять минут станешь сухой! И какой тут стыд? Вот что я тебе скажу, дорогая – то, что запомнил в госпитальных палатах у матери, я там часто бывал. Думаешь, раненые герои войны сплошь выглядели героями? Нет, многие походили на страдающих детей: стонали, кричали, и маму звали, и под себя ходили – этот грех был делом обычным на постелях тяжело раненных, лежащих в беспамятстве. Но смерть не звал никто. Все крепко за жизнь держались, и взбадривались, и веселели даже. По сути, и ты тяжело ранена в бою. Жизнь разве не бой? И не героизм ли – достойно ее прожить, вынести все тяготы, горести и старательно исполнить то, на что хватало умения и сил? В общем, откидывай одеяло и смело берись за санитарные хлопоты. Давай я сам откину тебе одеяло.
Она хмуро повинуется.
Муж приносит из ванной пластмассовый тазик с теплой водой и плавающей в ней розовой губкой, чистую тряпицу и полотенце. Сняв привычно и умело с жены мокрую ночную рубашку и заграничный подгузник, который не защитил от сырости белье, он вытягивает еще из-под нее пеленку, простынь и относит грязные тряпки в ванную, складывает в большой эмалированный таз. Возвратясь, он обмывает супругу, переодевает во все свежее и, пересаживая ее с места на место, ловко стелет сухую постель. Устроив болящую перед тазиком, он льет ей воду из ковшика в ладони, чтобы она умылась.
Опрятная, посветлевшая, Александра Николаевна кривовато улыбается, лезет под одеяло и садится, вытянув под ним ноги. Муж ставит ей складной столик.
– Как славно! – восклицает она, расправляя выражение лица. – Тепло, чисто, уютно! Большое тебе спасибо, мой родной! Ты такой заботливый!
– Хорошо ли спалось? – говорит Виктор Степанович. – Что тебе снилось?
– Снилась мать. Она к нам не заходила?
Муж отвечает по существу и торопится вернуть ее к осознанию реального:
– Мамаша давно умерла. Моя тоже. Мир их праху. Как встанешь, сходим потихоньку в церковь, закажем молебен по матерям, поставим свечи. А синий далекий океан тебе не виделся во сне? А мертвые седые корабли?
– Нет, это не снилось. Хотя я засыпала, думая про твою колыбельную, очень она мне запомнилась и понравилась. Вроде зловещая, а впечатление от нее не гнетет, а настраивает на романтику. Удивительно! Ты мне еще что-нибудь такое на ночь спой.
– Постараюсь.
– А тебе не противно ухаживать за мной вот так, словно за грудным ребенком? – спрашивает вдруг Александра Николаевна. – На судно меня сажать, мыть, стирать мое белье?
– Прямой вопрос – честный ответ: не противно. Нам с тобой пора уметь философски осмысливать такие обыденные вещи. Отчего мне должно быть противно? Передо мной физиология организма плюс органическая и неорганическая химия. Эти науки относятся ко всем людям и животным. Во-вторых, мы в глубокой старости и мир опять видим по-детски, и, как дети, нуждаемся в уходе. Ты детского состояния достигла, а я достигну, когда тебя выхожу. В-третьих, я тебя люблю.
– Вижу, смягчаешь впечатление от того, что я сказала, а ответ сводишь к легкой шутке. Но как можно любить такую развалину, грязную, которая сама себе противна и сама себя стыдится? Не понимаю!
– Перестань заниматься самобичеванием! – прикрикивает на жену Кастерин. – Это глупо и неприлично! И ничего я не смягчаю, говорю, как думаю. Насчет любви все обыкновенно. Свежесть, прелесть тела – для любовной страсти. Она давно у нас прошла. Красота твоей души осталась. До сих пор я вижу тебя молодой и прекрасной, стройной и величавой, с пышными каштановыми волосами, голубыми глазами, черными бровями и румянцем на щеках. А на твои морщины, болезненную худобу, на старость и все такое я как-то не обращаю большого внимания. Это, по-моему, и есть любовь.
Он приносит из кухни еду, стакан воды и таблетки на блюдечке, которые жена принимает пожизненно. Лекарства Александре Николаевне выписали кардиолог и хирург, некогда оперировавший ей органы пищеварения. Муж подвигает к кровати журнальный столик и садится за него. С таблетками больная справляется неохотно, морщась, оттопыривая губу, но ест с аппетитом, это удивляет мужа и радует.
– Вкусно! – похваливает она его. – Какой ты молодец! Никогда прежде ничего не готовил, и вдруг сразу научился! Не знала про твой поварской талант! Спасибо!
– На здоровье, – отвечает Кастерин. – Никакого поварского таланта у меня нет. Главное, нет фантазии, что и как в следующий раз тебе приготовить. Действую просто, выверено, шаблонно: утром тертая морковь со сметаной и овсяная каша, на обед пакетные супы и размороженные котлеты, блинчики, вечером простокваша, булочки, чаек. Другая бы возмутилась, взбунтовалась, а ты хвалишь кашевара-неумеху и, похоже, искренне. Это тоже любовь.
– Хвалю! – говорит Александра Николаевна. – Потому что любовь и заслуживаешь!
Поев, она теряет силы, дышит тяжело, хватается за сердце и просит дать ей валидол, но вскоре засыпает. Муж после завтрака собирается в магазин за продуктами и осторожно кладет рядом с женой беспроводную телефонную трубку (вдруг позвонят!), а на пол возле кровати ставит пластиковое судно – Александра Николаевна до него дотягивается и при случае может, не без труда, им воспользоваться. Надев драповое пальто и меховую шапку, обув теплые башмаки с молниями, Виктор Степанович берет хозяйственную сумку и уходит.
На улице – ветер. Он к утру усилился и пошумливает, пугает, а на открытых местах подхватывает снег с сугробов широкими лапами и закручивает в жгуты и воронки. Но пешеходную дорожку заслоняют от ветра с одной стороны высокие жилые дома, а со стороны шоссе – молодые деревья, посаженные лет десять назад. Кастерин идет неторопливо, ровно. Снежный тротуар его ноги ощущают как ковер с мягким ворсом. Пройтись по улице и подышать свежим воздухом старому человеку очень приятно. В его квартире воздух нередко затхлый. Хворая жена боится холода, зябнет, простужается, и муж с опаской открывает балкон, даже форточку во второй комнате.
Но прогулочная радость сменяется у Виктора Степановича глубокой грустью. Он думает о жене: «Нелегко поверить, что моя Александра еще лет семь назад была здоровой, жизнерадостной и приглядной, пусть уже немолодой, женщиной. Мне исполнилось восемьдесят пять, она на три года моложе; но, не свали ее болезнь, мы бы до сих пор катались зимой на лыжах, а летом работали у себя на даче в огороде, купались бы в речке, ходили в лес по грибы и ягоды».
«Надо торопиться! – Кастерин ускоряет шаг. – Как бы дома чего не случилось. Саша в мое отсутствие пыталась ходить и падала. К счастью, ничего не сломала, но в последний раз сильно ушиблась, и месяца три о ней было трудно заботиться: чуть тронешь, вскрикивает. Ей не дает покоя инерция хозяйки. Боюсь, доползет однажды до газовой плиты и в минуту провала памяти зажжет не горелку, а еще что-нибудь».
Он сворачивает в излюбленный большой магазин. За его наружной дверью просторный тамбур со ступеньками. На верхней площадке тамбура – остекленный закуток-пирожковая, в ней Виктор Степанович покупает сладкие пирожки. Набрав в магазине, что наметил, он возвращается в тамбур, подходит к пирожковой и разглядывает сдобную выпечку за витриной. Продавщица тут нынче ему незнакомая, сидит, смотрит на него в окошко. Он с ней здоровается кивком.
– А что мы хотели, молодой человек? – Она живо встает с табуретки и весело улыбается, молодая, с узкими плечиками, кокетливая, вертлявая.
– Молодой человек? – Виктор Степанович с усмешкой качает головой. – А пожалуй, вы правы. В некотором превратном смысле я и моя жена с каждым годом становимся моложе. Это для нее я покупаю тут пирожки с вареньем. Любит запивать их кефиром. Она сластена, хотя в нашем возрасте лучше отказываться от сладкого, так врачи советуют.
– Видно, что у вас хорошая жена, и вы ее любите, – говорит продавщица.
– Как не любить друга жизни, с которым душа в душу прожил шестьдесят два года? Да, она славная женщина. И красивая.
– Шестьдесят два года! И вам не надоело быть вместе? Извините, конечно!
– Не надоело. Тут просто нужны взаимная любовь и общая цель.
– А какая у вас была общая цель?
– Обыкновенная. Ее и целью не назовешь. Работали, помогали друг другу. Старались хорошо проводить свободное время, чаще обмениваться добрыми словами. Крепились, не падали духом от невзгод и неудач. Никому никогда ни в чем не завидовали. Не рвались за большим достатком, довольствовались тем, что есть. Ну что тут можно сформулировать коротко и ясно? Эта цель достигается без постановки цели, сама собой. Сможешь вовремя подавлять в себе дурные наклонности, затаенные злые инстинкты, и тогда хоть в семейной жизни, хоть в отношениях с друзьями все у вас будет благополучно.
– И неужели вы ни разу не поссорились?
– Как же, бывало всякое. В молодости жарко схватывались по пустякам: от усталости, каких-то разочарований, нелепых взаимных колкостей, в общем, от дурного настроения. Чем дольше вместе жили, тем реже ссорились, привыкали – я к ее характеру, жена к моему… Она всегда нарядно одевалась и спрашивала: «Нравлюсь?», – была ласкова, опрятна, счастлива в своей профессии – она учительница математики – и одновременно очень хозяйственна. Сына прекрасно воспитала, хорошим человеком вырос. Ее нельзя не любить…
– А что это вы: улыбаетесь, а на глазах слезы?
– Слезы? Их ветром надуло, пока шел по улице… Дайте-ка, пожалуйста, пару пирожков с малиновой начинкой! Спасибо! И… всего вам доброго!
Назад он почти бежит трусцой в нарастающей тревоге; но дома, к счастью, ничего не произошло. Александра Николаевна уже проснулась, лежит, моргает. Муж, еще в пальто и шапке, прежде заглядывает к ней. Она поднимает голову и возбужденно говорит:
– Где ты был так долго? Приезжал наш сын и скоро уехал! Спрашивал о тебе, жалел, что отца не застал!
Сын Кастериных, отец их внучки Лизы умер молодым от сердечного приступа, сорока пяти лет ему немного не исполнилось. «Хоть бы Лиза скорей приехала! – думает Виктор Степанович. – Можно от заботы отдохнуть, с родным здоровым человеком пообщаться».
* * *
На днях он выбирает время и просит соседку Валентину присмотреть за Александрой Николаевной, пока его не будет дома. Соседка с семьей живет через стенку с Кастериными. Она пенсионерка, добрый человек и то помощь старикам предложит, то попотчует их какой-нибудь домашней стряпней.
Через весь город он едет на троллейбусе в больницу к доктору Короткову – созвонился с ним. Коротков – известный в городе хирург-онколог. Это он четырнадцать лет назад сделал сложную полостную операцию Александре Николаевне – семь часов резал, – и с тех пор почти приятельски общается с Кастериными.
Виктор Степанович садится у него в кабинете за канцелярским столом. Доктор сидит напротив.
– Что случилось? Как дела у моей пациентки? – спрашивает доктор.
– Дела безотрадные. – Виктор Степанович вздыхает. – Жене становится все хуже. Я поделиться с вами пришел, посоветоваться, просто излить душу. Саша, пока ноги носили, ходила к вам, консультировалась, а когда слегла, вы навещали ее. Так что знаете, что с ней делалось. На неприятности в желудке и во всем остальном, что вы оперировали, она не жалуется и ест охотно. Хорошо вы ее подлечили. Но тело у нее болит, особенно ноги. Боль изводит Сашу. Она, бывает, плачет даже, тревожно спит. Что мне делать? Как ей помочь?
– Врачей на дом вызывали?
– Да, и участковых, и скорую помощь. Александра Николаевна, я вам рассказывал, сейчас на учете у кардиолога. По его выражению, сердце у моей жены – как тряпка. А кажется, недавно было ничего… Пьет от сердечной немочи кучу лекарств. Другие врачи, когда я заговариваю про ее телесные страдания, ничего толком не отвечают. Понял я с их слов одно: у Саши какая-то болезнь суставов, которая застарела и исключительно трудно лечится. Почему застарела? Раньше, что ли, не видели?.. Обезболивающие мази ей выписывают, таблетки. Мази слабо помогают, а таблетки действуют пару часов, но давать их я опасаюсь. Что за таблетки? Помню ваше наставление: после операции, какую вы моей жене сделали, ее нельзя снимать боль любыми лекарствами.
– Да, это так. Например, анальгетики ей вредны. Относительно заболевания суставов надо, конечно, советоваться со специалистами. Можно уложить вашу супругу в больницу.
– Сашу туда не возьмут, – отвечает Кастерин. – У нее еще другая большая беда – урологическая. Кто будет там за ней ухаживать? Пеленки надо менять, простыни, памперсы. Меня, точно, не пустят.
– Вон какая закавыка! – Доктор раздумчиво поводит головой. – Тут главное затруднение не в пеленках и памперсах. Можно было бы сперва устроить в урологическое отделение, но серьезный недуг такого рода лечится оперативно, а я сомневаюсь что кто-то из хирургов-урологов решится сделать вашей жене нелегкую операцию. Александра Николаевна женщина очень преклонного возраста и инвалид первой группы.
– Да она нипочем не легла бы в стационар! – говорит Виктор Степанович. – Тут и думать нечего! Бедная! Теперь я вполне осознал это образное выражение: «напасти свалились на голову»! Вижу, как оно воплотилось в том, что с моей женой делается! Думаю, редко такое бывает, чтобы на человека валились напасть за напастью.
– Не редко. Одна болезнь может повлечь за собой другую.
Доктор берет из пепельницы погасшую сигарету и закуривает.
– Да ведь они у нее вон какие разные! Слепнет ко всему и светлый разум теряет. То ей кажется, что мы не в своей квартире живем, и спрашивает, когда в свою переедем, то рассказывает, как ходила в магазин, и велит мне сложить в холодильник молочные продукты, то думает, что еще тянется прошлый год, а на двор не зима, а лето. Немало всякого такого с ней происходит.
– Намучилась ваша жена, – говорит хирург. – Запас терпения и выносливости у нее кончился. Организм, психика реагируют на это. Сколько времени она лежит?
– В общем пять лет.
– Ну вот. Постоянно в постели. Поневоле спит много. Утрата дееспособности. Одна и та же обстановка. Никаких ярких впечатлений, лишь воспоминания, которые обращаются фантазиями. А к этому – непрерывные боли, повернуться без боли нельзя. Тут, конечно, ум за разум может зайти. Чем вы ее развлекаете?
– Развлечений было немного. Иногда читал Саше хорошую литературу, рассказы Бунина, Чехова. Воспринимала рассеянно. Включал телевизор – ничего на экране не видит, и не хочет видеть, надоел, говорит. Радио тоже перестала слушать, из-за тревожных и злых сообщений. Когда слегла, то отрешилась от всего происходящего, ничем не поинтересовалась, кроме того, о чем думала. Но не так давно очень меня удивила. Вдруг среди ночи говорит: «Спой мне колыбельную. Чтобы как в детстве, иначе не засну». Я взял гитару и спел вместо колыбельной фантастическую песню Вертинского о мертвых кораблях. И видели бы вы, как она оживилась! Смотрю: лежит передо мной изможденная старая женщина, но не с безучастным взглядом, а загоревшимся, восторженным. В другой раз снова просит на ночь колыбельную. Я их не знаю, но опять выхожу из положения: декламирую под гитару длинное стихотворение Пушкина «Гусар», колдовское и лукавое. Хлопает в ладоши. «Я маленькая! – кричит. – Хочу слушать сказочные колыбельные! Ты их обязательно пой!» Я и пою теперь почти каждую ночь. Подбираю репертуар. И, мне кажется, Саше на время делается лучше, она быстрее и крепче засыпает. Чем это можно объяснить? Надо спеть ей настоящие колыбельные. Я в детстве некоторые по радио слышал, в кино, и мелодии запоминал. Найду тексты, выучу и спою.
– Объяснить поведение вашей жены можно своеобразием ее психики, пострадавшей от мучительных недугов, – говорит хирург. – Пойте, раз обоим от этого жить легче. Вы достойно держитесь, ухаживая за супругой. Что, социальную помощь вам не предложили?
– Предлагали, но я отказался. Саша и слышать не захотела о том, чтобы в доме была чужая помощница. Тут у нас, сами понимаете, щекотливые особенности быта. Мы бы стеснялись постороннего человека. И знаете, уход за беспомощной женой не только осложняет мою жизнь, но и облагораживает меня в собственных глазах, очищает от какой-то душевной скверны. Горжусь тем, что в восемьдесят пять лет и мою, и стираю, и варю, и кормлю, и в магазин хожу, и плачу за квартиру, и лекарства добываю, и не валюсь с ног от этой карусели.
– Александра Николаевна под стать вам, – говорит Коротков. – Вы с ней образцовая пара. Она женщина редкого мужества и терпения. Я поражался ее характеру, и многие в отделении поражались. На некоторых болезненных процедурах у нас мужики здоровенные орали благим матом, а ваша жена извинялась за то, что охала и постанывала. А помните, как вы с ней четырнадцать лет назад сидели у меня в кабинете? Я вас тогда предупреждал, что операция будет рисковая, с резекцией важных органов. Больная, говорил я прямо, может умереть на операционном столе, а если выживет, то я смогу гарантировать ей лишь четыре года здоровой жизни. Вы, я заметил, дрогнули, Александра же Николаевна глазом не моргнула. «Сколько проживу – все мое», – говорит и отважно идет на операцию. И сносно прожила не четыре года, а много больше – все благодаря твердой воле, крепкому духу.
– Да, – говорит Виктор Степанович, – после операции Саша так окрепла, что усталости не знала. И диету особую не выдерживала, ела почти все, что ем я.
– Но, видите ли, операция, хоть и спасла ее от смерти, однако в конце концов подорвала ее общее самочувствие, – размышляет хирург. – Больные органы выживали за счет здоровых, в результате пошли недуги. Ведь наш организм действует как единое целое, и если в нем что-то выходит из строя, то начинаются сбои в его работе. Бывает, врачи безуспешно лечат человека от боли ноге, не догадываясь, что это дает знать о себе рак легких. Был в моей практике такой случай… Уходит ваша жена, тяжело, медленно. Вижу, как она вам дорога, сочувствую, но приготовьтесь к худшему. Колыбельные обязательно пойте. А обезболивающие лекарства я постараюсь ей подобрать.
– Спасибо, – и некоторое время Кастерин молчит, понурясь. – Конечно, я сознаю, что Саша умирает. И вот какое тут во мне противоречие: с одной стороны думаю о том, что смерть избавит ее от мучений, а с другой всеми силами помогаю ей жить. «Не умирай! – думаю. – Ты мне нужна! Без тебя не хочу оставаться на земле. Хорошо, если уйду следом за тобой, а то буду существовать, уже не зная, для чего это мне… Ладно, слишком расчувствовался. Пойду. Извините, что отнял у вас время.
Он встает. Хозяин провожает его до двери кабинета. Коротков, если снять с него белые халат и колпак, скорее похож на гиревика, чем на врача. Он невысок, коренаст, явно силен физически. Правда, у него поседелая бородка клином. Такого стандартного вида врачей – с бородкой – нередко изображают в кино.
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 11.12.2024, 00:05 | Сообщение # 2883 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| * * *
Ее разум более всего угнетается к ночи. Виктора Степановича тревожит приближение тьмы, тишины и призрачного звучания в водопроводной трубе. Думал он вызвать слесаря-водопроводчика, но махнул рукой. Чем слесарь поможет? Тут дело явно серьезнее, масштабнее: может быть, трубы надо ставить новые.
Уложив жену спать, он уходит в кухню, моет посуду. В спальню старается вернуться тихо.
– Не ходи на цыпочках, – говорит жена. – Я не сплю. Зачем свет выключил? Зажги! У меня без того в глазах темно!
– Хорошо, зажигаю. Но лучше бы ты постаралась уснуть.
– Не спится, вот и не сплю. Как у тебя день прошел?
– Обычно. Ничего особенного. Ты все видела. Успел даже посидеть над повестью о нашей с тобой молодости. Завтра, если хочешь, почитаю. Есть мне о чем рассказать, да писательского умения мало. Вот и мучаюсь, не марширую с пером в руке по листу бумаги, а ползу.
Кастерин в старости начал пописывать. Кое-какие рассказы напечатал в местной газете. Это увлекательное занятие бережет его память, замедляет развитие возрастного склероза.
– Почитай завтра, – говорит Александра Николаевна. – Мне интересно. Сколько у нас с тобой было в жизни такого, что, как вспомнишь, сердце закровоточит, слезами обольется, а то и ледяной холод по спине пробежит. Но и светлого хватало, праздничного, согретого лаской, любовью. Правда ведь? Главного я не забываю. Война, помню, была. Холодно, голодно, темно… И после войны, когда она кончилась. Из родных никого не осталось, только мы с тобой и внучка… Внученька наша, малютка! Что-то не звонит она, не приезжает! Дел, наверно, много. Помню, как я ее на руках носила!..
Кастерина настораживают сбивчивые мысли и интонации к концу ее речи. И она забыла, что любимая внучка звонит едва не каждый день, и нередко ездит. Виктор Степанович говорит:
– Ты очень хорошо про нашу молодость сказала. Но не волнуйся. Не приподнимайся! Лежи! Что ты вдруг так заволновалась?
– Документы потеряла, – отвечает Александра Николаевна. – Ты их не видел? Помню, что сложила в папку, сунула под подушку. А где они?
– Какие документы?
– Для нашего парламента. Для Государственной думы.
– А зачем Думе эти документы?
– Чтобы она знала про нас.
– Про каждого Дума знать не может, и ей это ни к чему.
– Нет! Ты не прав! Она должна! Мы жизнь прожили! Как же она может не знать про нас?
– Хорошо, поищем завтра документы. Только, пожалуйста, не волнуйся! – повторяет Виктор Степанович, дивясь тому, что сознание супруги так причудливо повернулось вспять: прежде она охотно занималась общественными делами. – Спи, дорогая! Надо выспаться, потом все остальное!
– Сам-то… Почему не ложишься?
– Сейчас тоже лягу.
– А колыбельную мне споешь?
– А!.. Ладно! Раз не спишь, начну убаюкивать! Деды раньше не пели бабушкам колыбельные, но как-то раз один из них попробовал, и его уже не остановить! – Муж смеется, радуется, что жена опять в ясном уме. – Я колыбельные теперь собираю! Настоящие, те, что тебе мать с бабушкой пели! Что это мы зациклились на диковинных текстах? «Мертвые седые корабли», «бананово-лимонный Сингапур»; экзотические стихи Гумилева я читал под музыку – про «свирепой пантеры наводящие ужас зрачки» и снова о кораблях, не мертвых, а живых:
На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей…
Ты прямо взвизгивала от восторга. Откуда у тебя склонность к морской романтике? Но послушай истинную колыбельную, обращенную прямо к малышу, хотя бы вот эту! Называется «Казачья колыбельная».
Он торопится взять гитару, садится опять возле жены и поет:
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю…
– Нравится? – спрашивает Виктор Степанович.
– Не очень. – Жена пощипывает губу. – Извини, я знаю, ты старался, прослушивал где-то, выписывал, запоминал, но это мне не очень ложится на душу. Давай, милый, другую.
– Слова, между прочим, Лермонтов сочинил, – подчеркивает он.
– Лермонтов нравится, слова хорошие, но музыка однообразная, монотонная.
– Музыка народная; усыпляющая она, согласен, как раз для колыбельной. Впрочем, ты права. Я не ту песню взял. В ней дальше – про быт терских казаков, кинжал там упоминается, злой враг ползет. Лермонтов задумал свою «Казачью колыбельную», служа на Кавказе. А вот давай-ка я совершенно очаровательную спою!
Пощипывая семь струн, ласково выводит домашним голосом:
Спи, моя радость, усни!
В доме погасли огни,
Пчелки затихли в саду,
Рыбки уснули в пруду.
Месяц на небе блестит,
Месяц в окошко глядит.
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!..
Александра Николаевна прерывает его пение:
– Какая прелесть! Мягкая песня, нежная, уютная! В ней бесконечная любовь к ребенку! Мелодия кружевная!
– Еще бы! Музыка Моцарта!
– Неужели!
– Представь себе! Самого Вольфганга Амадея! А слова, по-моему, перевод с немецкого.
Он наклоняется ближе к супруге и продолжает с добрым актерским выражением лица:
Кто-то вздохнул за стеной,
Что нам за дело, родной?
Глазки скорее сомкни,
Спи, моя радость, усни!..
Когда песня кончается, Александра Николаевна произносит:
– Так и вижу мою старенькую бабушку Глафиру Ильиничну, худощавую, с жидкими седыми косицами, закрученными и зашпиленными на затылке! Она склонилась надо мной и поет колыбельную, которую я нынче забыла. А бабушкин образ мне ясно вспомнился… Спасибо! Ты, как всегда, хорошо пел! Голос у тебя хрипловатый, но душевный! А слух просто замечательный!
– Тогда – на бочок и ладони под щеку? – говорит Виктор Степанович. – Теперь, надеюсь, заснешь?
– Нет, погоди! Хитрый какой! А необыкновенную песню? Колыбельная – это очень хорошо; но все равно мне надо опять такую, где есть сказка, мечта и загадка!
– Да ведь уж поздно! Хватит на сегодня! Что это ты так разговорилась на ночь глядя?
– Не увиливай! Пой мне колыбельную, про которую я буду думать!
– Есть у меня, конечно, в запасе, – говорит Кастерин. – Но жалко зря тратить. И петь уж не хочется.
– Нет, пой!
Александра Николаевна сердится. Тон ее становится приказным. Еще один протест мужа, знает он, и жена может вспыхнуть, закричать, заплакать, а то и быстро, горячо заговорит что-то несвязное и от болезненного запала станет задыхаться.
– Хорошо. Слушай.
Гитара лежит у него на колене. Он гладит ее по деке и грифу, словно торопясь вернуть инструменту и себе творческий настрой; потом играет и поет задумчиво:
За рекой
В темном лесе колдунья жила,
У болот,
Сторонилась села.
Тот, кто с ней
На тропинке сходился лесной,
Тот спешил
Пробежать стороной.
У того села
Грозной ведьмой слыла,
Но колдунья
Не делала зла…
Александра Николаевна не сводит с мужа глаз; затаила дыхание, изумленно слушает. Кастерин даровитым исполнением все сильнее увлекает супругу:
Я ее
Ранним утром в лесу повстречал.
«Ты прекрасна», –
Колдунье сказал.
Говорит:
«Если хочешь, я стану твоей,
Но предать
Ты меня не посмей.
Как предашь, тогда
В небе вспыхнет звезда,
И погаснет
Она навсегда…
– Боже, какая удивительная песня! – восклицает Александра Николаевна. – Словно бы дремучая, но завораживает, а мелодия пророчит беду!
Кастерин кивает, не прерывая исполнения. Тон воспеваемой им лесной красавицы делается строгим:
Я шепну
Злому ветру и травам густым,
И болота
Окутает дым.
Будешь много лет
Мой отыскивать след,
Закричишь –
Только эхо в ответ.
– Вот и все. – Кастерин решительно поднимается.
– Жалко колдунью, – говорит Александра Николаевна. – Она и не колдунья была, а добрая ведунья, знахарка, собирала лечебные травы. Люди ее боялись, избегали, а она старалась для них. И вот один парень не испугался и сказал ей ласковые слова. Она в него влюбилась; думала, что нашла друга, а он позабавился и обманул ее. И погасла звезда навсегда!.. Бродит теперь, дурачок, как она предсказала, ищет свою любовь, потрепанный, голодный, холодный и никому не нужный. Закричит – только эхо в ответ. И его жалко… Сказочная песня, но про жизнь. Ты ее, наверно, как старинный клад, из земли для меня выкопал? Так стараться можно только любя. Верно?
– Конечно!
– Тогда я счастлива. Но все же, где ты взял эту поразительную песню?
– Все там же, в далекой молодости. Однажды услышал и спел тебе, но ты запамятовала. Чья, не знаю. Слышал несколько вариантов, в прошедшем времени и в настоящем. Этот мне понравился и запомнился.
– А я забыла. И песни, и многое другое, – грустно произносит Александра Николаевна и неожиданно озадачивает мужа таким вопросом: – Знаешь, зачем ты поешь мне колыбельные?
– Тебе что, в моем пении видится особый смысл? Пою, чтобы ты скорее засыпала – вот и все.
– Это тоже правильно; но, сам того не замечая, ты, милый, готовишь меня к вечному покою, убаюкиваешь навсегда.
Муж смотрит на нее ошеломленно, теряется, спешит возразить. Александра Николаевна упреждает его:
– Не надо. Молчи. Знаю, что станешь ругать меня за разговор о смерти. Но это в наши годы естественный разговор. Думаешь, не понимаю, что никогда не вылечусь и скоро умру? Смерть не пугает. Небытие мы все испытали, когда нас на земле не было. В добром здравии, конечно, пожила бы еще, с удовольствием; но не могу больше сама мучиться и мучить близких. Не могу! Не могу!.. Не хочу!.. Я не слишком религиозна, но чувствую по-христиански и прошу Бога забрать меня к себе поскорей! Ты помогаешь мне дожить до конца смиреннее, спокойнее, чем могло быть без твоей помощи!
Молча постояв перед ней, он говорит:
– Считаешь, одному мне стало бы проще жить на свете? Ошибаешься. Я уже привык к множеству забот, к уходу за тобой. Сил хватает. Раздражения не чувствую. Все равно никаких дел больше нет. Повесть вот только кропаю помаленьку, часто откладывая в долгий ящик. Не скажу, что все это успевать легко, однако справляюсь. Но пусть будет вдвое тяжелее – выдержу, только бы ты оставалась со мной. Не представляю свою жизнь без тебя. Поживи еще, а я постараюсь делать так, чтобы ты меньше страдала. А если колыбельные стали печалить тебя, нагонять черные мысли, то давай перестану их петь. Возьмемся читать веселые рассказы.
– Чем дольше будешь петь, тем больше проживу. После колыбельной дитя крепко спит, а утром просыпается. Я же, как колыбельные прекратятся, усну навечно.
Александра Николаевна коротко усмехается. Муж спешит закончить опасный разговор:
– Хватит болтать, болтушка! – Тон ему удается почти естественно шутливый. – Спи! Давай поправлю подушку!..
Он говорит жене «спокойной ночи», целует ее, гасит свет и опять уходит в кухню, а там садится и, поставив локти на стол, трет пальцами виски. В водопроводе теперь и гудит, и шуршит, и посвистывает. Когда Виктор Степанович сильно напряжен, ему врываются в уши эти нудные звуки. Что-то давит Кастерину весомым грузом на плечи. Он не верит в мистические приметы и предсказания, но держит в голове слова Александры Николаевны: «Чем дольше будешь петь, тем больше проживу». «Хитрая, двусмысленная фраза, – думает Кастерин, – совершенно разумно сказанная, и тут ни при чем болезненные галлюцинации Саши. С одной стороны можно понять ее так: долго мне поешь – долго живу и мучаюсь, а с другой: я готова, мучась, радовать тебя тем, что живу…»
Он возвращается в спальню и тихо ложится с женой валетом. Она уснула. Сломленный усталостью, Кастерин тоже быстро засыпает, но вдруг резко просыпается и ощупывает ноги Александры Николаевны, прижимает к себе. «Слава Богу, теплые! Завтра натру их новым снадобьем. Может, ей полегчает».
* * *
Незаметно весна пришла. Капель стучит за окном по дождевому скату, как горох, тепло прибывает, и хозяин смелее распахивает форточку, не боится теперь застудить жену. Для Александры же Николаевны смена времен года не имеет значения. Когда муж говорит ей, что наступила весна, солнце яркое, снег набух, и уже текут ручьи, она вяло отвечает:
– Да? Я думала, еще зима. Солнца не вижу. Мне кажется, что всегда пасмурно. А согреваюсь только под одеялом.
Плохо ей по-прежнему.
Кастерин почти профессионально ходит за больной женой – сам постиг это тонкое трудоемкое искусство. Колыбельные он ей поет исправно, старательно, но всегда держит в уме фразу, вызывающую у него смятение: «Чем дольше будешь петь, тем больше проживу». Истинно колыбельных Виктор Степанович собрал уже достаточно, а «необыкновенных» песен, которые тоже зовет колыбельными, ему не хватает, но тут он еще раньше нашел выход из положения: берет подходящие стихи и поет их под собственную музыку. В последний раз он пропел жене «Тамару» Лермонтова:
В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон коварна и зла…
И Александра Николаевна в строгом спокойном раздумье сказала:
– В жизни, я знаю, такие красивые мерзкие женщины тоже есть. Они жаждут амурных утех, готовые поубивать и соперниц, и провинившихся любовников. К старости дурнеют, еще больше свирепствуют и развлекаются клеветой и склоками…
Однажды она засыпает без колыбельной. Кастерин, сморившись за день, ложится в другой комнате на диван отдохнуть, но тут же летит в бездонную пропасть и через минуту ничего не помнит. За полночь он вскакивает с дивана от внутреннего толчка и спешит к жене. Ночник в спальне продолжает гореть. Александра Николаевна лежит с закрытыми глазами, приоткрытым ртом. Виктор Степанович вглядывается в супругу, старается понять, дышит она или нет. Ему кажется, что не дышит. Он сует руку под одеяло, ощущает ее тепло и облегченно переводит дух. Она открывает глаза.
– Прости, – говорит Кастерин, присев на постель и склоняясь над женой. – Не убаюкал я тебя нынче. В девять часов прилег отдохнуть и не заметил, как уснул. Только что очнулся.
– Не винись. Не беда. Из жалости к болящей ты баюкаешь меня да баюкаешь, усталость дала тебе отдохнуть. – Александра Николаевна гладит мужа по голове. – Бедный! Все для меня и обо мне, а себя поберечь некогда! Что бы со мной было, если бы не ты!.. А я, дурная, смерть зову! Это ты меня прости!
– Болят ноги? – осторожно спрашивает он.
– Мне кажется, получше стало. Даже, видишь, уснула и тебя не позвала.
– Так давай сейчас спою.
– Нет, отдыхай. Раздевайся и ложись скорее. А завтра спой обязательно!
* * *
Внучка звонила, обещала приехать. Кастерины ждут свою «солнечную девочку», как до сих пор зовет ее Александра Николаевна. Лиза проживает в Москве, она актриса и снимается в телефильмах; но, если выдаются свободные дни, мчится на своей машине в подмосковный городок и устраивает деду с бабушкой праздник. Она с пеленок росла у них, так получилось в ее жизни и, по сути, стала дочкой родным старикам.
И вот Лиза, с тяжелыми сумками, является рано утром. Она молодая красивая женщина. В ней в самом деле есть что-то солнечное – ее вид источает тепло, ласку, взгляд лучист, волосы золотисты. Оставив сумки у порога и скинув туфли, она движется мягко, изящно, обнимает деда, чмокает в щеку и спешит в спальню.
– Хорошая моя! – говорит она, встав у постели на колени и целуя бабушкины лицо и руки. – Как ты?.. Как себя чувствуешь?..
– Ничего. – Александра Николаевна глубоко вздыхает и отвечает медленно, улыбаясь сквозь гримасу горечи, со слезами на глазах. – Двигаться мне вот только тяжело. Я разучилась ходить. Лежу колодой. Дедушка за мной ухаживает, покоя не знает. А за ним самим пора ухаживать.
– Не пора, – откликается Кастерин. – Я твердо держусь на ногах. А тебе мешает болезнь. В двадцать первом веке наш возраст – еще не очень глубокая старость.
– Держишься твердо, потому что иначе тебе нельзя: за женой надо ухаживать. – Лиза оглядывается на деда, снова целует бабушке руки и встает с колен. – Ты большой молодец! Я тобой восхищаюсь и горжусь!.. Все время я думаю о вас с бабушкой; но часто приезжать не могу, такая у меня работа. Перевезти бы обоих в Москву, но там вам не станет лучше, а может станет хуже. Мне постоянно заботиться о вас невозможно, а мама моя, с ее характером, точно, не взялась бы, скорее, начала бы вас обижать. И сиделку для бабушки она не пустила бы в дом. Ты бы, дедуля, сам сиделку пригласил! Можно не через собес, а частным образом, я бы заплатила! Что ты такой упрямый?
– Я не упрямый. Просто мы с бабушкой чужих помощников не хотим. Мы столетние друзья и с нашим несчастьем справляемся вдвоем. Ну, еще ты нас крепко выручаешь. Спасибо. Надолго ли приехала?
– Всего на пару дней. В Москве много дел.
– В каком фильме нынче снималась?
– В мелодраме. Покинутую жену играла. Рабочее название «Два берега», а там не знаю, как его назовут.
– Скажешь, когда пойдет. Буду смотреть. Я все твои фильмы смотрю.
– А я теперь не увижу, – произносит Александра Николаевна. – Совсем слепну.
Дед молчаливо кивает внучке. Лиза выдерживает с ним вместе некоторое печальное оцепенение.
– А папа твой не приедет? – спрашивает ее бабушка, но, что-то пытаясь сообразить, умолкает, смотрит в сторону, прикусывает губу.
Дед с внучкой опять переглядываются.
– Сейчас я вас вкусно покормлю! – говорит Лиза. – Кажется мне, что вы питаетесь кое-как, не балуете себя лакомыми блюдами! Верно?
– Дедушка хорошо стряпает, – возражает Александра Николаевна слабым голосом. – Я не ожидала, что он сможет.
– Он вообще отличный хозяин! – Лиза озирает спальню, постель, бабушку. – У вас чисто и прибрано! Пододеяльник, наволочка, рубашка у тебя, бабуля, свежие! И сама ты намытая! Просто замечательно!
– Этот парад – к твоему визиту, – говорит Виктор Степанович.
Внучка, грозя ему пальчиком, выходит в прихожую, уносит свои сумки в кухню. Умывшись в ванной, Лиза готовит обед. Она всегда по приезду к деду с бабушкой сразу начинает кухарничать. Продукты, специи и разные вкусности к обеду Лиза привозит из Москвы.
По квартире разносится съестной дух. Давно старики такого не знали – еда из полуфабрикатов пахнет менее аппетитно. Дед умывает жену над тазом и усаживает на постели перед складным столиком, а для себя и внучки тащит вниз ножками малогабаритный кухонный стол. Лиза ставит на него бутылку виноградного вина. Лекарств сердечных бабушке сейчас не дают – они даже с легким алкоголем несовместимы. Все пьют вино из хрустальных бокалов – за встречу, – и бабушка выглядит более здоровой и улыбается счастливо, наивно, по-детски.
– Как хорошо! – говорит она. – Собрались все вместе! Внучка к нам приехала!..
Едят горячий борщ. Александре Николаевне налили в тарелку на донышко и немного дали постного мяса. По-прежнему ест она с аппетитом но мало. Бабушка дует в ложку и по чуть-чуть отхлебывает. Губы у нее мокрые, по подбородку течет струйка. Лиза промакивает ей губы и подбородок бумажной салфеткой.
– Дай, я сама! – говорит Александра Николаевна и повторяет: – Какое счастье! Смотрим друг на друга, радуемся! У нас праздник!
Лиза с грустью замечает, как полуслепая, разбитая болезнью старушка, которую она помнит цветущей женщиной, нащупывает худыми пальцами у себя на столике то ложку, то кусочек хлеба. Ей хочется обнять бабушку и заплакать. Поев борща, Александра Николаевна блаженно улыбается, щурится и клюет носом – вино усыпляет болящую. Нос ее порозовел, щеки покрылись капельками пота. Лиза вытирает ей пот и подтягивает одеяло под подбородок. Они с дедом бесшумно оборачивают столовую спальней и заканчивают обед в кухне.
Внучка спешит побольше сделать в помощь старикам до скорого ее отъезда и, пообедав, не отдохнув, идет на улицу, садится в свое авто и едет за продуктами, чтобы успеть забить ими впрок холодильник и сварить деду с бабушкой хорошую еду еще, примерно, на неделю – бери из холодильника, грей и ешь. Вечером она, несмотря на протесты деда, стирает белье, какое он не успел выстирать, наконец, усталая, собирается лечь спать пораньше (по ее представлениям).
Она стелет себе в другой комнате на диване, переодевается в белую пижаму и идет в ванную почистить зубы, но не успевает лечь, как слышит теплый гитарный перезвон, он доносится из спальни стариков, в ней теплится ночник. Внучка торопится к спальне, осторожно заглядывает в нее и видит, что бабушка лежит с закрытыми глазами, а дед устроился возле нее на стуле и играет на гитаре. Исполнив короткое вступление, он поет:
На крылечке твоем
Каждый вечер вдвоем
Мы подолгу стоим
И расстаться не можем на миг.
«До свиданья», – скажу,
Возвращусь и хожу,
До рассвета хожу
Мимо милых окошек твоих.
Если надо пройти
Все дороги-пути,
Те, что к счастью ведут,
Я пройду – мне их век не забыть.
Я люблю тебя так,
Что не сможешь никак
Ты меня никогда,
Никогда, никогда разлюбить.
Лиза быстро заходит в спальню.
– Что я вижу и слышу?! Вы что, ночью поете под гитару?
– Тише! – предупреждает ее Виктор Степанович. – Бабушке плохо. Я дал ей обезболивающую таблетку, убаюкивает ее песней. Она старается уснуть.
– Ой-ей-ей, простите, дорогие мои! Я не знала! – Внучка, прижав руку к сердцу, спешит уйти. Она пропускает мимо ушей слова деда: «…убаюкивал ее…»
Александра Николаевна открывает глаза.
– Побудь, – просит она. – Поговори с нами. Я пока не сплю. Понравилось, как дедушка пел мне колыбельную?
– Колыбельную?
– Ну да.
– То, что я слышала, стоя за дверью, мне очень понравилось. Дедушка хорошо играет и поет. Но это же не колыбельная! Просто чудесная песня! А колыбельная где?
– Она и есть колыбельная для бабушки, – говорит Виктор Степанович. – Я давно пою ей перед сном разное. В последнее время беру советские лирические песни, помню их немало.
– Чудеса! Никогда такого не слышала!
– А ты не пошучивай. И песни я пою не всякие, а те, что бабушке нравятся, умиротворяют ее, успокаивают, клонят в сон.
– Да, дедушка поет то, что мне нравится, – говорит Александра Николаевна. – Он знает, что надо. Раньше я просила необыкновенные песни, а теперь слушаю всякие. Под колыбельные у меня меньше болит, и я, как в детстве, быстрее засыпаю.
– Потрясающе! – опять восклицает Лиза. – Я не пошучиваю, а изумляюсь! Вы даже не представляете, какие вы замечательные! Таких больше нет! Я вас очень люблю! Хочу сказать об этом необыкновенные слова, но в голову приходят самые простые!
– Ладно, коза, отдыхай, – говорит Виктор Степанович, – и нам дай отдохнуть. Петь я больше не стану. Бабушка зевает, значит, все же заснет. Иди…
Двери в комнатах открыты, и ночью Лизу будят стоны и охи бабушки. Внучка снова видит у стариков свет. Дед выходит из спальни полуголый, несет какие-то тряпки, льет в ванной воду, гремит тазом и возвращается.
– Ну вот, все в порядке, – говорит он. – Можно спать дальше. А ты волновалась.
– Больше не могу! – почти кричит бабушка. – Не могу так дальше жить! Понимаешь? Боль, слепота, стыд, безысходность! Думаю только о том, что хочу поскорее умереть!
– Ну-ну-ну! – отвечает Виктор Степанович. – Ты сильная! Сейчас ночь, мрак! А завтра опять будет солнце, светлое настроение и надежда на лучшее! Спи! Я сейчас приду и посижу рядом, по голове тебя поглажу.
Лиза в порыве жалости до слез встает с потели, идет и встречает деда между комнатами.
– Моя помощь нужна? – шепчет она. – Давай помогу!
– Нет! – Он тоже шепчет. – Здесь только наши с бабушкой заботы! В них не дозволено встревать самым близким людям! Уходи!
Лиза уходит; но прежде чем вернуться в постель, она слышит еще, как бабушка спрашивает деда:
– К нам кто-то приехал, да? Кто у нас?
– Да ведь внучка гостит, – отвечает Виктор Степанович. – Забыла?
– Ах, Лизонька! Как же, помню! Она такое солнышко! Заботится о нас, печется! Дай же мне скорее еще таблетку! Натри ноги!..
Утром бабушка отсыпается после ночного приступа боли. Внучка хлопочет у газовой плиты, готовит завтрак, а дед сидит на диванчике возле кухонного стола, беседует с Лизой.
– Меня очень тронуло то, что ты поешь бабушке колыбельные песни, – говорит Лиза. – По-моему, это явление редкое, если не исключительное. А как же терпеливо и бережно ухаживаешь за ней! Я подсмотрела даже то, извини, как ты сажаешь ее на судно. Ей плохо, стыдно, она не сдерживается, капризничает, ругает тебя, что взял не так, сделал больно; но ты не возмущаешься, не повышаешь голос. Скажи, пожалуйста, ты до сих пор так сильно любишь жену?
– Не хочется произносить слово «любовь», – отвечает Виктор Степанович. – Оно сильно опошлено. Ну, люблю, если прямо так спрашиваешь; не могу, значит, без Александры. Вместе мы прожили шестьдесят два года и не надоели друг другу. К старости, оба крещеные, обвенчались. По церковному поверью, стало быть, на том свете встретимся. Суть твоего вопроса мне ясна: как можно любить такую старую, неприглядную? Так ведь и я старый и, хоть держусь пока, но тоже не бравый теперь мужичок, а она меня любит. Мы вместе старились, любя. Я лучше вижу Александру молодой, чем старой. Сознание скользит мимо ее морщин и немощей, не придает им значения. Часто вспоминаю, как мы с Сашей накупались в загородной речке и сидим загораем на берегу, на чистом желтом песке. Солнце яркое, жгучее. Река течет плавно и блестит ослепительно. Саша прекрасна после купания. Она распустила роскошные каштановые волосы – сушит их. Какая-то сила толкает меня к ней, и я целую ее влажное прохладное плечо. Она оборачивается, удивленно смотрит и ничего не говорит. Мы тогда просто дружили, не целовались и не думали, что когда-то поженимся.
Лиза заваривает деду чашечку кофе, разбавляет молоком и говорит:
– Вы с бабушкой, целое ваше поколение, какие-то особые люди. Однолюбы вы, в единственном браке живете до конца жизни. Завидую, удивляюсь, благоговею, но сама так не смогла. Супруг мой тоже не смог. Сошлись по страстному влечению. Дальше: он, пианист – на гастролях, я, актриса – тоже в творческих поездках. Мама моя его в свой дом не пускала, постоянного жилья у нас с ним не было. И общие интересы не сложились. Прожили мы как попало восемь лет и разошлись без особых обид и сожалений. Можно ему опять жениться, а мне выходить замуж.
– В признании твоем слышится печальный цинизм. – Дед пригубливает кофе. – Он у тебя от того, что в близости с мужем ты разочаровалась, не познала глубокого чувства. Жаль, что у вас дети не родились! Могли бы связать себя ими и зажить прочной семейной жизнью. Ну как можно без детей?.. А бабушка не знает, что вы с мужем разошлись. Недавно вспоминала Михаила. Удивительно, что она не спрашивает тебя о нем. Правда, она теперь очень скоро все забывает.
– Миша хороший человек, талантливый, – говорит Лиза. – Но вот… разошлись. У обоих при разводе дрогнули сердца, и мы расцеловались, озадачили судью. Ой, слышишь? Бабушка проснулась! Зовет тебя! Ступай к ней!..
Утром внучка уезжает. Расставаясь, она так же, как при встрече, опускается на колени возле бабушки и ласкает ее.
– Милая, старая, слабенькая! – говорит она. – Я люблю вас с дедушкой и помню, сколько хорошего вы для меня сделали! Мне так не хочется уезжать от вас! Вам тоже грустно со мной расставаться. Давайте не будем хмуриться и улыбнемся друг другу! Я постараюсь в скором времени опять приехать. У меня, наверно, появится такая возможность.
– Да… Да… Печалиться не надо! – отвечает Александра Николаевна и всхлипывает. – Ты о нас не беспокойся! Главное, чтобы у тебя все было хорошо! Увидимся ли еще?..
Чувствительная душа Лизы едва выдерживает, душа готова разорваться. Внучка оставляет бабушку, просит деда не провожаться дальше порога и, подхватив в прихожей опустевшие сумки, торопится уйти.
Едва дверь за ней закрывается, как Александра Николаевна говорит, вытирая глаза платочком, который всегда у нее под подушкой:
– Вот, уехала! Мало погостила наша ласточка! С неделю, не больше… Все у нее дела да дела! Такая разумная и красивая выросла! Здоровье бы не подвело! Дай Бог ей доброго здоровья и счастья в жизни!..
И на другой день она вспоминает внучку, нахваливает, горюет, что уехала; но спустя пару дней морщит лоб, гладит его ладошкой и произносит:
– Кто-то к нам недавно приезжал. А кто, никак не вспомню.
* * *
Ночь. В спальне Кастериных опять брезжит ночник. Через приоткрытую форточку в комнату проникает аромат цветущей черемухи. Муж убаюкивает Александру Николаевну сладостной советской колыбельной из фильма «Гусарская баллада». Взгляд жены постепенно гаснет, глаза закрываются, и он, облегченно вздохнув, прерывает песню на умилительном куплете:
В уголок подушки
Носиком уткнись…
Звезды, как веснушки,
Мирно светят вниз…
За полночь жена просыпается, не стонет, не охает, но что-то лопочет и пробует сесть. Встряхнувшись с первыми признаками ее бодрствования, Виктор Степанович аккуратно отстраняется от ее ног и встает на пол. Засветив ночник, он спрашивает:
– Ты что?
– Хочу встать и пойти. – Она с трудом держится полусидя, упершись рукой в постель. – Належалась. Пора делами заняться.
– Какими делами?
– Домашними. Схожу в магазин, все куплю и возьмусь квартиру убирать.
Говорит складно и смотрит как будто естественно; но разум ее блуждает в других обстоятельствах.
– Куда же ты пойдешь? Глубокая ночь! Темень! Все кругом спят!
– Ночь? Какая же ночь? Сейчас день! Ты, милый, перепутал! Солнце яркое! И спешу тебя обрадовать: я перестала болеть! И вижу все! Ты такой молодой, привлекательный! Я тоже молодая! Сын у нас скоро родится! Вон как шалит в животике! Толкается!..
Муж привык к ее провалам сознания, особенно ночью, но супруга так смущенно и очаровательно улыбается ему полубеззубым ртом, как улыбалась в молодости, когда на месте были все зубы, крепкие, белые. Правда их изрядная нехватка скрыта теперь в полутенях при тусклом свете.
Александра Николаевна хочет сесть поперек постели. Кастерин поддерживает ее. Она садится, свешивает ноги, тяжело дышит и покачивается от слабости.
– Лучше опять ляг и усни, – говорит Виктор Степанович. – А утром вместе сходим в магазин и приберемся дома.
– Да… Лягу. Нет сил, и солнце погасло. А ты никуда не уйдешь?
– Куда же я уйду от тебя? Я всегда с тобой.
Муж помогает ей лечь. Александра глядит на него виновато и жалобно – так ему кажется.
«Странный взгляд, – думает Виктор Степанович. – Не помню, чтобы она раньше так смотрела».
– Ну, что тебя беспокоит? Что ты волнуешься? Все у нас в порядке! Тебе полегчало! Спокойной ночи!
Он склоняется низко, тянется губами к ее щеке. Жена неожиданно крепко сжимает его руку, готовится что-то сказать, но лишь мычит ему в лицо и судорожно хватает воздух.
– Да что с тобой?!
Она вскидывает голову, но тут же роняет на подушку, сделав хриплый глубокий вздох. Виктор Степанович глядит на нее неподвижную, закрывшую глаза и еще не сознает, что подруга отмучилась и ушла от него.
Альберт Карышев
______________
168977
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 11.12.2024, 23:41 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 13.12.2024, 15:16 | Сообщение # 2884 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| "Изба-старуха челюстью порога
Жуёт пахучий мякиш тишины."
(Сергей Есенин)
***
Там, где не мычат стога двурогие,
на верёвках телится бельё –
соловей кошачьей лапой трогает
сердце непутёвое моё.
И, пугая рыб гудками долгими,
ищет пристань пьяный теплоход...
Запестрел фальшивыми наколками
знаков зодиака небосвод!
Ветра нет, он только приближается,
намотав усищи на кулак!
Мой костёр, как зуб больной шатается –
и во тьму не выпадет никак.
Околдован птичьими уловками,
на похмельном «Омике» опять
уплыву со всеми остановками
дорогих и близких догонять
***
Кончается наркоз, и – музыка потом,
орудует скрипач нажопкой по металлу.
Май гонит самогон и варит суп c котом,
и липнет языком: алло, аллея, алла!
Мы выследим его по пузырькам следов –
дождю невмоготу дышать через тростинку.
Вспорхнувшим мотыльком от сердца отлегло –
но свечка, как часы, страдает нервным тиком.
Татарки мертвецу, грузинки от трусов –
имеет смысл извне, когда возникнет между...
Кустурица – в кустах, забился в люк Бессон,
запущенный стрелой из плечиков одежды.
Летит под стол второй бутылки пустячок...
Пора морщины лба расшнуровать под душем:
пусть время, как вода, сквозь волосы течёт,
и воздух измельчён черёмуховой чушью!
***
Немыслимо сбежать от цвета беж –
настолько жизнь вокруг ветхозаветна,
пока играет в ножички главреж
и об асфальт заточен вектор ветра.
Забытая царапина кровит,
напоминая жженьем вой сирены.
Закованный в мадженту и графит,
застыл Лаокоон куста сирени.
Созвучья, словно бусины бросай
в молчание природы после линьки –
фехтует хрупкой молнией гроза,
защищена плетёной маской ливня!
Проверим напряжением струны
какая у кого рок-группа крови,
а если сердце с правой стороны –
неуязвимо отраженье, кроме
мучительной стрельбы поверх голов
глазами, разминаясь для сугрева,
чтоб умиляться, словно Гумилёв,
слагая абиссинские напевы.
***
Андрею Полякову
Последний призрак чёрной сотни
сухой рукой ракиты мятной
червонный крест на горизонте
натягивает в масть закату.
Сырым бельём повязан ветер,
он, догоняя день вчерашний,
незыблемой верёвки вертел
прогнул, в смирительной рубашке.
Черёмухи, бесами мучим,
разбрызгивая злую пену,
за песенкой Бессамемучо
как Копердфильд уходит в стену!
Так ламы прячутся, с Тибета,
сквозь горы, в трудную минуту,
просачиваются. А тебе-то
шукать всю жизнь "Червону руту"....
***
Оперируй соусом Табаску
нежный, как беременный скелет,
не буди горячую собаку,
с лапами из мокрых сигарет!
Не поранься иглами пийота,
даже принимая «Докси-хем»…
Твой, до боли: с птичьего полёта,
город детства – свалка микросхем.
Наступи, эпоха возраженья
на мозоль портянки на денёк…
Пусть, посажен в камеру слеженья,
Родионов ухом не ведёт.
Здешние Рахметовы, наверно,
втихаря, за пазухой страны,
отсвет принимают внутривенно
так и непогашенной луны…
Пульса нитевидного стаккато,
до-ре-ми – доколе, да вино!
Выиграешь к вечеру заката
жареную рыбу в домино…
***
Сегодня начинается на Ка:
то каплет, то колеблет, то колышет,
ощупывают небо облака
и больно спотыкаются о крыши,
напрягся лётчик сбитый, но живой –
как долго рассекают мимо кассы
затянутый в скрипящее конвой,
и в гриндерсах лихие пидарасы,
земля одна – то мор, то недород –
кому нужна такая этих кроме –
но ссорятся соседи каждый год,
как голуби купаясь в лужах крови,
природу проверяя на испуг,
ползёт предгрозовая даль гнедая,
не дремлется в саду, когда из рук
по яйцам Достоевский выпадает,
по вымытому где ни наследи,
опять всему хана, и всё насмарку
одна надежда, счастье впереди –
смотри туда, как на электросварку.
***
В чистом поле не вера, а Верка
безнадежная, а родила,
прикорнула в конвульсиях ветра,
по любви – вот такие дела,
и – до вечера снова на выпас
подрастающих папье-маше:
кто родился в рубашке на выпуск,
кто в гнилой телогрейке уже,
то сажает вредителей Сталин
то трясёт кукурузой Хрущёв.
Гоголь помер, а страхи остались,
только мы не боимся ещё,
мы живых уголков детсадисты
физкультурники уличных драк,
и на милость врагу не сдадимся,
потому что не знаем, что как.
***
Как ты, молекулами хлеба
выкармливая мелких птиц,
деревья прорастают в небо
и падают оттуда ниц.
Встречает гладь реки скитальца
плашмя, а не моги, родной,
ходить по клавишам на пальцах
над перевёрнутой водой!
Обрыва каждый пень скуратов –
бросает клубни кулаков
в живот, податливее ваты.
Ушёл в себя – и был таков…
Покамест обмирает сердце,
загривок загодя намыль –
ужо умерит пыл терпельца
казённой мешковины пыль,
оформит перечень историй
остаток рощи небольшой…
Деревья умирают стоя
у человека над душой!
***
Разбита в кровь макушка лета,
и на коленках пузыри…
Сухарь штакетника шкелета
грызут крапивы упыри.
Июль на летний трон помазан,
пол неба – тёртый промезан…
Шуршит в овраге протоплазма –
а то засада партизан.
Вот вышел трагик с того Фета
со шпагой молнии в руке,
чтоб громкий дождь на сваях света
прошёлся дурнем по реке.
Ещё клубника в поле зрима,
за ней тряпичный лес повис…
Всё – фальшь и нежить, кроме грима –
и жесть гремит из-за кулис!
***
Августовское «гитлер капут» –
похотливые липы текут.
Кто отыщется в свежей капусте:
аистёнок, сопливый слизняк –
тяпка рубит наперекосяк
кочерыжку, запутавшись в хрусте.
Остывает утюг сентября,
на коротком шнуре серебра –
вороха перегладил иллюзий.
Там, где месяц цветёт, двоерог,
изо рта выпуская парок
расползаются тучи на пузе.
Эту схему собрал идиот,
втихаря, за диодом диод –
зарядил и замкнул без опаски…
Ты же, мама, меня не буди –
осторожней за плугом иди
гэдээровской детской коляски!
***
За что, кривому солнцу вопреки,
одной строкой пробиты две щеки:
от боли даже хрипу невпротык –
пусть вырвет зубы, только не язык!
Пусть по усам, пока могу терпеть,
течёт, как мёд, расплавленная медь.
Там свищет Свифт, светает рано там,
а на ветвях: аппорт и джонатан.
Лежит на кочке, выполнив скачки,
лягушка, как забытые очки.
Звенит, с утра не попадая в тон,
натянутая леска плеска волн.
Падёж скота, винительный коттедж...
Грядёт июль, и запах лип не свеж.
В гнездо заглянешь за пожарный щит –
миноискатель жалобно пищит!
***
Спасаясь от сорочьей голытьбы,
мычат стада, вытаптывая ёлки –
такая вот воронья и судьбы,
не разобрать чужой души по тёлке,
полёты в космос, залпы конопли
насущный хлеб, что в сухомять умяли,
два проводка – попробуй коротни,
и вылупится приз с шестью нулями,
а выпадет волшебный завиток,
навешанных собак гулять пора нам –
вдруг чья-то сука треснет между ног,
но кобели залижут эту рану,
последний из России сквернослов
уехал затовариваться в Лондон –
рабы на имплантации зубов
подорожали, но с каким апломбом,
и только ты, строжайший эконом,
свою страну отпаиваешь квасом –
ужесть утра, но темень за окном
трясётся, словно стрелка у компаса.
***
С комаром у виска надоедливым ночь коротаю:
многоточие звёзд бесконечно, луны запятая
из диктанта залива, а там золотые лягушки
осыпаются в воду как будто плеснули из кружки.
Что не скажешь, в сравненьи с «Энигмой» светил – всё коряво…
Вспыхнул ветер неоновой лампой в испуганных травах.
Вот затикал сверчок спусковой и в тылу побережья
по сигналу его – диверсантов-стогов перебежки.
Всё, что зрело вокруг и случилось с тобой не напрасно,
в закоулках души обнаружит прибор инфракрасный.
Вот рука погрузилась в скопление кнопок и клавиш…
И теперь, как всегда – не поймёшь ничего, не исправишь.
***
Б. Кенжееву
Расплавленной тыквой окажется завязь –
такая жара, будто не было Ноя,
такое амбрэ – лишний раз убеждаюсь,
Мир создан в Китае, как всё остальное:
ржавеют шприцы однорозовых сосен,
укол под лопатку... прививка – навылет,
фарфоровый воздух в теплице несносен,
который на даче разбили не вы ли?
Ботвой помидорной моя размахался,
что, дустом присыпан и пьяненький малость,
сквозь битумный лак просочился нахально –
скажите светилу, что я извиняюсь!
Тибетские – в хлам, на поруки возьмут ли,
сутулый сэнсей из японского мульта,
меня, с чёрным поясом по камасутре,
на грядке с Бахытом тягаться писулькой?
Досадно корням в унавоженной терре,
когда не пускает рассада налево...
И, взором врезаясь в зелёные перья,
любую морковь принимаешь на веру...
***
В глазах стрекозы воздух теребят,
прессует солнце корку апельсина.
Нечистой силе верится в тебя,
поэтому где только не носило,
чтоб выяснилось в юности тупой –
любой порядок гладит против шерсти.
Любимая, не бойся, я с тобой,
хотя мы никогда не будем вместе.
За душу, не ушедшую в печать,
обложит матом облачность литая.
Пришла пора цыплят пересчитать –
но осень так упорно не считает,
проводит жёлтым ногтем по уму
и высадит у мусорного бака.
По-русски новый дворник ни му-му,
одна печаль – кастрюля и собака.
Мы, словно ртуть, гуляем по кривой –
кому сказать, мол градусник стряхни нам?
Травиться будем осенью – листвой,
что с веток осыпается стрихнином.
Над головою птица ореол
за воротник закладывает галсы.
А я архива так и не завёл –
пытался, только ключик потерялся.
***
Осэн
1.
Над лесом и болотной ряской
брызг веера шалить вольны.
Европа продирает Глазго
на узкой Сан-Тропе войны!
Из Грузии хмельной и терпкий
приехал ржавчины раствор…
А на червонце Ленин в кепке –
закладка в книжке до сих пор.
Палёной шерстью сыплет осень.
Бежать из дыма не моги:
накинь ветровку 38,
погоны – стельки в сапоги!
Ножом консервным дождик тянется
по краю крыши, набекрень…
И кролики, с глазами пьяницы,
ныряют, с перепугу, в пень.
2.
Скажите это всем и восемь,
в остатке, заповедей свод:
перебежав дорогу, осень
жуёт конину, ну и вот
орлом двуглавым выпал жребий
кобыле – грудь её пестра…
Салют созвездий в ясном небе,
в «замри» играет до утра.
Дымится мир сырым навозом –
колючки в гриве не спасут…
Пульсирует над паровозом
труба, как порванный сосуд.
Затаривая дёгтем соты,
попутчикам не возражай:
когда сажают самолёты –
не собирают урожай!
***
Отечества и дым...
Всё дорого рассудку моему
на проволочках, в медном купоросе:
мычит Герасим, булькает Му-Му,
Иван-дурак от армии не косит.
Тот за испуг получит пару штук.
А этот, разминая папироску,
сверкнёт огнивом у горы Машук,
шепнув: спокойно, Маша, я – Дубровский.
Отправлен в ночь дурацким пузырём
окрестный мир с намыленной ладони.
Уснул Шарон, Шопеном озарён,
рассорился с друзьями Берлускони.
Забытый Богом наш атомоход
щекочет корешки тунцовых грядок!
Спит капитан, по горло вмёрзший в лёд,
"салаги" спят в отсеках, как снаряды.
В де Голи метит перекати голь,
стучит судьба в окно берцовой костью.
Нам рукоплещет взмыленная моль,
взлетев на тряский капитанский мостик.
Другой солист с нестриженных бровей
сойдёт в народ наладить козье дело,
попкорный новой участи свей…
ну, и тебе, правитель децибелый!
***
В разгаре осень, ясен пень,
предчувствуя похолоданье,
любовники сдаются в плен
отряду бракосочетанья…
По соске – каждому ростку,
спешащему в седьмой октаве!
Задушит ли мою тоску
залётный Рикки-тикки-тави?
Кудрявый гений не солгал,
глотая в Болдине ангину.
Мне в спину дует из угла
больного детства строганина…
Там, где ни низок – ни высок
медведя плющит на картинке,
раздастся автоматный сок,
стеклу всхрустнётся под ботинком,
когда в нечаянном бою,
набившем чёрный зоб картечью,
пойду за память, зуб даю,
вперёд, на приступ бессердечный!
***
В настроении паническом
перед стужей ноября
бьётся чижик электричества
в нервной клетке фонаря,
а внизу метлою шаркает –
в телогрейке старичок,
перекинув рваным шарфиком
первый снег через плечо!
***
Мы у пивных палаток били тару,
винтами лодок путались в сетях!
Как раненый боец на санитарах,
висел в зените коршун на локтях.
Былая нежить вынырнет нахально,
и снова опускается в кессон...
Сухой овраг, как кашель – бронхиальный,
и дым костра – поваренный, как соль...
Враги успели скурвиться и спеться...
Вдруг бывший клуб обрёл иконостас,
где колокол забит до полусмерти,
и бабье лето на дневной сеанс!
***
Чего-то очень жаль, и не понять нисколько –
как мозг ноотропилом ни глуши –
Хоттабыча уж нет, но есть покой и Волька,
и камеры слежения кувшин.
Али-Баба за блажь уволен из театра –
какой щенок крестом пометил дверь?
Блокирует Сим-сим фальшивую сим-карту –
никак не отпирается теперь.....
Котовский, старый Щорс, чего шипеть от злости?
Маршак за всех решил, чего хотят:
спалил господский дом, чтоб не хамили гости,
и превратил племянников в котят!
Откосы парусов стрижи берут в кавычки –
кромешный штиль, закончилась ничьей
жизнь наперегонки, где флагманские спички
поштучно тонут в мартовском ручье.
Дощатые «толчки» наскальных гениталий...
Зашарканные чешки и трико...
Как нас любили те, кто в треугольной таре
за вредность получали молоко!
Мне сказочно везло на мелкие обиды...
Чтоб ощутить былую благодать
попробуй, прежде чем съесть пирожок с повидлом,
с какого края слаще угадать...
***
Не говори, что время позднее,
вот верный признак потепленья –
снег, свежевыпавший из поезда,
мои разбитые колени.
К чему влюблённым мудрость ворона?
Важней ушные перепонки.
Тебе за пазуху даровано
спокойствие души ребёнка:
там сохнет лук в чулке за печкой.
дверь открывается со скрипом,
печалится, что зябнут плечи,
сверчок, владеющий санскритом.
А твой герой не вяжет лыка
в разгар свечи и ночи жалок...
В углу шотландская волынка
стоит снопом из лыжных палок.
Он из фольги приклеил фиксу,
обиженную скорчил рожу.....
Что из того, что счастье близко,
когда сейчас – мороз по коже!
***
Опять к тебе с обочины опасной
раба любви с надеждой руки тянет...
Из-за спины её разметка трассы
короткими строчит очередями.
Хоть грешников рассадит по ранжиру
мир хаоса, что всё-таки Евклидов –
не отыскать местов для пассажиров,
которые с детьми и инвалидов.
Упрёшься в пень, но выйдешь за кавычки
копны люцерны, пущенной на силос,
и некому нарочно чиркнуть спичкой,
чтоб осознать, какая тьма сгустилась...
***
Мокрый снег опять, наводит грусть
свой прицел оптический в Измайлово,
ну а вам, расфрендженые, пусть
дышится е-мейлово и смайлово.
Молодость горой сползает с плеч,
тянут на покой похмелье, годы ли –
только я надеюсь буду веч
ножевой, как изваянье Гоголя.
Прежний пыл не снять со стеллажа –
мишура заела карнавальная,
режешь правду-матку без ножа,
а она визжит, как ненормальная.
Всё, что украшало твой досуг,
поросло ромашками забвения,
тупо под собою рубишь сук,
а они смеются тем не менее.
***
Лукоморья больше нет,
а дубов простыл и след.
(Владимир Высоцкий)
Нельзя большой стране без куража,
довольно подвоёвывать украдкой,
пора отважных Жуковых рождать,
девятый месяц фыркая над схваткой,
и Скобелев придётся ко двору,
где в каждой луже, словно на экране,
метёт хвостом собака Яндекс ру,
полощет когти котик в Телеграме,
прореженные беглыми на треть
«мобильники» артачиться не смеют,
задачу выполняют уцелеть,
а постоять за Родину - позднее,
пусть Водяной запутался в соплях,
корыто починил старик поддатый,
русалка засиделась на ветвях -
под чешуёй наколки у хвостатой,
Добрыня вытирает пот со лба -
коптит Горыныч в статусе нейтральном,
а по окопам мечется судьба,
как Марио по трубам виртуальным,
мы все из единичек и нулей -
живой воды за свежие «герани»
плесни, но мимо кружки не пролей,
оставь на утро Пушкину и няне.
***
Прохладно в декабре играть в смешки,
когда на ёлках, будь они не ладны,
как шишки, автоматные рожки,
и вездесущих трассеров гирлянды,
а ты, стирая копоть со скулы,
поляков оборзевших карауля,
от каждой погремушки не скули -
пора бы научиться видеть пули,
пусть наш циклон погода подвела,
где даже сон - сплошная физкультура,
отсюда настоящие дела,
всё остальное - морок и халтура,
уверен, ты у Бога на табло
надёжно с калашом своим запарен,
сумеешь за себя и за того,
и за меня, я тоже славный парень,
уже скрипит снежком среди берёз,
с мешком гранат и пряников уральских,
в распахнутой шинели Дед Мороз,
и звёзды на погонах генеральских.
***
ДРГ
Подзапыхавшись, вздрагивают пихты,
гуляет фронт, расклад теперь таков -
украинская ночь никак не стихнет,
Шевченке далеко не до стихов,
пехота тоже рифмами не бредит,
набором слов попроще норовит,
всегда дорогу русскому медведю
Медведица Большая озарит,
сжимая автоматы, знают братья,
во глубине России, без затей,
невесты в лоскуты изводят платья
для зимних маскировочных сетей,
хоть по столицам копится измена,
рискует получить по кочану
какой-нибудь с повадкой шоу-мена,
когда бойцы в засаде начеку,
им шутки из-за ленточки не очень,
перед броском важнее передых,
с ранением один страдает молча,
чтоб враг не обнаружил остальных,
привыкших заходить в окопы с тыла,
а если надо, можно супротив,
противника врасплох застать не стыдно,
за жопу на насесте прихватив,
потом и рапорт пишется с нажимом,
все живы, веселись теперь, братва -
но ангелы-хранители, в снежинках,
над каждым успокоились едва.
***
Бритьё и раздраженье смоешь в душе,
водой текущей задом-наперёд,
тебя в бутылке выбросит на «суши»
где палочками чайка подберёт.
На чёрном рынке взвесив все ириски,
выплёвывая в пыль «ду ю спик ин»,
корми кота из оловянной в Минске,
пока к обеду хлеб не из Пекин.
Пока крутая лесенка не спета,
перечитаешь надпись на роду,
чтоб снять с предохранителя планету,
как маузер в семнадцатом году.
Стараюсь, хоть порой невыносимо,
из горлышка самбуку вострубя,
рождённых ползать Горького Максима
выдавливать на Капри из себя.
Алексей Остудин
______________
169068
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 13.12.2024, 15:17 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 15.12.2024, 23:55 | Сообщение # 2885 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Однажды день, сорвавшийся с катушек,
пошлет нам в ноябре такую стужу,
что не случалась прежде никогда,
И всепропальщик [в общем, каждый третий]
заговорит о боли и о смерти,
отсчитывая старые года,
Свои очередные неудачи –
“не принят”, “не полюблен”, “не назначен” –
одни сопроводительные “не”,
А под Днепром ровесник – русский воин,
Что по лекалам непохожим скроен,
не сетует – живет он на войне
И светофор зональный знает точно,
зеленая была недолгосрочной,
а желтая – недели полторы,
Арта лупила Градом трижды в сутки
без сбоев, отпуская злые шутки,
“Мол, получай данайские дары,
укроп-троянец, брат - братоубийца,
твоя земля теперь мне заграница,
но корень мой взрастет на ней еще”,
И в красной зоне – месяцы и годы
Он – русский воин, значит, к службе годен
и в божьи планы даже посвящен.
Одно ему неведомо, герою,
какой конец ждет нынешнюю Трою.
Сорвавшийся с катушек новый день
качает мир и провожает осень,
На всех фронтах – без перемен, но осыпь
багряных листьев и багровых тел...
***
Я не победы, Господи, прошу,
хотя она, как сон, необходима,
Пусти на свет, я небу побожусь
в бесстрашии, бессмертия помимо –
оно в пакет армейский включено,
Война пока – живым остаться должно,
и я – одно солдатское звено
в цепи от Забайкалья до Поволжья.
Последнюю трагическую дань
с ноябрьского поля собираю,
в крещенскую ступаю иордань,
заполненную русскостью до края,
единостью, скрепленной в кабаляр
до самого последнего узлишка,
Непобедима русская земля –
к вопречнику сурова, видно, слишком.
***
вечер на исходе ноября,
серый снег на глинистой дороге,
по-солдатски выстроены в ряд
церковка, мечеть и синагога,
и у каждой паства службы ждет
или чуда божьего – тут ближе
до него как будто или от
смерти, внесезонно ярко-рыжей.
долги ожидания часы,
и ведутся светские беседы,
- за кого молиться будешь?
- сын
на войне. сказал, что до победы,
что вернется к маю аккурат
с остальными братьями по фронту,
их во взводе двадцать пять солдат
из Дербента, Крыма и Томмота,
и они как братья, только Бог
кем-то называется иначе,
каждый день и каждый новый бой
принимают вместе, и тем паче
приближают март, апрель и май,
возвращения в родные дали.
завтра начинается зима –
мы ее три года ожидали...
***
облака замешаны в опару
декабрем – мучник он изобычный,
то ли дело я, ему не пара,
не чета, москвичка из москвичек,
не до сна и не до заготовок,
жизнь одна, завещана иному –
высшей педагогике да слову –
русскому, великому, живому,
объясняю, складываю, трачу
и пускаю по ветру, пока ты
день встречаешь новый наудачу,
как и все обычные солдаты,
ловишь в боевую рукавицу
снег, считаешь дробные прилеты,
и меня, далекую сестрицу,
иногда читаешь отчего-то,
отчего, не знаю, видно, нужно
собирать чужие мысли в кучу,
то как снег, сверкающий, воздушный,
то как вещмешок, – на всякий случай,
или так, на память человечью,
ни резона кроме, хватит этих,
я пишу, и ты читаешь вечером
строки, выпадающие в ленте...
***
случится завтра русская зима
с пушистым снегом, студью леденящей,
запрятав в оттопыренный карман
худую руку, ты - ненастоящий -
войдешь в четверг, экватор семи дней
смиряя нрав ночного одиночки,
ты никогда не думал о войне,
не думал ты о мире тоже, впрочем,
и что тебе, далекая беда,
своих вполне достаточно для горя -
не та работа, и любовь не та,
все ближе Бог, все дальше - его море,
окрашенное в бледную лазурь,
войдешь - и позабудешь все на свете,
а что за ним, в прифронтовом лесу,
к какой идем тактической победе,
не спросишь ты у времени, ему
и некогда, и незачем фискалить,
зима случится - так перезимуй,
лелея антивоинскую наледь
на голубиной маленькой душе -
обиженке, оставленке, обманке,
живи как жил, пока на рубеже
другие будут грезить о гражданке...
***
у войны не женское лицо,
голоса не детские – тугие,
карта мира – контуры рубцов
после неотложной хирургии,
глубоки щербатые края,
надави – кровят еще обильно,
карта мира сложена в боях,
на камнях – дорожных и могильных,
на полях, засеянных овсом
и травой, взрастающей без спроса,
карта мира – черствый хлеб да соль,
да любительская папироса,
долгий день и ночь в короткий миг,
ветер, пробирающий до дрожи,
у войны в финале только мир
на земле да суд на небе божий…
***
Пройдет и это...
И другое тоже,
Конечно все,
как вскрытие матрешек,
маршрут любой
и жизни человечьи,
Одна война
идет как будто вечно,
Идет с начала
сущего на свете
к своей одной
единственной победе,
Ведет один
из бьющихся, и только,
Но рвется там,
натянута где тонко
стальная нить
от мира и до мира,
И чаша эта,
Господи, да минет
своих повсюду -
в доме и вне дома,
И все пройдет,
непройденного кроме...
***
Прибиться бы к декабрьской земле
скорее, в неединственном числе
приветить зиму в дедовой храмине,
смотреть в окно на белые края
и думать, это Родина моя
единственная в целом божьем мире,
Единственная помнящая нас –
военно-стратегический запас,
Однажды мы воротимся к истокам,
и встретит дорогая сторона
нас снегом, позабудется война,
как прочие – чего их помнить столько?
Морозец зарисует витражи –
и не видны из окон рубежи
Отечества, но все снаружи ладно,
как и внутри, иному не бывать –
Коль дома сын, его Родина-мать
спокойно спит, сменив на платье латы.
***
Ни вздорных зим, ни песен ни о чем
не наблюдаю – некогда и негде,
в иные коды Господом включен
в каком-то небожественном аффекте,
Заставлен всем, приучен ко всему –
ходить за ноль, срисовывать небрата,
да только все никак я не пойму,
когда вернусь/вернусь ли я обратно,
Зачем пишу, когда иное впрок,
слова к чертям – всего вернее дело,
Один прилет и восемь новых строк –
Свой не задет – написанным задело
как будто бы. Молчание вослед
удару и рифмованной восьмерке,
И снова мне двенадцать школьных лет,
читаю наизусть “Василий Теркин”,
Стихает класс, прислушавшись ко мне,
Твардовский крут, и текст его великий,
а мой другой, хороший на войне,
но в мире – не дорос еще до книги
и до похвал в читательских кругах,
Пустое все. Идем лущить закрепы.
Нет вздорных зим – есть русские снега
и мир под ними, прорастет что с хлебом.
***
неправда это, я еще живой,
дышу, как все, двухатомным азотом
и вверх смотрю, подбитый рядовой,
на Господа – полковника трехсотых
и прочих, обратившихся к нему
еще в тылу, не ведая кручины,
он принимает всех по одному,
не различая звания и чина,
но в свой черед, и я спокойно жду
откат на сто и встречу с русским Богом
в раю ли или, может быть, в аду –
и там, и тут встречающихся много,
так говорили в церкви Покрова,
пока я рос под Суздалем и верил,
что после смерть, а жизнь всегда сперва,
а оказалось, что всего лишь перед...
***
Мне снился Бог в брезентовом плаще,
Латал он время порванное немо
Из ценных обесцененных вещей,
Иглу вонзая в раненое небо,
Как в собственный наперсток кольцевой,
Сшивал он лоскуты, узор запрятав,
Там пена волн в плену великих войн
И божий сын, за истину распятый,
Весна в цвету и нервные шаги
По краю дней, отрезу боевому,
А подле все – герои да враги –
Скучают одинаково по дому,
Считая швы на божьем полотне
И строчку, закрепленную зигзагом.
Мне снился Бог, убитый на войне,
И я его, как сын отца, оплакал...
***
Не спи, братишка, огневой мешок
зловещ и подозрительно зашаган,
Пустой окоп – горизонтальный шов
на теле поля сон-травы и злаков,
Горчит герань в отместку лепесткам
вдали, звенит глухая канонада,
В пустом жнивье четыре колоска –
четыре наблюдательных солдата
Считают залпы – ксюха или шмель,
химеры или местные пионы,
Не спи, братишка, застели постель,
пока подмоги просят батальоны,
Пока беда на ближних рубежах,
но близок май и праздником помечен,
Не спи, братишка, русская душа,
мы отоспимся после этой сечи...
***
и навидавшись всякого за годы,
я не ропщу на личную судьбу,
здоров практически, а значит, годен
к нелегкой службе на боепроводе
и к жизни опосля [когда-нибудь],
к другим ролям, не сыгранным пока что,
c репертуара их война уже
за век один снимала ровно дважды,
и привыкал к иной задаче каждый –
охрана пограничных рубежей,
ржаных полей, усердных земледельцев,
да певчих птиц – хранительниц Руси,
Солдат – в груди трепещущее сердце,
на теле броник, порточки и берцы,
и Мир в руке – попробуй донеси
до вешних дней, до родинного края,
с передовой до отдаленных сел,
я не ропщу, пока не умираю,
и знаю точно, что не проиграю –
задумал так небесный режиссер.
***
И моет мама раму в букваре
которое изданиепере
[инверсия приставки – рифмы ради],
У Лары мыло, у сома усы
и скалочка у сказочной лисы,
богатыри – семь неразлучных братьев.
Все буквы опредмечены, из них
словесник сочиняет акростих –
попробуй, первоклашка, не запомни,
И помню я – не школьник, но солдат –
про радугу, пока орет комбат
про потеряшек в радиоприемник,
про вражеские клумбы и арту
на передке, массированный штурм –
восьмой прилет уже за четверть часа.
Частит укроп, зачистка рубежа,
осколочные три карандаша –
и тишина в окрестностях Донбасса.
Здесь боя нет – пробоина одна,
и будто бы закончилась война,
не вписанная в азбучные книжки,
но вижу я заместо тихих слов
трескучие “Азарт”, “Бардак”, “Весло”
не понарошку, а не понаслышке...
***
Никого, кроме нас... Только белый изменчивый свет
подколодной змеей замыкает живое кольцо,
И стоим мы – одна будто переплетенная ветвь,
знаем в спины друг друга не хуже, чем знаем в лицо,
Потому что идем много чаще, чем смотрим в глаза,
говоря обо всем, что когда-то имело резон,
Потому что ни разу не сделали шага назад
за идущий по местному времени русский сезон,
Не бросали снарягу, от хода такого устав
(человек не в такие моменты давал слабину),
Только нынче иной подобрался солдатский состав –
знает верно он не понаслышке про эту войну,
Проторяя пути, устремляется к центру земли,
там еще не зима, но предчувствие мая сильно,
Никого, кроме нас... Только алые тени вдали
теплят прифронтовое предчувствие мира одно...
***
Не бойся зим, под камнем сим
лежит божественная сила,
И Отче наш, иже еси,
согреет мерзнущего сына,
Укроет отческой рукой,
покуда пост нести солдату,
И снег рассыпанной мукой
ему покажется к разряду,
Добром - мороз и буря - сном
с непроходящего похмелья,
"Роман плюс Юлия равно
любовь" натопчет он на бели
Земли, беременной овсом
и героической победой,
Зима - последний марш-бросок
в войне отечественной этой,
Последний шаг, последний миг,
аккорд прощальный, громогласный,
Не бойся зим, за ними - мир
размахивает флагом красным...
Динара Керимова https://vk.com/dinarakerimova_dnk
___________________________________________
169238
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 15.12.2024, 23:56 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 19.12.2024, 17:20 | Сообщение # 2886 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| «Я готов купить товар за вашу цену, но если она не будет выше моей!»
***
За окном первый снег
Учит важному:
Он живёт ради всех
И для каждого.
Покрывая и грязь,
И распутицу,
Тёмно-серую бязь
Спящей улицы.
Бескорыстный полёт
Иль воззвание?
Снег идёт и идёт
На заклание.
Как небесное просо
Не вовремя...
Как застывшие слёзы
Безмолвия.
***
Век мой "каменный"... "дремучий"...
Я за то тебя люблю,
Что среди сердец беззвучных
Сам с собою говорю.
Ни от мира этот говор,
Ни от века этот глас,
Ни для разума, в котором
Божий свет давно погас.
***
Слепая деревня лежит вдоль дорог,
Поросших густым мелколесьем.
Как будто разбитый бревенчатый полк,
Уткнувшись в брезент поднебесья.
Иссохшие рёбра в извечном плену
У поросли мшисто-отшельной.
Бревенчатый полк, проигравший войну,
Остался на поле сраженья.
И я, как потомок его кочевой,
Брожу средь безвременно павших.
На братской могиле ветров плач и вой
Стоит обелиском над пашней.
От ржавого плуга не дрогнет трава…
Как пламя крапива объяла
Избушки, сараи и троп рукава
Бескрайним цветным одеялом.
Шум жизни в деревне навеки умолк,
Лишь пчёлы гудят над сиренью…
Покойся же с миром, бревенчатый полк,
Забытой пастушьей свирелью.
***
Любимый край, прошу не умирай!
Не умирайте ветхие деревни...
Как дикий зверь от огнестрельных ран,
От рук людей - духовного отребья.
Что разделили загодя трофей
И без стыда освоили добычу.
Горланил зверь, сопротивлялся зверь...
Но доверял овечьему обличью.
Живи в веках, хоть в памяти живи,
Забытый край - заброшенные избы.
Таёжный храм на каторжной крови -
Последнее прибежище Отчизны.
Тебя распнут... как некогда Христа,
Не чувствуя народной катастрофы.
В гнилых столбах - подобиях креста
Крестьянский путь на Русскую Голгофу.
Лишь век свой человеческий живя,
Любя, как мать, свою родную землю,
Как хорошо, что не увижу я
Последних дней затравленной деревни.
***
Из далеких крестьянских губерний,
От мятежного мира вдали,
Вы пришли на Сибирскую землю,
Вольнодумные предки мои.
Изможденные гладом и мором,
Отвергавшие барскую плеть,
Предпочли на таежных просторах
Жить свободными и умереть.
На бескрайних делянках Отчизны,
В совершенстве владев ремеслом,
Вы рубили сараи и избы,
Обживая село за селом.
Породнившись и с каторжным людом,
И с ватагой казацких кровей,
От морозов нещадных и лютых
Становились вы только сильней.
Все трудились без поводов праздных,
Каждый с детства приучен к труду.
Вы стреляли и в белых, и в красных,
И друг в друга в двадцатом году.
Били зверя, косили, пахали,
А в тяжелый момент для страны
Вами дыры легко затыкали
В решете обороны Москвы.
Эх, мои бесшабашные предки!
Каждый истинный был сибиряк,
Отличавшийся удалью редкой
И в труде, и в тяжелых боях.
Много красочных мест в нашем мире,
Но чем старше, тем всё же верней
Я горжусь, что родился в Сибири…
Я потомок тех сильных людей.
***
Я молча сяду на ступени
Крыльца, облезшего слегка –
Как будто внуком – на колени
Большого дома-старика.
Меня, как малого ребёнка
С любовью приютит старик
И скрипом половиц в потёмках
Со мною вдруг заговорит.
Он мне поведает о многом,
Печалей старых не тая,
Как вдаль смотря глазами окон,
Он столько лет прождал меня.
А я бродил по белу свету,
Не зная истины простой,
Что в мире больше счастья нету,
Чем возвращение домой.
Большая старая ограда, –
Как детства вырванный кусок.
Забор… Дощатая заплата,
В ней – два гвоздя наискосок.
И всё, что в сердце было живо,
С усадьбой той наедине
Затрепетало, закружило
И успокоилось во мне.
***
Умчался день мальчишкой конопатым, –
Домой его никак не заволочь.
Рябиновые ягоды заката
Вороной чёрной склёвывает ночь.
Как будто бы согбенные старушки,
Глядя слепыми окнами на лес,
К земле прижались ветхие избушки,
Придавленные маревом небес.
Тайга угрюма, сумрачна и сонна.
Благую тишь не вычерпать ведром.
Свинцовой шали звёздные узоры
Утюжит в речке маленький паром…
И не унять душевную истому,
Священный зов таинственной земли.
И глохнет мир, чтоб слышать эхо грома
За сотни вёрст от родины вдали.
***
Не набиваясь в рыбаки,
Ни с водкой, ни с приятелем,
Я тихо сяду у реки
Сторонним наблюдателем.
И глядя, как река бежит
По своему течению,
Моя душа заговорит
С покоем и смирением.
Какая мудрая река,
Большая, но не гордая,
Легко течет издалека,
Излучинам покорная.
Так убежав от суеты,
От бытовой поспешности,
Увидишь столько чистоты
В природной безмятежности.
И дело не в покое рек,
Не в праздности навязчивой,
А в том, что каждый человек
Стремится к настоящему.
***
К горизонту сумерки спустились,
Шпал и рельсов тянется клубок.
И лежит бескрайняя Россия
В тишине проселочных дорог.
И повсюду старые домишки
Отдаленных сел и деревень
Бегают вдоль окон как мальчишки,
Резво прячась от чужих людей.
И по всей моей стране великой,
В каждом уголке лежит печать
Тайны беспредельной и безликой,
От которой хочется молчать.
***
Уже стемнело за околицей,
Взялись багрянцем облака,
Косые изгороди молятся
На умирающий закат.
И сеет сеятель божественный
Повсюду звёздное пшено,
Покуда крутится торжественно
Ночей и дней веретено.
Туманный луг окутан тайнами,
Умыт серебряной росой,
И в омут озера зеркального
Ныряет месяц золотой.
И в этой сказочной беспечности,
На самой кромке бытия,
Восходят в форму бесконечности
И жизнь, и Родина моя.
***
Мы жизнь свою несём в руке
Как грош зажатый.
Одни потратят грош в ларьке,
Другие дорожат им.
Один проест, другой пропьёт,
А третий проиграет,
И всяк по своему живёт,
И в жизни выживает.
Другие грошик отдают
Забавы ради,
На свой покой и свой уют
Его потратив.
А кто-то – « Ну не дурачок!» -
Другие скажут,
Зажмёт свой грошик в кулачок
И не покажет.
Мы жизнь свою в руке несём
Как грошик медный.
И каждый в жизни при своём…
Богатый…бедный…
Потратишь на себя…ну что ж,
Немного чести.
А кто-то складывает грош
С другими вместе.
Есть у гроша другая грань
И может каждый
Вложить в протянутую длань
Свой грошик важный.
Потратить смело жизнь свою
На помощь ближним.
Блаженны те, кто отдают
Не от излишеств.
Тебе дан грошик, выбирай,
Куда потратить.
Пропей его иль проиграй,
Иль кинь на паперть.
Тебе твой грошик мать дала
В ладошку лично,
Чтоб его в добрые дела
Ты обналичил.
***
Мой прадед после Финской
Вернулся без руки,
Но с волей исполинской
Жил, бедам вопреки.
Работы не оставил.
Владея ремеслом,
Срубил он и поставил
Большой крестьянский дом.
Все удивлялись люди:
Смотри -одна рука,
А посильнее будет
Любого мужика.
В любое время года,
В пример для остальных,
Упорно он работал,
Как будто за двоих.
И мужественным видом
Был землякам знаком.
Он был не инвалидом,
А русским мужиком.
Защитником, опорой
И в мире, и в войне.
Героем, без которых
Не уцелеть стране.
***
Не вините царей,
В том, что лживы они.
А вините людей,
Что такие цари.
Что дозволено красть,
Что "по горло" свобод…
Словно зеркало власть
Отражает народ.
В бескультурии масс,
В беззаконии форм
Виновата не власть,
Ни отсутствие норм.
Ни земля, ни страна,
Ни навязанный строй…
Виновата толпа,
Не владея собой.
***
Хуже бедности и пьянства,
И опаснее чумы,
Всеобъемлющее хамство,
Захватившее умы,
Как лихое наваждение,
Как фекалии в кустах,
В каждом госучреждении
И общественных местах.
Разлагается духовно
В склоках русский наш народ.
Подушевно поголовно
Превращаясь в злобный сброд.
Одурманенный рассудок
На людское благо нищ.
Бескультурье то повсюду
От роддома до кладбИщ.
Что с народом происходит,
Люди с псами встали в ряд,
И на тех, кто мимо ходит,
Гневно лают все подряд.
Неужели, в самом деле,
То терновый наш венец?
Оборзели, охамели,
Оскотинились в конец.
За невежеством и скверной
Легче скрыться, как в клише,
Несчастливой и безверной
Человеческой душе.
И озлобленно сорваться
Бранным словом с языка,
И всю жизнь на всех ругаться,
И стать темой для стиха.
***
Был тогда еще мальчонкой
Я с обросшей головой…
Увязалась собачонка
Поздним вечером за мной.
Неказистая, простая,
Ну дворняга из дворняг.
Вся лохматая, худая
(Да полно таких собак).
Я шагал, она бежала,
Не мешаясь, позади.
И хвостом своим виляла
Каждый раз, как не взгляни.
Небо черное лежало
Как овчарка у огня,
Вмиг из миски солнца ржавой
Вылизав остатки дня.
Проводив меня до дома,
Собачонка напряглась,
Чуть хвостом вильнула снова,
И смиренно улеглась.
Что с мальчонки взять, покуда
Он еще и глуп, и мал.
« Ну, давай иди отсюда!» -
Собачонке я сказал.
А она, хоть и дворняга,
Но все сразу поняла,
И в чернеющую слякоть
Бестолково побрела.
Ночка выдалась шальная…
Ветер, ливень и гроза.
Как собаку волчья стая,
Рвали землю небеса.
В этой непогоди черной
Страшно в доме то своем,
Каково же собачонке
Было где - то под дождем.
Улеглось…Отбушевало…
Вновь заря, как верный пес,
Наспех алчно обглодала
Темноты холодной кость.
День прошел ли, или два ли.
Счет тем дням я не веду.
И я вспомнил бы едва ли
После собачонку ту.
Но однажды, словно камень
Прилетел в рассудок мой,
Собачонку ту в канаве
Я увидел неживой.
И вся съежилась и сжалась
Виноватая душа.
И я вспомнил, как бежала
Собачонка не спеша.
Как услужливо смотрела,
Как стоял в ее глазах
Безнадежный, оголтелый,
Неземной животный страх.
А потом гроза… Ненастье…
Семенящий в полночь пес.
Колея. Слюна из пасти.
Фары. Визг из под колес…
Что за жизнь вокруг собачья!
Так обидно самому.
Я давно уже не мальчик,
Понимаю, что к чему.
Жизни мелкие подачки…
Не хочу… Хочу назад.
Снова в детство, к той собачке,
У которой рай в глазах.
***
Мечты обязаны сбываться.
Затем и созданы они,
Чтоб неожиданно врываться
В привычные простые дни.
Чтоб всю обыденную серость
Раскрасить в яркие цвета.
Чтоб жить и чувствовать хотелось,
Как не хотелось никогда.
Пусть говорят «Мечтать не вредно»,
Ничуть не веря в волшебство,
Большим желаниям заветным
Предпочитая меньшинство.
Их выбор сделан безрассудно,
Глупцов, не верующих в жизнь.
Мечтать о маленьком абсурдно,
И недостойно для души.
Мечтайте о великом, братцы! -
Жить ярко, странствовать, любить…
Мечты обязаны сбываться,
Иначе и не может быть.
***
Я хочу в далекую деревню,
Где когда-то был рожден и рос.
Где давно высокие деревья
Стерегут родительский погост.
Что - то там священное осталось,
Тайное, сокрытое от глаз.
Что с собою взять не удавалось,
Но оно всю жизнь тревожит нас.
И зовет бессонными ночами,
Словно утлый старый теплоход,
Что давно от берега отчалил,
А к другому все не пристает.
Скоро уж печаль моя окрепнет,
И возьмется бушевать всерьез.
Я хочу в далекую деревню,
Где когда то был рожден и рос.
Словно птица, бредящая высью,
Просится на родину душа,
Где с берез сорвавшиеся листья
Вновь устроят осенью пожар.
Где осталось что то дорогое,
С самого рождения на век,
Без чего ни счастья, ни покоя
Никогда не сыщет человек.
***
Когда зима нечаянно приходит
И светлой шалью покрывает лес,
Плывёт земля, как белый пароходик,
По голубому мареву небес.
Десятки труб из домиков картинных
Пускают в небо плавные дымы,
И хлопья снега в тёплые квартиры
Стучатся, как посланники зимы.
Сиреневая бездна нависает
Над проторённой к речке колеёй,
И тропка белоснежная лесная
Ползёт в тайгу виляющей змеёй.
Янтарным ожерельем ярких окон
Бревенчатые тянутся дома,
И целый мир – как будто белый кокон,
В который всех укутала зима.
***
Моё Отечество – деревня.
Она, как любящая мать,
В наряде выцветшем и древнем
Готова встретить и обнять:
От закоулка к закоулку
Свои объятья распахнув,
И по привычке ночью гулкой
Прильнув к ослепшему окну.
Рассвет рябиновый, мятежный
Рассыпан ярко на снегу,
Во все калитки безутешно
Стучится ветер на бегу.
Забор повален и расхристан,
Но всем невзгодам вопреки
Моя бревенчатая пристань
Стоит, как прежде, вдоль реки.
***
Деревенька моя в этих тропах исхоженных,
В каплях искренних слез на щеках у листвы.
В колеях и канавах, да пашнях заброшенных,
Сколько в избах согбенных твоих красоты.
Вся из бревен - из ребер природы воссоздана,
Как Адамова Ева в Эдемском саду.
На бескрайней земле под бессчетными звездами,
Деревеньки такой я нигде не найду.
В просвещенных умах, или в сердце юродивом,
Где лелеют все чувства и счастье свое,
Есть ли большее что то чем малая родина,
Есть ли что то на свете роднее ее?
***
Пусть меня за ветреность осудят
Те, кто жаждут сытости в тепле…
Я хочу, чтоб улыбались люди,
Что живут со мною на земле.
Всякие- хорошие, плохие,
Бедный и богатый наравне.
Чтоб друг другу радость все дарили,
Чтоб вдруг стало радостней и мне.
Мне не нужно ничего от века-
Ни богатств, ни славы, ни наград.
Я хочу лишь, чтобы человеку
Человек другой всегда был рад.
Знаю я, что это невозможно…
Доброта на свете не в чести.
Все простое зачастую сложно
Разглядеть, принять, перенести.
Не хочу гадать, что дальше будет
И блуждать догадками во мгле…
Я хочу, чтоб улыбались люди
Что живут со мною на земле.
Чтоб не по несчетности ошибок
Нас Господь судил, не за грехи,
А лишь по количеству улыбок,
Искренно подаренных другим.
***
Поэтам - классикам
Однажды ты сдашься, устав воевать,
Забыв сколько строчками пешими пройдено.
Вздохнёт огорчённо поэзия - мать-
Твоя беззащитная Родина.
В окопах цензуры и мнений чужих,
Сползёшь до забвенья с душевными ранами.
И по стихотворной нетоптаной ржи
Пройдут дураки с графоманами,
И критиков - вражеских сборищ - полки,
Союзов, советов безликая гвардия...
И мёртвыми станут живые стихи,
Как роща, сожжённая армией.
Но где то вдали у последнего рва,
Как Русь на татар в самом сердце Рязанщины,
На бой с бескультурьем восстанут слова
Классической партизанщины.
И будут греметь артобстрелом стихи,
Идти в рукопашную с рифмами - лезвиями,
Как тысячи неукротимых стихий
Во имя Великой поэзии...
Священной победы народный парад
Потомкам навеки запомниться,
Как преданный лирике каждый солдат
Поэзии славного воинства.
Щитов Иван https://stihi.ru/avtor/shcitovivan25
______________________________________
169439
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 19.12.2024, 17:22 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 21.12.2024, 21:56 | Сообщение # 2887 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| РУССКИЕ МАЯКИ
Чай наш крепко заварен.
Вечен звёзд хоровод -
Пушкин, Толстой, Гагарин
Двинули время вперед.
Сильнее любых орудий
С распахнутой дверью дом.
Россия - широкие люди,
Идущие узким путём.
Кисти достойны рублевской,
Есенина светлых слов -
Жуков и Циолковский,
Курчатов и Королёв.
На духовном Олимпе
Рядом с небом большим
Скобелев и Столыпин,
Шолохов и Шукшин.
Тех маяков-колоссов
Не сосчитать вовек:
Глинка и Ломоносов!
Будущий имярек!
Средь небесных просторов -
Русский праздничный ряд:
Здесь Донской и Суворов
Рядом с Невским стоят.
Сердце выше обиды.
У основы основ -
Шостакович, Свиридов,
Павлов и Пирогов.
Вечно от перегрузки
Стрелки часов скрипят.
Вертится глобус русский!
Люди в домах не спят.
Встали на снег покровский,
Чтоб победить врагов
Конев и Рокоссовский,
Карбышев и Чуйков!
Здесь медаль «За отвагу”
Светится, как звезда.
Дважды никто присягу
Не даёт никогда.
Это наша дорога
Среди звезд и крестов:
Достоевский и Гоголь,
Менделеев, Попов.
Сквозь туман петроградский,
Всем дождям вопреки,
Видел в небе Вернадский
Русские Маяки!
В каждой секунде - веха.
Ставни открой, а там
Станиславский и Чехов,
Тютчев и Мандельштам
Небо в руках держали,
Чтоб человек не спал
Лермонтов и Державин,
Дягилев и Шагал.
С нами Иосиф Бродский,
Левитан и Серов!
Пастернак и Высоцкий,
Шухов и Васнецов!
Память утроит силы.
Звезды горят во мгле.
Это и есть Россия
В небе и на земле!
Владивосток и Выборг,
Грозный и Таганрог...
Россия сделала выбор.
И этот выбор - Бог!
Новосибирск и Тула,
Керчь и Калининград!
Космос дрожит от гула:
Наши ветра звенят!
Облака дождевые
Вымоют небосвод.
Павшие и живые -
Это один народ.
Самый главный сильный
Самый живой герой -
Это народ России
Он ее рулевой.
Людям небо по росту.
Долго не жить беде.
Севастополь-апостол
Все идёт по воде.
Здесь на ветру знамёна
Славят благую весть.
Рядовой Родионов -
Это верность и честь.
Сила русской молитвы
Чёрный растопит лёд.
Сталинградская битва
В каждом сердце идёт.
Правда русского часа
Рубит тьму на куски,
И герои Донбасса -
Новые Маяки!
В космос открыты ставни!
Все мы - ловцы идей.
Наше время настало -
Время новых людей!
***
Мой Гоголь -
педагог,
мой беглый Бог!
Моя звезда,
мой русский уголок!
Ем рукопись,
во рту горит слюна,
Веригами звенит
на мне весна,
И прошлое бежит,
как мёртвый лось,
Чтоб новое
на Пасху
родилось!
Охотник,
промахнись!
Берез гробы
Нам черно-белых
слез нальют на лбы,
Пока врагов
не зачеркнула Русь!
На танк подбитый сел пролетный гусь,
В крови испачкал
жёлтые глаза,
Его кормил с руки
Таджик Хамза.
Пока дышу,
Описываю скрип
Осей в часах,
Обет молчанья рыб,
Попытку птиц
В заморский
микрофон
Пропеть легко
предательский свой сон,
И детский
абсолютно детский
взгляд
На этот
заминированный сад,
Где так блестит
на яблоке чека,
и мы с тобой в исподнем
На века.
***
Не угаданы даты.
Мы стоим на горе.
Как огонь благодатный,
Снег сойдет в декабре.
Из серебряной чаши,
Мимо поднятых рук,
Одиночества краше,
Разольется он вдруг.
В рукавах наших узких
Будто сладко от слёз,
Это души июльских
Позолоченных ос.
Это все нам,
ты слышишь,
Оберег от беды!
Это пепел на крышах
Освящённой воды.
Это время без точек,
Растопившее лёд.
Это пушкинский почерк
Русский дух раздаёт.
Как архангелов платья
У последней черты,
Это раненым братьям
На ключицы бинты.
Отрешись же скорее
От тяжелого сна!
Как страницы Матфея,
Шелестит белизна.
Молчаливые песни
Под горою в степи.
Отрешись и воскресни,
И любовь налепи.
Будет небо у речки
Сыпать хлеб без конца,
Будут снежные свечки
Хлопотать у лица.
Хочешь правду открою
В белом море таком?
Это небо с землею
Обвенчалось тайком.
***
Из Петрово
приходят
сводки нам,
Ожиданиям вопреки.
Как с картины Петрова-Водкина,
Дуют красные
сквозняки
И пески
поднимают
сизые,
Приносящие холода.
Мыши шепчутся в тепловизоре,
И боится упасть
звезда.
В блоках бывшего
санатория
располага
который год,
И боец с позывным
История
санитара
в кювете ждёт.
Ему снится волшебник
с посохом,
И спасительный
в рот укол,
А над ним в
порыжевшем воздухе
Красноглазый
дрожит щегол.
Чернокнижная
математика
И отравленная стрела.
Птичка хочет
склевать солдатика,
Чтоб история
утекла.
Это вовсе не аллегория,
Здесь рифмуется жизнь
и кровь,
И вытягивает
Историю
медсестра с
позывным Любовь.
***
Оттолкнись тихонько от земли.
Вот твой дом, фонарь,
метро, аптека…
Мы вернёмся вниз часам к семи.
Руки - это крылья человека.
Райский сад белеет вдалеке,
В стороне война грохочет люто.
Чей-то ангел спит на чердаке,
Как Есенин в стропах парашюта.
Кто-то вдруг смиряется с тоской,
Он забыл, теряясь в клочьях дыма,
Сказано в инструкции людской:
«Чтобы жить, летать необходимо.»
Нас случайно создали людьми
Нам глаза раскрыли, будто блюдца.
Мы вернёмся вниз часам к семи.
Если только захотим вернуться.
***
«Эра рыб» -
прозвучит,
как секретный пароль
в Дамаске.
Водолей заступает с Калашниковым и в маске.
А в Москве выбивает
Царь на снегу ковёр.
И целуются мальчик с девочкой у колодца,
И крутиться планете заснеженной удаётся
Не понятно как,
до сих пор.
Если утро случилось - сработала литургия.
И по чем теперь люди
На рынке?
Не дорогие?
За славянский пучок человеков чего дают?
Как пробила аквариум
пуля,
он взял и вытек.
На пол рыбка упала и звякнула, будто винтик.
Рот открыла и
спела песню
про пять минут.
Водолей заступает
на службу,
В Москве морозно.
Даже если ты веришь
в слёзы,
то плакать поздно.
Не водица же кровь!
Не водиться
тебе с врагом!
Присягни.
Отстегни
надежду,
листву,
привычку.
Не впрягай уже
Птицу-Тройку
в гнилую бричку!
Я прошу тебя о другом.
Реконструкторы пусть
победу творят в картоне,
Пусть по кругу
бегут всегда
цирковые кони.
Посмотри, как
сужается круг и
горит картон.
Как блестят аккуратные ножницы из тумана,
Как украсили добрые волки фольгой барана,
Посмотри, как
своим нарядом гордится он.
Одиночество Солнца - божественная награда,
Просит новый младенец купить ему шоко-яда,
К январю истечёт,
наконец,
комендантский год.
Я несу в шесть утра пюре
из молочной кухни,
И поют бурлаки на Волге:
«Орешник, ухни!»
Эра рыб… будто имя
Бога и новый код.
***
Декабрь, ты - шекспировский герой.
Так ловко жизнь перемешать с игрой
Дано не многим месяцам в году.
Быть может лишь апрелю. На ходу,
Я прыгаю с трамвая в новый год.
Луну на нитке держит небосвод.
Земля с'езжает со своей оси.
И все... живи, как хочешь: вон такси,
Там, слева театр, за ним есть парк в снегу,
А в парке та, о ком я не могу,
Не смею...не умею...снег мне в рот...
Она в чужих об'ятьях. "Новый год" -
Такая вот афиша на дверях,
А справа бродят - радость, ночь и страх,
Еще тут есть метро и ресторан...
Но пьеса эта, кажется, стара.
Я новую нашел в снегу кулис...
Театр, парк заснеженный, но - тссс....
На губы палец, под ноги помост,
На небо двадцать тысяч первых звезд,
Начни, скрипач! Повесь любовь вокруг!
Пусть шут подносит к веку терпкий лук,
Пусть трубочист мне пуговиц пришлет,
Пусть превратится в брют январский лед,
Пусть нищим подадут горячий суп,
Пусть скрипке вторит голос медных труб,
Пускай убийца потеряет нож,
Пусть под трамвай скользнет мокрицей ложь,
Играй, скрипач! И ты не спи, флейтист!
Пусть будет этот воздух серебрист,
Пусть наискось перебегут слоны,
Пусть вылечатся люди от войны,
Пусть у меня родится вскоре дочь,
Пусть пьянице тому приснится дождь,
Пускай надежда ходит по дворам
И солит щи влюбленным поварам,
Пусть белый ангел всюду снег творит,
Пусть вера возвратит паяцам стыд,
Играй, скрипач! Без боли и без нот!
Весь мир - не театр, даже не кино,
Я точно знаю с этих самых пор:
Весь мир - всего-лишь школьный коридор,
И кто б в себе не прятал хитреца,
Мы все в нем дети. Дети до конца,
До проволочки дети, навсегда...
Играй, мой друг, лети с небес вода
И превращайся в белые кружки,
Чтоб мы смогли тобой играть в снежки.
***
Поверхность,
удостоенная снега,
В такую ночь -
невеста небесам.
Уверует,
неверящий глазам,
Три слова вспомнит:
«Альфа и Омега».
Где саван был,
Теперь пелёнок шар.
Полярная звезда
танцует, прачка.
И непонятна ей
медвежья спячка,
И над бельём клубится
белый пар.
Так тихо
в середине декабря,
Что слышно сердце
будущего года.
Телёнком время
топчется у входа
И слизывает соль с календаря.
***
Снег завалил оконный окоём.
Зима стоит под дверью, познакомься.
Давай проспим декабрь, вот так вдвоём.
И в январе на Рождество проснемся?
Начнут соседи вилками греметь,
А мы уснем на простынях из ситца.
Тебе приснится, например, медведь,
А мне… мне только ты и будешь сниться.
Нас снегом заметет со всех сторон.
Луна –сова. Земля как мышь полевка.
Декабрь – это как бы странный сон,
К январскому рожденью подготовка.
Промёрзла кухня, кутаясь в тулуп,
Морозный повар в шапку небо ловит.
И будущее время, словно суп,
В котле Большой медведицы готовит.
Ненужных звезд блестит металлолом.
Мигает Марс Юпитеру соседу.
Двенадцатый апостол за столом,
Сидит декабрь, предчувствуя победу.
Снеговики болеют орви
Замерз корабль пьяный на причале.
А мы все спим и учимся любви,
Которой на яву не замечали.
***
От маляра беременна Луна,
Он всех ее поклонников закрасил.
К утру покрылась инеем спина
У Звездочкина Васи.
Забыл Василий заводских девчат,
Нырял в сугроб, пока звонил начальник.
Зато они с Луной в обнимку спят,
И снег искрится сквозь пододеяльник.
Зато не слышно стонов
декабря,
И голоса
возлюбленной прекрасной,
Которая смеялась, говоря:
«Ты мне не ровня и воняешь краской.»
И больше жизнь,
чем этот блочный быт,
Всегда мечтал застать
момент Василий,
Когда звезда с звездою говорит,
А человек огромен и всесилен.
***
Зима,
как водится,
Разводится
Со старым годом,
Старым мужем.
Ей молодой
любовник нужен.
И он немедленно
находится.
Она мечтала о таком!
Кровь мандарина
с молоком,
Звезды заманчивой
глазунья
И, как бы,
признаки
безумья….
Ах, Новый год,
Красивый лыжник!
В кругу
отчаянных
и ближних,
Вторую свадьбу
для зимы
Готовим мы.
Три тетки в Загсе
Налили брют
невесте-плаксе,
А снег шипит,
как аспирин.
И гости шепчутся
в столовой:
«Зима то
замужем
по новой!»
И этот факт
неоспорим.
***
НИКОЛИН ДЕНЬ
В Рязани и Старом Осколе,
В Ростове-на-тихом Дону -
Сегодня святому Николе
Мы молимся за страну!
За каждый наш угол детский,
Которому жизнь дана.
Особенно за донецкий,
Где свила гнездо война.
Особенно за военных
В окопах, не за столом.
Молитв наших внутривенных
Пусть хватит на каждый дом.
За Белгород в серой дымке!
За раненный Курск родной!
Солдатские фотоснимки
Умыты святой водой.
Дай Веры нам, а не Верки,
Беду проводить за дверь.
Московские фейерверки
Унять, заглушить теперь.
Дай смелости тихой личной
Нам в этот глядеть обрыв!
И веры дай не частичной,
А общей для всех, кто жив!
Заснежен квадратик плаца,
И звезды горят над ним,
Чтоб женщине той дождаться,
Прижаться к глазам живым.
На этом библейском стыке
Нам за руки взяться дай,
Угодниче наш великий
Защитниче Николай!
Сын друга молился Богу,
И слёзы текли на лёд:
«Верни, Боже, папке ногу
Под ёлкой на Новый год!»
***
Захару Прилепину
Горит звезда на небе ржавом
И сердцу шепчет напрямик:
Бронежилет из русских книг,
Храни блаженную Державу!
С ней вещий Пушкин был знаком,
Ее любил в стихах и прозе,
Касаясь мокрым языком
Качелей жизни на морозе.
Её Есенин целовал,
Побелкой неба кудри смазав.
Мы ею в чеховских рассказах
В себя смотрели из зеркал.
А под обложками горят
Слова, хватая воздух грубо.
Герои Шолохова рубят
Сошедший с рельсов циферблат.
Разбилась чайка о маяк.
Ветра звенят или вериги?
Теперь расставил в тире враг
И нами созданные книги.
Но в них стреляя, он убьёт
Себя, ужаленный отдачей.
Страницы порванные плачут,
И буквы капают на лёд.
Декабрь 2024-й, ПОЭТ ВЛАД МАЛЕНКО https://t.me/s/vmalenko
____________________________________________________
169690
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 21.12.2024, 22:23 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 24.12.2024, 23:13 | Сообщение # 2888 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| СУРОВЫЕ БУДНИ РОТЫ «ШТОРМ V»
Глава из второй книги романа «Дыхание Донбасса»
Всё было хорошо на словах, когда готовились к штурму этой многоэтажки, а на деле застряли на двое суток. Далее второго этажа не смогли подняться, третий, похоже, стал серой зоной, а сколько выше противника засело – не понятно. Первое впечатление, что человек двадцать-тридцать, хотя на самом деле не более пяти-семи, а может, и того меньше. Активные в первый день, казалось, с неиссякаемым запасом БК, они закидали гранатами, словно у них там был завод. Зато на второй день приутихли, лишь изредка огрызались, и, используя приём с пробитым потолком, они бросали на головы гранаты всем, кто по незнанию появлялся в комнате с секретом. Но его сомовцы быстро раскусили, а когда в одну из комнат на втором этаже гранатомётчик бесстрашно, чуть ли не в упор запустил гранату в отверстие в потолке, не такое уж и большое, и в ответ услышал вопли раненых укров, то они перестали появляться в комнатах с сюрпризом и досаждать.
Ночевали противники на разных этажах. И было ясно, что второй день будет решающим. Ночью взвод Сомова усилили тремя бойцами из второго взвода, взамен выбывших, среди которых два трёхсотых с осколочным ранением ног и шеи, и двухсотый – Саша с позывным «Утёс», надоедавший Прибылому предыдущей ночью. Раненых эвакуировали, а Сашу перенесли в дальнюю комнату на первом этаже с выбитым окном, а оттого особенно прохладным, до окончания штурма. Семёна гибель Саши огорчила, но совсем не удивила: как жил парень нелепо, так и погиб от ранения бедренной вены – кровью истёк. Только его почему-то было особенно жалко, из всех, кто погиб у них в последние дни.
Сержант Илья Сомов за истекшие сутки состарился, превратился чуть ли не в морщинистого старика, хотя ему шёл двадцать седьмой год. Ему, как понял Прибылой из услышанного разговора, хотели прислать на подмогу офицера, но Сомов отказался, сказав, офицеров надо беречь, а пара-тройка бойцов не помешает, и ему их прислали, нагрузив водой и едой и, конечно, БК. Спал ли Сомов в последние двое суток? Да, спал, Прибылой сам его укладывал, и тот вроде сдавался и оказывался на полюбившемся всем поролоновом матрасе, но спал по полчаса, не более, и просыпался сам, без толчка, и, посмотрев на часы, спрашивал:
– Какая обстановка?!
Ему отвечали, так как с ним постоянно кто-то находился из «стариков», к ним причисляли и Прибылого, учитывая его давний фронтовой опыт, а из прежнего состава – Григорий, Андрей. Григорий, как всегда, немногословен, вставит словечко, и на этом успокоится, но говорил всегда к месту и вовремя. Андрей же был подвижен, не понимал, почему затормозился штурм, почему перекуривают даже те, кто не курил никогда. Да и как не курить, когда вчера в одной из квартир нашли ящик иностранных сигарет – вкусных, ароматических. Сперва курили с опаской, остерегаясь быть отравленными, а потом кто-то сказал, что отравить можно и одной пачкой. И все повеселели от этого «мудрого» высказывания. В общем, никто ничем не занимался, не считая постовой и наблюдательной службы, и все ждали, когда у противников окончательно закончится БК или вода, без чего в их условиях долго не просидишь, даже отгородившись растяжками и время от времени пуская по лестнице гранаты. К ним все давно привыкли, услышав металлический стук по ступеням, успели заскакивать за какой-нибудь угол, граната взрывалась, тем самым приближая либо окончательный штурм, либо сдачу соперников в плен. Правда, об этом никто не говорил, но помнили слова Андрея о загубленном кореше, и внутренне готовы были поддержать его.
На рассвете Сомову доложили, что у соседней, занятой украми многоэтажки, началась стрельба из стрелкового оружия и гранатомётов.
– Слышу, слышу – не глухой! – отмахнулся сержант. – Третий взвод запустили. Мы-то сопли жуём!
Но долго жевать не пришлось, когда первая двойка преодолел «границу» и с лестничной площадки между третьим и четвёртым этажами гранатомётчик запустил «морковку» в левую половину. «Морковка» взорвалась этажом выше – дым, чей-то крик, сразу из-за спины гранатомётчика рванулись автоматчики, полосонули по дверным проёмам очередями. Ворвались, послав впереди себя гранаты, в комнаты, но никого не обнаружили ни в одной из квартир. Крикнули вниз, Сомову:
– Этаж наш! Идём дальше!
И когда они сунулись на пятый, сверху началась ответная пальба; не помог ни гранатомётчик, ни упреждающий огонь автоматов.
– Отойти! – приказал Сомов. – Пусть постреляют. Подбросьте им гранат. Свои-то у них, видно, закончились.
Когда сидели на четвёртом, Андрей сказал, ни к кому не обращаясь:
– Как же надоела эта тягомотина!
– Не тебе одному.
– Ну, и чего мы ждём?
– Когда они выдохнутся.
– Да они ещё так два дня будут дрожжи квасить.
– Пусть квасят. Они квасят, а мы ждём. Ты живой вроде и невредимый. Чего в этом плохого.
Андрей Воеводин перестал пререкаться, махнул, мол, поступайте, как хотите. Через какое-то время он всё-таки сказал Сомову:
– Пора продолжать! В случае чего, я первым пойду.
– Не суетись. Сделаем так… Два гранатомётчика, улучив момент, поднимаются одновременно и одновременно же шарашат по углам. Следом автоматчики врываются в открытые двери – в общем, всё так же, как делали недавно. Кто оказывает сопротивление, мгновенно уничтожаем…
– Уничтожаем всех, – встрял Андрей, – не хрена церемониться.
– Закрытые двери подрываем, – продолжал говорить Сомов, не обратив внимания на уточнение.
«Говорить-то легко, – подумал Андрей, которому действительно надоела эта игра в кошки-мышки. – Ну, сколько можно: одно и тоже, одно и тоже. Бомбами забросали бы эти грёбаные девятиэтажки, сравняли с землёй и дело с концом. Или бомб на всё не хватает?»
Когда шарахнули из гранатомётов, полосонули из автоматов и осторожно заглянули в квартиры, Андрей, действительно, первым пошёл. Вот он в квартире, взгляд направо, взгляд налево. В одной комнате чисто, в другой стоит украинец с автоматом, руки не подняты – к ногтю. Короткая очередь. В соседней квартире тоже очередь, вторая. Весь этаж осмотрели – три двухсотых.
– И спросить не у кого, есть кто ещё, – плюнул с досады Андрей.
И тут раздался голос с восьмого этажа:
– Сдаваться не собираюсь. Если есть среди вас мужчины, то предлагаю сразиться на ножах. Если останусь в живых, отпускаете меня, если не останусь – ваша взяла!
– Ты один? – спросил Андрей.
– Один…
– Тогда жди…
Прибылой вцепился в куртку Андрея:
– Ты куда? Не пущу!
– Семён, не трусь – моя тема.
– Я с тобой, подлянку ведь могут устроить.
– Не должны. Серьёзный мужик! – напрягся Андрей, и Семён увидел желваки на его щеках.
– Э, так не годиться – заниматься отсебятиной, рыцарские бои устраивать. Отставить! Что под трибунал оба захотели? – вмешался подошедший Сомов.
– Товарищ сержант, это невозможно. Зачем трибунал. У нас тут свои порядки. Хотите, чтобы нас трусами посчитали…
– Ну, что, братва, отпустим, – замялся сержант и оглянулся на бойцов, – если уж такой случай вышел?
– Напросился, пусть идёт. Вроде, не балабол парень. – Кто-то сказал в отдалении.
– Ну, тогда с Богом, зямы! – приосанился Андрей и посмотрел на нож в разгрузке, словно проверяя: на месте ли.
– Я с тобой, одного не пущу, и не думай, – загородил проход Прибылой.
– А то что?
– В колено выстрелю!
– В своих проще всего стрелять… Ладно, пошли – судьёй будешь. – Он перекрестился, крикнул наверх: – Мы идёт. Только давай без шуток.
Пошли. Поднялись на восьмой. Стоит сухой, жилистый мужик, глаза горят, глаза серо-голубые, на щеках поросль русая. Увидел его Прибылой, и сердце сжалось от боли, прожгла мыль: «Что же мы делаем – на своих же смертью идём?!»
– Кто из вас? – спросил украинец без акцента.
– Я, – стукнул себя в грудь Андрей.
– Зачем нам второй?
– Веры вам нет… А вообще-то сказать, в случае чего, чтобы отпустили тебя.
– Пойдём в комнату, здесь тесно…
Они прошли в большую комнату, достаточно просторную.
– Броники снимаем? – спросил Андрей.
– Зачем? Так привычнее.
– Как знаешь. Как тебя зовут, укр?
– Какая тебе разница… Русский я.
– Русские против русских не воюют, и давно ты не русский, а самый настоящий бандеровец с отравленным мозгом.
– Какая тебе разница.
– Заладил… Да, теперь никакой, – отозвался Андрей и сказал Прибылому: – Посторонись. И, в случае чего, отпустите его.
Семён кивнул, встал в стороне, насколько это можно, и вдруг как сбесился:
– Это невозможно, сейчас обоих положу!
– Заткнись, щенок, и выйди, подержи мой автомат, – рявкнул Андрей. Потом подошёл к столу, где лежал автомат украинца, дёрнул затвор, осмотрел магазин – всё «сухое». – Начинаем?
– Чего тянуть…
Андрей выдернул нож из разгрузки, покрутил его, разогревая пальцы.
– Готов?
Украинец тоже взял нож, крепко сжал.
– Готов! – ответил он и приосанился, перекинул нож из руки в руку.
– Судья, давай команду!
Прибылой заглянул в дверь, и, хочешь не хочешь, дрожащим голосом произнёс:
– Начали!
Он думал, что предстоит долгое, изматывающее действо, когда сердцу не уцелеть, а началось и закончилось всё опустошительно быстро, почтит мгновенно. Когда бойцы встали в стойки, видимо, желая отвлечь, Андрей топнул, резко крутнулся на месте и с разворота всадил нож противнику в треугольник кадыка… Тот только успел глянуть на противника и, падая навзничь, захрипел, залился кровью… Прибылого трясло. Он и сам не раз видел смерть, участвовал в ней, но от произошедшего у него отнялся язык. Хотел что-то сказать Андрею, но не смог и единого слова вымолвить. Смотрел на него и не понимал, как человек, знакомый человек, способен на такое?! Это какое надо иметь самообладание, мужество, ну и, конечно, мастерство, чтобы не сробеть, принять вызов и выйти победителем.
Андрей нагнулся к поверженному, вытащил нож. Вытер его о куртку украинца и сказал виновато:
– Дурачок ты дурачок. Сдался бы, и никто тебя не тронул…
– Эй, что там у вас? – окликнули снизу.
– Идём, идём, – отозвался Андрей и взглянул на Прибылого: – Верни автомат. Пошли к своим.
***
Когда ещё раз прошли по квартирам снизу до верха, то пересчитали двухсотых противника. Потом пересчитали своих живых вместе с пополнением из второго взвода – одного не хватает. Что такое! Ещё раз прошли, переворачивая столы, кровати, диваны и услышали голос на третьем этаже:
– Не ищите, я здесь… – и показалась голова из-под ковра, скомканного на полу.
Обнаружил его Григорий и моментально направил на него автомат:
– Ты кто?
– Полунин из второго взвода…
– Вставай, пошли к командиру, а автомат давай-ка сюда. – Григорий выхватил у тощего Полунина, словно его не кормили десять дней, оружие и готов был растерзать на месте.
Когда Полунин предстал перед Сомовым, и он понял, что перед ним пропавший, то спросил:
– Ты кто?
– Алексей Полунин…
– Под ковром прятался, – уточнил Григорий. – Падла! – и, плюнул, растоптал плевок.
Подошли парни из второго взвода.
– Ваш? – спросил у них Сомов.
– Вроде наш. Вместе к вам на подмогу пробирались. Он из последнего пополнения, вроде был ранен.
– Что скажешь? – спросил Сомов у Полунина.
Тот молчал.
– Что, сказать нечего? Парни бьются, ночи не спят, в грязи, в холоде, а ты под тёплым ковром яйки греешь?!
– Я после ранения, в госпитале был.
– Это правда? – спросил он у бойцов.
– Вроде того… Мы с ним вместе были на полигоне, а потом он куда-то пропал…
– Меня в первом бою ранило, во бригадный госпиталь отправили, – гундосил Полунин.
– Но тебя отпустили?
– Да. Через два дня.
– Значит, такое ранение… Где твоё оружие?
– У меня оно, – доложил Григорий, – сразу забрал у него от греха подальше, а то он с испуга мало ли что мог натворить.
– Правильно сделал. Ты обнаружил, тебе его и в распологу доставлять. Как стемнеет, возьми ещё одного бойца – и вперёд мелкими перебежками.
– Что со мной будет, товарищ сержант?
– Медовыми пряниками накормят.
«Сколь же глупости, дури и наивность в этом Полунине, – думал о симулянте, а по существу – дезертире, Прибылой. – На хрена тогда напросился воевать? Или решил, что «прокатит», думал под ковром отлежаться – всех обхитрить. Нет, гадёныш, ты и в госпиталь-то попал не случайно, сам себе – стопроцентно – руку повредил, да только не вышло медицину обмануть. Вышибли назад: мол, иди и воюй». И ещё он подумал, как в людях уживается два разных состояния: геройство, которое сегодня проявил Андрей, и этот трус, прятавшийся под ковром. Ведь после возвращения в зону его сделают посмешищем, и он не отмоется до конца срока, но и после, если доживёт и откинется, то всё равно останется посмешищем в глазах тех, кто его знал, и будут они плеваться при упоминании о нём. И как же он испортил мужественный и благородный поступок Андрея. Вот мужик, так мужик – не испугался, не сдрейфил. Хотя, надо думать, что не просто так: подготовка чувствуется стопудовая. Но ведь мог бы вполне срезать противника очередью, а если принял вызов – здесь всё по договорённости и без обмана. Уважает человек себя. А это великая сила – уважение. Но как он его уделал – страшно вспомнить. Вроде и тот парень не промах, знал свои способности и верил в них, но вот нашёлся кто-то, у кого они оказали круче. Так что вполне на сегодняшнем примере можно учиться тем, кто храбрится без меры, спорит, делает ставки. Если так поступаешь, то будь готовым к тому, что всегда кто-то в данный момент найдётся сильнее и способнее».
Пока Прибылой, находясь в расслабленности от раздумий, лежал на пыльном диване, в соседней комнате Сомов говорил с ротным, но после доклада долго молчал, слушая, что ему, видимо, говорили, изредка вставляя реплики «Да», «Так точно». Когда он договорил, вышел из комнаты, увидев Прибылого, спросил:
– Подслушиваем?
– Сам же мимо меня прошёл. Разве не видел?
– Не обратил внимания.
– Это потому, что не спишь.
– Потом отосплюсь.
– Когда же?
– Не задавай глупых вопросов.
– Дальше-то что делать? В пункт дислокации выдвигаться.
– Вряд ли. Третий взвод в соседнем здании застопорился.
– Ну, не всё же нам стопориться, если двое суток здесь ошиваемся.
– Ну, и словечки у тебя, Прибылой. А ещё с высшим образованием!
– Огрубел, признаюсь. Привнесённое влияние окружающей среды. На гражданке исправимся. Так что делать-то?
– Дополнительно сообщат. Возможно, на помощь соседям пойдём.
– Чего им мешаться. Тогда уж сразу на следующее здание рванём. Их таких, кажется, ещё парочка стоит, нас дожидается.
– В том-то и дело, что здания стоят, но, похоже, по данным авиаразведки они пустые. Драпанули укры оттуда.
– Значит, это наша победа. Запугали мы их.
– Как сказать… Есть данные, что кольцо вот-вот сомкнётся, и все, кто остался в этом городишке, окажутся в окружении.
– Тогда вообще зачем было штурмовать и пятиэтажки, и эти здания?
– Семён, всё, что делается, не бывает зря. Если бы мы не штурмовали, то ещё неизвестно, сколько бы враги огрызались на флангах. Мы своё дело сделали. Теперь пусть у других голова болит.
Разговор с сержантом мог быть бесконечным, как понял Прибылой, он находился, что называется, на взводе, мнил себя великим стратегом, но, видимо, не понимал, из-за чего стольких людей положили в этих штурмах. Или это необходимая закономерность: где-то что-то убывает, где-то прибывает. В том числе и в людях. Или по крайней мере сохраняется?! Всё может быть. И теперь рассуждай, не рассуждай – ничего не изменится. И колесо войны катится будто само по себе, подминая людей, перемалывает их судьбы, надежды, их геройство и трусость. И тут тоже ничего не поделаешь. Не повернёшь события вспять, а придётся шагать и шагать вперёд до победного дня.
Чуть позже Сомов собрал бойцов и объявил им текущие задачи.
– Первая, – оглядев всех, сказал он. – Отконвоировать Полунина во временную дислокацию. Исполняют бойцы второго взвода; Григорий остаётся. Им спасибо. Здорово помогли, не считая, конечно, симулянта. Второе. Остальные приходят на помощь соседям. О нашем двухсотом «Утёсе» я доложил. Его эвакуирует при первой возможности. Всем всё ясно? Вопросы есть? Нет. Выполняйте.
– И правильно, – неожиданно отозвался Григорий, – взрывчатку с собой прихватим. К чертям собачьим эту будку разнесём.
С ним никто спорить не стал, доказывая, что для сноса такого здания и ста килограммов гексогена не хватит, но он особенно и не заморачивался, а высказался потому, что сам эти ящики таскал, а оказалось, что зря. Вот теперь их необходимо обязательно в дело определить. Когда уходили, собрали свои вещи, хотя всех их держат при себе, а курильщики растащили коробку с сигаретами, распихали по карманам.
Сомов связался с командиром третьего взвода, сообщил приказ о дружеской помощи. Вскоре сомовцы по одному перебежали в соседнее здание; остерегались, что противник откроет по ним огонь, но всё обошлось. К радости Григория, взрывчатку не стали брать, посчитав, что теперь она не понадобится. Когда перебазировались, узнали от лейтенанта – командира взвода, что помощь их не нужна.
– Мой заместитель пошёл на переговоры с украми. Они решили сдаться. Их всего-то осталось трое. И предварительное условие у них одно: чтобы вывезли на БМП. Своих дронов опасаются.
– Нестеров знает?
– Только что доложил ему.
– Вот и прекрасно. Значит, мы зря суетились.
Чуть позже ротный сам связался с Сомовым и скомандовал:
– Отбой. Возвращайтесь в пункт временной дислокации… Да, а вашего симулянта не довели. На мине подорвался. Всё, вопрос закрыт.
Читать онлайн:
Владимир ПРОНСКИЙ.
Дыхание Донбасса https://podiemvrn.ru/dyhanie-donbassa
ДЫХАНИЕ ДОНБАССА. Роман (книга вторая) https://denliteraturi.ru/article/8746
________________________________________________________________
169936
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 24.12.2024, 23:15 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 27.12.2024, 22:55 | Сообщение # 2889 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Макушки елей обмакнув в закат,
Жизнь пишет небо в облачных разводах.
Вчерашний день таскали в рюкзаках,
И он впитал весь пот, всю грязь и воду.
Мы сушим у палатки гардероб:
Штаны, штормовки, свитера и берцы.
И шутим, дескать, краше только в гроб...
И добавляем мата, словно перца.
Наваристый и острый разговор
Не расхлебать, услышав с середины,
Но скрадывает темень, будто вор,
Написанные с вечера картины.
От хвойных кистей резкие мазки:
Костёр дымит и жарко дышит в лица,
А сердце замирает от тоски
По летним дням, которым не продлиться.
***
От беды до Победы по линии сгиба письма...
Фронтовой треугольник летит через Одер и Вислу.
Где-то тихая Родина, ветхий домишко и мать....
Где-то в будущем – солнце и горький, но радостный май.
Но над кратким письмом фронтовая цензура нависла.
Нет меж строк ничего, что могло бы нарушить устав,
Ничего, что могло бы сорвать наступленье, и всё же
Задержалось письмо. Плачет мать, от бессонья устав,
От пустого бессилья, что гложет, и гложет, и гложет.
Затвердеет огонь, превратится в холодный гранит.
От беды до Победы, как ниточка, тянется Лета.
Век двадцатый письмо, не дошедшее с фронта, хранит.
«Адресат не дождался. Вернуть в сорок давнее лето».
***
А Муза реже всё приходит!
Мне говорят: стихи твои просты,
Уходишь с ними в детство и Природу.
Читатель, ты меня прости,
Такие мысли рвутся на свободу.
Возможно, проще это описать,
Иль не хватает мне таланта.
Я не хочу в политику влезать,
Да и вообще, я не из поэтических гигантов.
В гармонии живя с Природой,
Всю Жизнь я восхищаюсь ей.
И рвусь всё посветить ей оду,
Да не хватает смелости моей.
И Муза реже всё приходит,
Не нравится ей возраст мой.
И что-то из Души уходит,
Всё больше нравится покой.
А с ним вот вдохновение не дружит,
Душа должна в полёте быть.
А Муза молодости служит,
И ей дано её любить!
***
И новый день в окно стучит!
Нет! Это только кажется,
Что написать легко!
И ляжет вновь строка живая.
Нет! Мысли где-то далеко.
И доля эта не простая.
Приснится сон, и среди ночи
Потянется к «перу» рука.
И пишешь всё быстрей, короче,
Но звёзды скроют облака.
И мысли гаснут,
Как под дождём упавшим угольки.
Какие ж вы прекрасные,
Минуты с Музой, упавшие с её руки.
Кто посылает эти строчки?
Душа трепещет, как огонёк в ночи.
Ночами пишут поэты-одиночки.
Спешат, чтоб не спугнули Солнышка лучи.
Взойдёт, окрасит ярким светом
И с ночью Муза улетит,
А Жизнь украсится рассветом,
И новый день в окно стучит.
***
Первый зимний день
Багровым высветил востоком.
Ещё лежала ночи тень,
Но не было печально, одиноко.
И обещало Солнышко тепло,
Мы не успели с Осенью расстаться.
Пока мечтал - почти светло.
Но не хотелось с зорькою прощаться.
Каким восход красивым был,
Диск медленно плыл над горизонтом.
Я с детства этот миг любил
И чувствовал защиту Солнца.
Поплыло по щекам тепло,
Забралось в рукава и Душу.
И что-то беспокойное ушло,
Я новый день услышал.
В сарае голосил петух,
И голос подала собака.
В соседнем доме свет потух,
Проснулась живность всякая.
Я описал начало дня.
Как всё красиво
Создано в Природе.
Но быстро пролетают
Месяцы и годы,
А Жизнь у нас всего одна
***
Разъятая на органы страна:
На лес, на нефть, на золотые жилы.
В глубинке, где пригрелась тишина,
Ждут городских поэтов старожилы.
Неужто я так беспросветно глуп,
Раз вижу немощь в этой древней силе?
Шесть лавок, восемь стульев — сельский клуб,
Куда нас со стихами пригласили.
Здесь пели ветры испокон веков.
Теперь тайга всё реже и плешивей.
И страшно в этом царстве стариков
Хоть парой строк, хоть парой слов сфальшивить.
***
Жизнь уходит в драму то и дело.
Дядя Ваня на язык остёр:
Говорит, мол, чайка пролетела
Над вишнёвым садом трёх сестёр.
Промелькнула искоркой надежды,
Сполохами виденных зарниц
И остыла словом где-то между
Сжатых губ и сомкнутых страниц.
Никакой заумной подоплёки,
Лишь вопрос, тягучий, как смола:
Отчего наводит грусть далёкий,
Лёгкий росчерк птичьего крыла?..
***
По центру сцены на стене – ружьё,
Нелепое в трагедии Шекспира.
Дотошный зритель думал: «Ё-моё,
Ну почему не шпага, не рапира?!».
Другой смекнул: «Ружьё – как тяжкий рок,
Нависший над страной, где Клавдий правил!»
Вот только Гамлет не спустил курок,
Хоть дядя был совсем не честных правил.
«Какой глубокий, тонкий смысл сквозит!» –
Шептались люди, выходя из зала.
«Вчера убрать забыли реквизит», –
Уборщица уборщице сказала
***
Окраина: здесь, на изломе пьянки,
Нередко песни светлые поют,
Дворняги с охраняемой стоянки
Издалека прохожих узнают.
Сплошной раздрай... И, на тебе - уют!
Здесь, классику перемежая матом,
На самой кромке честности и лжи,
Родные хомо, ушлые приматы,
О райских кущах грезят от души.
Здесь сложно формулировать ответы,
А злое "нет" - вприкуску с словом "да".
Из этих мест, презревши все наветы,
"Растут стихи, не ведая стыда".
***
Verbatim
Где-то есть город,
тихий, как сон...
Роберт Рождественский
...Из бусика выскакивают ещё двое,
на подмогу тем двоим, что решили меня заломать,
И я понимаю, что расклад перед боем,
как в песне, – не наш, но мы будем играть.
...Пожалуйста, только живи,
слышишь, живи, браток...
Это Русский Господь Бог
до забывчивых пробует достучаться:
одному – натовским ботинком в бок,
второй – пропускает в голову...
Проснувшиеся домочадцы
не смеют достать мобильные телефоны.
...Ещё одного – прогибом, и четверо смелых – лежат.
– Смирно, суки! Забрать или нет автомат?
...Женский голос с балкона перекрывает стоны:
– Уходи, парень, тебя же сейчас убьют!..
...Я снова в деле, я им не дамся, брат,
Я никогда, никогда, никогда не возьму автомат,
Я не пойду туда!.. В двери опять звонят, –
Это к тебе, это опять к тебе, братишка,
Зелёный прокурор и хищная пустельга,
Серая птица смерти, забытый закон – Тайга,
как же, родимая, ты от меня сейчас далека,
Как тропа небесная к тебе легка,
Как высока караульная вышка
***
На влажных рельсах - брызги тишины
И отсветы от фонарей окрестных.
Здесь свет земной вбирает свет небесный
И делает земное неземным.
Сквозь сумрак утекают поезда.
Стучат-стучат... и утекают в дымке.
Висит над миром блёклой невидимкой
Пронзительно-последняя звезда.
Её едва возможно разглядеть
В космическом пространстве надо мною.
А ей ещё лететь-лететь-лететь
Из горних высей. Становясь земною.
Александр Тихонов
________________
170540
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 27.12.2024, 22:56 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 01.01.2025, 21:38 | Сообщение # 2890 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Напиши мне письмо > https://rutube.ru/video/2ff44561602592c9e903baf0439e523e/
Вот я опять письмо тебе пишу
В нём дым костра, тайги весёлый шум
Ночной концерт двух стареньких, двух стареньких гитар
И километры могучих кедров, рассветных зорь пожар
Тайга полна тревог и доброты
Я с ней дружу, я с ней давно на "ты"
Я только ей признаться, ей признаться не стыжусь
Что мне в палатку стучит украдкой ночная птица грусть
Напиши мне письмо, хоть две строчки всего
Чтобы я иногда прочитать мог его
Чтобы спеть о любви, просто так, для души
Напиши мне письмо, хоть одно напиши
Напиши мне письмо, хоть две строчки всего
Чтобы я иногда прочитать мог его
Чтобы спеть о любви, просто так, для души
Напиши мне письмо, хоть одно напиши, напиши
К нам вертолёт спускается с небес
Я мог бы с ним послать письмо тебе
Но я в тайгу подальше, я подальше ухожу
Ведь ты не хочешь, писать ни строчки, хотя я так прошу
Напиши мне письмо, хоть две строчки всего
Чтобы я иногда прочитать мог его
Чтобы спеть о любви, просто так, для души
Напиши мне письмо, хоть одно напиши
Напиши мне письмо, хоть две строчки всего
Чтобы я иногда прочитать мог его
Чтобы спеть о любви, просто так, для души
Напиши мне письмо, хоть одно напиши
Напиши, напиши, напиши
Напиши
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 01.01.2025, 21:52 | Сообщение # 2891 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Куплеты нечистой силы > https://rutube.ru/video/b5d61ce0c25fedc968a758d49a11720f/
«Я Баба-Яга —
Вот и вся недолга,
Я езжу в немазаной ступе.
Я к русскому духу не очень строга:
Люблю его… сваренным в супе.
Ох, мне надоело по лесу гонять,
Зелье я переварила…
Нет, чтой-то стала совсем изменять
Наша нечистая сила!» —
«Добрый день! Добрый тень!
Я, дак, Оборотень!
Неловко вчерась обернулся:
Хотел превратиться в дырявый плетень,
Да вот посерёдке запнулся.
И кто я теперь — самому не понять,
Эк меня, братцы, скривило!..
Нет, чтой-то стала совсем изменять
Наша нечистая сила!» —
«А я старый больной
Озорной Водяной,
Но мне надоела квартира:
Сижу под корягой, простуженный, злой,
Ведь в омуте — мокро и сыро.
Вижу намедни — утопленник.
Хвать!
А он меня — пяткой по рылу!..
Нет, перестали совсем уважать
Нашу нечистую силу!» —
«Такие дела:
Лешачиха со зла,
Лишив меня лешевелюры,
Вчера из дупла
на мороз прогнала —
У ей с Водяным шуры-муры.
Со свету стали совсем изживать —
Ну прост-таки гонят в могилу…
Нет, перестали
совсем уважать
Нашу нечистую силу!» —
«Русалке легко:
Я хвостом-плавником
Коснусь холодком
под сердечко…
Но вот с современным утопленником
Теперь то и дело осечка!
Как-то утопленник стал возражать —
Ох, наглоталась я илу!
Ах, перестали совсем уважать
Нашу нечистую силу!» —
«А я Домовой,
Я домашний, я свой,
А в дом не могу появиться —
С утра и до ночи стоит дома вой:
Недавно вселилась певица!
Я ей — добром, а она — оскорблять:
Мол, Домового — на мыло!
Видно, нам стала всем изменять
Наша нечистая сила!»
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 02.01.2025, 16:03 | Сообщение # 2892 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Дикари
Третий месяц Максим в одиночку бился с двумя детьми – дочерью и сыном. Жена Рита ещё в октябре уехала в Читу сопровождать предвыборную кампанию. Весной она перешла из мелкой юрфирмы в крупное юридическое агентство, и ее вклад в семейный бюджет ощутимо увеличился. Поначалу она работала как обычно – с девяти до шести, но спустя пару месяцев ей предложили длительную командировку. То есть как предложили – поставили перед фактом: надо ехать. На исходе зимы в Чите ожидались выборы, и задолго до этого замечательного события надо было готовить документы для желающих выдвинуться в кандидаты, собирать подписи и организовывать партийные мероприятия. Максим не переставал удивляться тому, что рассказывала жена по телефону: маеты с этими выборами было столько, что по растратам и хлопотам впору сравнивать с пожаром. То проводили обучающую сессию, то судебный процесс по защите своих кандидатов, то составляли рейтинги и какие-то карты влияний. К ноябрю эти читинские кандидаты стали Максиму уже почти родными. Мастерство жены он уважал, но всё же не мог отделаться от неприятного, сокрытого на самой душевной глубине ощущения, что весь этот вал предвыборной работы на самом деле бесполезный и делаемый уж точно не для людей. Не для таких, во всяком случае, людей, как он, Максим Игоревич Вяткин, инженер по ремонту электроники, или его друг Никита, препод на гуманитарном факультете.
Помогать с детьми, конечно, вызвалась тёща, но Максим сразу прикинул, что плата за эту помощь будет дорогой – нет-нет да и обольют походя грязью, мол, зарабатывает мало да квартира который год стоит без ремонта, – и решил отказать родственнице от дома, заявив, что справится сам. По субботам, правда, лично снаряжал детей на автобус, проведать бабушку, живущую за четыре остановки от них.
На работу Максим уходил к десяти, возвращался в восемь вечера. Утром успевал приготовить детям и себе завтрак, закрывал дверь за сыном Лёхой и иной раз досыпал ещё полчасика. Вечером притаскивал домой наггетсы, пельмени, сосиски, для разнообразия меню – йогурты и фрукты, чтобы днём детишкам было что поесть. Благо, руки у обоих росли из правильного места: не только Лёха в его пятнадцать, но и третьеклассница Настя могла сообразить что-нибудь съестное на сковородке. С уборкой выручал пылесос, бельё развешивал длинноногий и длиннорукий Лёха, а глажку в двадцать первом веке Максим считал ненужной роскошью. Оставалась главная проблема – школа.
Пока Рита была дома, уроки делались не то, чтобы сами собой, но как-то незаметно. А тут… В первый же вечер, когда проводили мать на вокзал, Настя пришлёпала с вопросом:
– Папа, как делать русский?
– ГДЗ открой, – буркнул ей из угла брат.
– Чего? – переспросил Максим.
– Сайт с домашкой готовой… С ответами.
– Там неправильно бывает! – капризно возразила Настя. – Папа лучше знает!
С математикой у главы семейства было вроде бы всё в порядке, а русский, чтение и всякие окружающие миры иной раз обескураживали его изощрённостью заданий. Крошка дочь приходила к отцу с вопросами почти каждый день, и Максим, превозмогая тягу ко сну и расслабляющим видосам, снова и снова делал вместе с ней упражнения. Хотя, скорее, делал за неё: объяснять он не умел и просто писал, что надо, в черновик, говоря: «Смотри». И, конечно, надеялся, что Настя смотрит и понимает. Главное – не придёт в школу неготовая.
По поводу Лёхи Максим не особенно парился: первую четверть парень закончил приемлемо, потом и дальше делал какие-то задания, на вопрос «как в школе?» отвечал «нормально». И вдруг в середине декабря сын угрюмо сообщил, что послезавтра состоится родительское собрание. По заунывному тону Максим догадался: Лёхе есть, что скрывать.
– Думаешь, я не пойду?! – напуская на себя строгий вид, отец взял со стола первую попавшуюся тетрадь и потряс ею перед носом отпрыска. – Пойду и узнаю про все твои дела!
Сын ничего не ответил. Максиму действительно не хотелось идти ни на какое собрание, отпрашиваться с работы; но, собрав волю в кулак, он всё же решил сходить: девятый класс, выпускной, экзамены…
***
На собрание пришло ровно пятнадцать человек: два хмурых папаши, одна бабушка с сердобольным взглядом, остальные – мамки разного возраста и выражения лица. Черноволосая классная, учительница русского и литературы, которую Максим последний раз видел, кажется, три года назад, начала со скучного: стала зачитывать вслух устав, где говорилось о том, как нужно одеваться на уроки, включая физкультуру, и как себя вести. Максиму всё это казалось понятным, ненужным, и, оглядывая таких же скучающих родителей, он прокручивал в голове песню Билли Бонса про пятнадцать человек и сундук мертвеца. «Остров сокровищ» он обожал с детства, в Лёхином возрасте зачитывался Купером и Стругацкими, пробовал подсунуть эти книги сыну с дочкой – бесполезно, откладывали, полистав несколько страниц.
Считая, что достаточно разогрела публику, классная вынула «козырь из рукава»: стопочку аккуратных листков, на которых были записаны оценки каждого ученика по всем предметам. Максим получил листик за Лёху, повертел его в руках, отметил яркость печати и только потом увидел, что по русскому у Лёхи стоят три двойки и в два раза больше троек, а по литературе – наоборот: шесть двоек и три тройки. Максим оторопел, с его языка готов был сорваться не вопрос даже, а просто какой-то вскрик типа «Чего?!», только, скорее, в нецензурном варианте. Но он промолчал: не хотелось позориться перед другими родителями.
Закончив раздавать листочки, классная заняла место у доски и грустно возвестила:
– Видите?.. Видите, уважаемые родители? Успеваемость оставляет желать лучшего. Проблемы с математикой и русским языком – у большинства. Биология – совершенно не учится. Домашняя работа по ней – не делается. Но главная беда у нас, конечно, с литературой. Я имею в виду не всех. Сами всё видите по оценкам. Но большинство… Ситуация тяжёлая.
– Что же вы нам раньше не говорили?! – возмутилась одна из мамаш.
Черноволосая литераторша сохраняла невозмутимость:
– Я говорила. Я говорила всегда, и всегда говорю, из года в год, с две тысячи десятого, что пришло поколение, которое не читает. Не умеет. И не хочет. Это цифровые аборигены, которые родились в виртуальном мире, и он для них свой. Они привыкли только щёлкать по экрану: одна картинка, другая, третья… А читать не могут даже задание из учебника. Не говоря о художественной литературе. Британские учёные тестировали современных подростков, узнавали, насколько те способны понимать сложные тексты, формулировать и высказывать свои мысли. И выяснили…
Классная, бабочкой порхая у доски, принялась рассказывать про исследование, которое, разумеется, показало, что никакие тексты нынешние школьники не понимают, заверила одну активно возражающую маму, что английские подростки ничем глобально не отличаются от русских, и продолжала живописать скудость знаний детей-аборигенов. При этом у нестарой ещё учительницы был такой вдохновенный вид, что Максиму казалось: несмотря на эти жалобы, она испытывает некий священный ужас и восторг перед нашествием цифровых варваров. А, может быть, этот восторг и ужас были вызваны гордостью за свою роль последнего охранителя культуры от толпы готовых предать всё поруганию и забвению дикарей.
Когда родители, кивая и прицокивая языком, сталb расходиться, Максим всё-таки подошёл к Лёхиной классной лично:
– Здравствуйте ещё раз… Вы извините его. Сами работаем, дочь к тому же, ипотека… – Вы подскажите, что делать-то надо?
Классная посмотрела на него, кажется, с теплом и, вытащив из ящика ежедневник, прочитала:
– Тест по Радищеву – два. Самостоятельная работа по Державину – два. Стихотворение Пушкина наизусть…ну, поставила три. «Евгения Онегина» не читал вообще! Не знает, кто такой Ленский. Соответственно, за знание текста – два, и сочинение – тоже. Нет сочинения! А эта оценка умножается вдвое. Она у нас идёт как итоговая. Понимаете, выходит двойка за четверть по литературе!
– Понимаю, – Максим мял в руках пальто. – Надо срочно читать и писать сочинение.
– Да, да! – с тем же мрачным вдохновением подтвердила литераторша. – Совершенно незнаком с текстом. Не напишет – аттестации не будет. Списанное меня категорически не устроит, пропущу через антиплагиат. Надеюсь на вашу помощь.
***
Максим возвращался домой, заряженный стыдом и злостью. Даже в магазин заходить не стал – нечего им разносолы покупать, пусть хлеб едят с картошкой, двоечники бессовестные. К Настьке на собрание он не ходил – не успел бы, но посмотрел вчера оценки в дневнике и увидел там тройки по русскому, окружающему и математике.
– Папа, привет, – сын вытянулся вдоль дверного косяка, будто молодое дерево у забора.
– От старых штиблет, – по-стариковски проворчал Максим. – Почему по литературе «неуд»?! Почему «Евгения Онегина» не читал? Господи, я бы в твои годы со стыда сгорел – два по литературе получить. Ладно, по химии там ещё, по физике, хотя и то…
– Так что плохо-то: что не читал или что позорно два получить? – тряхнул белокурой чёлкой Лёха.
Максим швырнул шапку в угол.
– Он ещё хамит! Как абориген австралийский, ничего не знает, в телефон свой втыкает только. Всё плохо! И не читать, и не знать, и два… А ты чай ставь! Троечница тоже малолетняя… – прикрикнул он на осторожно выглянувшую в коридор Настьку.
Пошвыркав чайку с угодливо нарезанными детьми бутербродами, Максим не то, чтобы подобрел, а покорился усталой расслабленности. Сильно ругаться он не умел, а к ремню не притрагивался вовсе. Только один раз отходил Лёху полотенцем за воровство, ещё в садике – очень тогда разозлился. С тех пор такое не повторялось. Максимовы родители, правда, несколько раз намекали, что за кое-какие дела можно и «повоспитывать», но он достаточно хорошо помнил свои слёзы после подобного «воспитания» в собственном детстве и всегда искал другие меры.
– Никаких денег тебе больше давать не буду, и телефон тоже новый не получишь! – нестрашно прикрикнул он на Лёху. – Книжку открывай, сиди, читай «Онегина»!
– Ладно, – вздохнул сын.
Через полчаса Максим строгим тоном осведомился:
– Как дела? Завтра тебе сочинение надо писать, до конца недели сдать.
Лёха вытянул руки с книжкой:
– Да я не могу понять вообще!
– Что ты понять не можешь? Читай, и всё.
– Так я не понимаю!
– Ты что мне дураком прикидываешься?! – разозлился отец. – Читай вслух!
Лёха обиженно свёл брови:
– Ну, вот… «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог…» Уже непонятно. Как это – честных правил?
Отец вдруг вспомнил, что они с ребятами из класса когда-то переделали эту строчку в «Мой дядя самых честных грабил», но промолчал. Лёха продолжал:
– Дальше: «Какое низкое коварство». Что такое «коварство»?
– Хитрость, блин. Подлость. Что ещё непонятно?
– При чём тут дядя, непонятно. Дядя умирает, что ли?
Отец вздохнул:
– Не думал я, что ты у нас такой одарённый. Умирает дядя. А к нему племянник едет ухаживать. Но хочет, чтобы старик помер поскорей.
– А-а. Ну, дальше опять: «Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных». Тут вообще все слова незнакомые.
Максим ощутил холодок по спине, догадываясь, что для Лёхи в этой знаменитой книжке, похоже, и правда непонятна добрая половина слов.
– Ну, Зевес – это я понял, это Зевс, греческий бог, – вдруг порадовал отпрыск.
– Замечательно, – мрачно заметил отец. – Самое главное одолели. Давай книжку сюда.
Пробежав глазами по когда-то знакомым пушкинским строчкам, он коротко пересказал Лёхе, что Евгений Онегин был молодым мажором, ездил по театрам и ресторанам, увивался за дамами, получил богатое наследство от дяди.
– Понятно? – спросил он, зевая и уже собираясь идти выпить кофе.
– Как бы да, – взмахнул руками-ветками сын. – Только непонятно, зачем это мне?
Отец оторопело уставился на сына:
– В смысле – зачем?! Два не получить! И люлей от меня.
Лёха кивнул.
– И от матери, – на всякий случай добавил Максим.
***
На завтрашний вечер он пригласил в гости друга Никиту. Никита преподавал историю и обществознание, отчасти знал законы и мог проконсультировать старого приятеля по одному важному делу: как поменять ипотечную квартиру на другую, тоже в кредит. Естественно, меньшую на большую, нынешнюю двушку на хотя бы старую, но трёшку. В своё время они с Ритой не стали брать ипотеку сразу на трёхкомнатную квартиру, не потянули бы; да и сейчас Максим совсем не был уверен, что плата за новое жильё будет им под силу. Но попробовать всё-таки хотелось. Кроме того, Никита, как гуманитарий, наверняка мог что-нибудь подсказать Лёхе по поводу сочинения.
– Коньяк будешь? – предложил Максим, открывая холодильник.
– Если только для запаха, в чай, – отказался друг. – Я же за рулём.
– Жаль. Помнишь, как с парнями в Ергаки ходили? Неделя погружения в природу.
– Алкотуризм, ага, – Никита ухмыльнулся приятному воспоминанию, но тут же перешёл к делу. – Ну, так что за консультацию-то ты с меня хочешь?
– Да про квартиру… – смущённо начал Максим. – У нас же эта в ипотеке, ещё целых шесть лет платить, а дети-то растут…
– Больше хотите взять? – догадался Никита.
– Ну да. Дети-то растут, – снова повторил хозяин квартиры слова Риты, которые она в последнее время часто повторяла. – А у них комната на двоих одна. Я узнал, что вроде как можно, но там условия какие-то… Подумал, вдруг, ты знаешь.
Никита с видом знатока покрутил в руках кружку:
– Ну, какие там условия... Они должны убедиться, что ты платить можешь больше, вот, в общем, и всё. Заявку подать на новый жилищный займ. Ну и, конечно, найти покупателя на вашу нынешнюю квартиру, куплю-продажу оформить. Потом уже новый кредит подписать, на новую хату документы…
– Угу, – машинально кивнул отец семейства. – Погоди, это я, что ли, сам должен покупателя искать на эту квартиру?
– А кто, Пушкин? – прыснул приятель смешком. – Конечно, сам.
Максим тоже усмехнулся, но в душе ему было невесело: он всерьёз рассчитывал, что искать покупателя будет банк, и больше не хотел продолжать разговор о квартире:
– Кстати, о Пушкине. Лёха-то у меня по литературе совсем засыпался. По сочинению двояк получил за «Евгения Онегина».
– Не написал, что ли?
– Ну, – подтвердил Максим, испытывая неловкость за сына. – И не чешется вообще. Всё фиолетово ему. Я бы в его годы со стыда сгорел двойку по литре иметь. Ладно по физике…
– Они щас такие, – громко прихлебнул чай Никита. – Не стесняются ни фига. Моя Лерка, смотрю, афоризмы себе на стену ВКонтакте выставила. Там пословицы наши все переделанные. «В тихом омуте тихо», потом это… «Любишь кататься – мы не осуждаем», «У кого что болит – давайте обсудим». Ну, и главное, знаешь, что?
– Что? – взаправду поинтересовался Максим.
– «Выноси сор из избы, а то вся изба засрётся»!
– Это твоя Лерка написала? Талантливая…
– Да ну! Нашёл талант. «Битву экстрасенсов» только смотрит. Да я не переживаю. Повзрослеют потом. Голова у неё должна быть хорошая. Как и у твоих. В кого им глупыми-то быть? Рита у тебя тоже умная.
– Да… Уехала вот на заработки. Слушай, ты Лёхе-то моему поможешь? «Онегина» разобрать?
– Само собой.
Максим отворил дверь в комнату детей. Настя полулёжа, закинув ногу на ногу, листала что-то в телефоне. Лёха, было заметно, только что нажал на кнопку паузы видео в ноутбуке.
– Здрасьте, – вяло поздоровался он с другом отца. Настя ничего не сказала, только переменила позу на более уважительную: села на диван, свесив ноги.
– Здорово, молодёжь! – бодро приветствовал чужих детей Никита. – Что смотришь, Алексей? Надеюсь, не «Битву экстрасенсов»?
– Нет, не «Битву», – отозвался Лёха с обидой в голосе. – «Жизнь в России». Блог такой.
– Во, гляди, всякую дичь смотрит! – рассердился Максим. – Когда ему надо уроки делать.
– Все уроки не переделаешь, – огрызнулся Лёха. – А тут интересно.
– Чем интересно, подскажи? – Никита продемонстрировал любопытство – Максим не понял, искреннее или нет.
– Всю правду говорят. Каждый про себя. Про свою жизнь. Про разные города.
– М-м-м… Города, говоришь? Города, лучше, конечно, своими глазами увидеть. У каждого из них собственная физиономия. Ну, Алексей, давай немножко позанимаемся, накидаем с тобой план сочинения, так сказать, рыбу. Настя нам не помешает, думаю…
– Я на кухню уйду, – тут же заявила Настя, и опять Максиму показалось, что с какой-то обидой.
Он и сам в первые секунды собирался было уйти, даже повернулся к двери, но любопытство взяло верх. Да и усталость – на кухне ждала посуда в раковине, надо было что-то придумывать к ужину, и ему слишком сильно хотелось хоть на полчаса продлить заслуженное воскресное ничегонеделание.
– Вот смотри, «Евгений Онегин» входит в золотую коллекцию русской литературы, это знаменитейший текст Пушкина, который создавался семь лет, – по-писаному заговорил Никита. – И в нём отразились представления о жизни первой трети девятнадцатого века, о самых разных её аспектах. Недаром этот роман в стихах получил название «энциклопедия русской жизни». Это вообще замечательный роман, игровой, в нём Пушкин смотрит на вещи и с той, и с другой стороны, и как бы всегда над схваткой, высмеивает, пародирует… Постмодернистский, по факту, такой роман. Пушкин – великий игрок, он играет в характеры, в персонажи Ленского, Онегина, Татьяны. Тип Ленского, который на Западе существовал действительно, на русской почве стал несерьёзным, пародией. Вообще Пушкин нигде в своём романе особенно не серьёзен. Поэтому «Евгений Онегин» местами написан небрежно, местами там…
– Если он относился несерьёзно, то почему я должен по-другому? – перебил Лёха.
Никита откинулся на спинку стула.
– Бр-р… Ну как тебе сказать-то?! Литература – это же вообще условность, игра. Короче, – Никита хлопнул ладонью по книжке. – Давай список тем, по которым писать.
Лёха стал искать на столе, залез в тумбочку.
– Не могу что-то найти, – признался он. – Я у одноклассников уточню.
– Во, блин! У него «два», а он даже не знает, что делать! Всё фиолетово ему! – опять рассердился Максим. – Как в десятый класс будешь поступать с такими оценками?! Там же рейтинг, не возьмут!
– А я и не буду поступать, – спокойно отозвался Лёха.
– Как не будешь?! В ПТУ, что ли, пойдёшь?! – взвился Максим. – Мы для этого с матерью пашем, надрываемся?
– Спокойно, батя, – Никита посмотрел на друга, многозначительно кивнув и прикрыв веки. – Щас мы всё сделаем, щас разберёмся. Ты, правда, лучше иди.
Максим удалился в кухню, пока размораживался фарш, вымыл посуду, налепил кривоватые колобки и поставил их жариться. Присел на табуретку – от долгого стояния заболела спина. Настя сидела рядом, опять тыкала в экран телефона.
– Что читаешь там? – спросил Максим.
– Я не читаю, я маме пишу, – сказала дочь. – Она передаёт привет. Говорит, что надеется вернуться к нам на Новый год.
– В смысле надеется?! – подскочил от удивления отец. – А что, может не вернуться?..
Настя пожала плечиками. Максим решил вечером, когда уйдёт гость и закончатся дела, позвонить Рите, поговорить обстоятельно.
***
Никита просидел с Лёхой ещё около часа, и всё это время Максим метался из угла в угол: два раза проверил почту через телефон, по запаху вспомнил о жарящихся котлетах и едва успел их, уже подгорающие, перевернуть, вскипятил чайник, включил стиралку и сразу выключил:, та стала верещать из-за неплотно прилегающего люка.
– Рассказывай стихотворение, которое по литературе задали, – наконец приказал он дочке.
Настя послушно пробормотала о какой-то спящей беспробудно степи, и от этих слов, произнесённых вслух звенящим детским голосом, Максиму почему-то стало ещё грустнее. Свет за окном сгустился до полупрозрачной синевы, и его потянуло в сон.
Никита вошел в кухню, походя отхлебнул остывшего чаю из своей кружки:
– Всё нормально будет, папаша. Напишет. Сдаст. И в десятый поступит, куда он денется.
– Твои слова да богу в уши, – произнёс Максим, хотя всерьёз не верил в божественную помощь. – Скоро Новый год, Ритка вернётся. Не расстроить хоть её.
Попрощавшись с другом, он вспомнил, что собирался позвонить жене. Но, открыв холодильник, увидел, что, кроме свежепережаренных котлет, там остались только пара яиц да холодная гречка. Отправить бы Лёху в магазин, но нет, пусть уж ковыряется с уроками.
На поход по продуктовым ушёл почти час. Вернувшись домой, Максим вспомнил про неисправную дверцу стиралки, открутил её, снял с петель истёршиеся катушки. Но внезапно оставил эту возню, кинул подушку на диван. Заснул, правда, не сразу: в голове роились мысли об ипотеке, о том, где найти новую квартиру побольше и во сколько она обойдётся. Если брать в этом районе, то, конечно, дорого… Не потянуть. А если на отшибе, в каком-нибудь «Мариинском» или Солонцах, то Рита навряд ли согласится туда переехать. Придётся постараться, купить трёшку тут, поблизости, хотя и в старом доме – в новостройке уж точно не вытянуть.
Максим уронил голову на подушку и нырнул в сон.
***
Проснулся он от боли в шее. Поворочал головой, вытянул руки вперёд – отчасти прошло. Глянул на часы: пятнадцать минут десятого, поздний вечер.
– Настя! – позвал он. – Есть хочешь? Кофе попьём. Лёху зови.
– А его нет, – звонким беззаботным голосом ответила дочь.
– Как нет?! – всполошился Максим.
– Он недавно ушёл, сказал, дела у него…
– Какие дела?! Какие дела, время десять, завтра в школу?!
– Ему девочка вроде какая-то позвонила, – припомнила Настя.
– А-а, – сказал Максим с понимающим видом, хотя беспокойства только прибавилось.
Он сделал кофе себе и Насте – ей развёл молоком наполовину, стал набирать Лёхин номер.
«Абонент недоступен», – красивым женским голосом ответили в трубке.
Максим метнулся к окну, вгляделся в черноту декабря. Прислонив лоб к самому стеклу, увидел яркие всполохи фонарей, потусторонне блистающий снег. Ни одного человека.
– Где вот он? – спросил незадачливый отец у кого-то.
Он пытался успокоить себя, думая, что каждому было когда-то пятнадцать с половиной лет, что все бегали по вечерам на свидание к девочкам. Но собственный опыт напомнил другое. В девяносто третьем году, когда ему самому шёл шестнадцатый, они враждовали с соседним районом, с улицей напротив. Стоило кому-нибудь из пацанов пройти не по своей территории, как начинались расспросы: куда идёшь, зачем? Тот, кто не мог толково ответить, награждался парой пинков. Максима по-настоящему побили только однажды: он пошёл провожать девочку на ту самую, враждебную улицу, и по возвращении в свой район получил хороших тумаков просто за попадание на чужую территорию. Дома он ничего не сказал. Жаловаться родителям было не принято: родители работали. А дети учились, чтобы поступить в институт, стать юристами, экономистами или, на худой конец, бухгалтерами после колледжа. Некоторые, особенно умные и наглые, становились полукриминальными бизнесменами. Максим знал таких троих из своей школы и когда-то втайне завидовал им. У тех парней была лёгкая жизнь. При всей опасности – всё равно лёгкая. Богатая. А у него не сложилось ни с бизнесом, ни с институтом.
Он ещё раз набрал сына. Ответа по-прежнему не было, а стрелка на кухонном циферблате неумолимо ползла к десяти. Детское, казалось бы, время. Но кто знает, где сейчас Лёха, что с ним?!
– Настя, я пойду Алексея искать, – объявил Максим дочери. – Надеюсь, скоро вернусь. А ты дома сиди. Дома сиди, поняла?! Телефон наготове держи. Поняла?
– Да поняла я, пап!
Максим наглухо застегнул меховую куртку, натянул на голову капюшон, и ещё в подъезде почувствовал, что на улице ветер. Неприятный, порывистый, забирающийся под одежду.
Двор сиял от фонарей, от лунно-зеленоватого, казавшегося иноприродным снега. Какой-то человек гулял с собакой. Максим вышел из двора на улицу – мимо него летели машины, пронеслась разухабистая нерусская музыка, промчался с цирковой ловкостью странный тип на моноколесе.
Максим остановился под чёрным оснеженным тополем и вдруг понял, что почти ничего не знает о сыне. Ну, не читал «Онегина», получил двойки по русскому, биологии… В прошлом году вроде учился лучше. Вроде. Максим точно не знал. Детьми в основном занималась Рита, да и то насколько хватало сил, а он работал и приносил деньги. Ну, организовывал по выходным пикники на природе. И ему казалось, что всё хорошо; дети, пока не повисли на нём в режиме нон-стоп, были приятными, относительно послушными. А ведь он давно хотел поехать с Лёхой куда-нибудь вдвоём – и всё откладывал.
Максим снова достал из кармана телефон, зашёл в родительский чат девятого класса, хотел спросить, не знает ли кто, где Алексей, и остановился. Знали бы – сказали бы давно, сами позвонили, а так только сплетни вызывать, пересуды: ребёнка потерял! Или уж написать, чёрт с ним?.. Максиму показалось, что на улице стало ещё холоднее, и внутри что-то сжалось от ледяной тоски. Вспомнился широкий, зияющий тёмной пастью подземный переход на Шинников, в котором они с ребятами, тогда же, в безбашенной юности, оборудовали что-то вроде комнаты: поставили диван, стол, на стол – магнитофон, и в случае наглого «наезда» чужаков рьяно обороняли имущество. Господи, чего только не было! Устраивали «базары» – драки «стенка на стенку», толпой ходили на дискотеки в ДК имени Первого мая – не столько потанцевать и закадрить девочек, сколько опять же выяснять отношения с пацанами из других районов. Нерусские парни задирались, им отвечали тем же. На входе стояла милиция, сдерживая молодую ярость спорящих до крика металлистов и панков. А родители не знали ничего. Или знали, но считали в порядке вещей. Но разве так было нужно?..
Сейчас дискотек вроде бы нет, гуляют давным-давно свободно, где хотят. Но у Лёхи наверняка тоже есть какие-то враги. Однозначно есть, ведь на то и пятнадцать. Может, подрались из-за девчонки, из-за денег? Должен кому-нибудь. Или самое страшное – наркотики?
Только нащупав мыслью последнее слово, Максим почти бегом устремился дальше по улице, заранее решив, что пробежит её всю, а если толку не будет, тогда станет звонить всюду, куда можно. Пусть говорят что хотят. Не до того уже теперь. Сейчас всё как-то не на виду, скрыто. Но кто знает – пропали нарики совсем или их просто не вывозят на виду у всего подъезда, как раньше?..
В конце улицы Максим некстати припомнил, как однажды, по дороге в школу, наткнулся на труп. Самый настоящий. Пнул его ногой, перевернул – лицо синее.
Он завернул во двор, где светился тёплыми лампами супермаркет с уютной надписью «У дома». И вдруг увидел справа от входа компанию из трёх подростков, в одном узнал своего сына и завопил:
– Лёха!! Везде, ё-моё, тебя ищу! Ты где был?!
– Здесь, – ответил тот.
– Где – здесь?! А это кто?
Лёхины спутники – одноклассник сына Тимур Загидулин и незнакомая девчонка – расступились, и у самой стены проявилась четвёртая фигура – тёмная, приземистая, в чёрных валенках советского фасона, мужской замусоленной ушанке и, по контрасту, свежем и светлом пуховике.
– Здрасьте, – произнесло создание пропитым надтреснутым голосом, по которому Максим опознал в нём женщину.
Ему почудилось, что бомжиха шатнулась чуть вперёд, и он отвернулся с инстинктивной брезгливостью.
– Папа, это... – начал Лёха.
– Домой пошли, – оборвал Максим.
– Пап, это Людмила.
Отец оторопело уставился на отпрыска, матюгнулся:
– Что?.. Какая Людмила?! Домой давай!
Бомжиха отклеилась от стены, проскрипела:
– Мужчина, пожалуйста, покушать дайте.
Полоса сливочного света озарила её лицо, и Максим едва не вскрикнул: бездомная была ему знакома! Сколько ей было в девяносто третьем, четвёртом году?.. Нисколько, как и сейчас. Она давно потеряла возраст. Когда-то она часто собирала бутылки в огромном, как лес, парке возле Сибтяжмаша, бродила по улицам. Её видели у теплосетей возле Мичуринского моста и старались прогнать оттуда: на теплотрассах пацаны сушили газеты, смоченные в селитре, и мастерили из них «бомбы». Однажды осенью Максим с корешами – было им не то пятнадцать, не то шестнадцать лет – встретили её с мотком медного кабеля, и тут же, не сговариваясь, накинулись, чтобы отобрать медь. Бомжиха неожиданно стала сопротивляться, отбиваться, и Максим с другом начали бить её, пинать, а она визжала, охала и до последнего цеплялась за этот злосчастный кабель. Уж очень дорого для тех времён стоила медь. Мимо, кажется, проходили какие-то люди, но удары ног в палёных «абибасовских» кроссовках продолжались до тех пор, пока бомжиха, лежащая на асфальте в позе эмбриона, не затихла.
Сейчас Максиму упрямо казалась, что та, которую они тогда убивали, ожила. Она восстала из грязи, из тени, из прошлого – и просила еды. И её, как защитники, окружали новые дети.
– Я хлеба куплю, – буркнул Максим, сделав шаг к магазину.
– Нет, пап, ей надо кофе, – возразил Лёха.
– Тёплое что-нибудь надо, – вмешалась девочка.
Максим только сейчас разглядел её: девочка была явно нерусской: плоское лицо, раскосые глаза – не то киргизка, не то тувинка. Мимоходом в мыслях пронеслось: и это первая любовь сына? Или просто знакомая, раз рядом оказался Тимур. Для чего, чёрт возьми, они вообще собрались?!
– Вы что тут вообще делаете?
– Папа, извини, мы с Айдыжааной пришли к Тимуру стрим посмотреть, а у меня телефон разрядился. А потом мы вышли к «Магниту» и смотрим, Людмила стоит, мёрзнет. И мы вот пошли к Айдыжаане, она куртку свою старую отдала. Ну, чтоб не холодно было.
Сын говорил уверенно и просто, словно ничего странного в их поступке не было.
– Вы прямо как эти… Как тимуровцы, – усмехнулся Максим, кивнув в сторону Лёхиного одноклассника. – Как в СССР.
– Жалко, что СССР распался, – сказал Тимур. – Вроде умные такие все были, а развалили.
– А Людмила нам сказала, что она из Таджикистана когда-то приехала, – заявил сын.
Бездомная затрясла головой:
– Да, да… В девяносто первом ещё. Как русских начали выдавливать, так я сюда. И резали, и жгли… Тут у меня тётка жила, я думала, к ней поеду. А она умерла и квартиры не оставила. И всё – некуда мне было идти. То там, то здесь… Полы мыла, бутылки собирала, на складах всяких работала. Чего только не видела, Господи!
– Вы сейчас где-то живёте? – неожиданно для себя спросил Максим.
– А? Жить есть где, жить есть. В бараке живу, за Калинина, – успокоила Людмила.
– Мы вам сейчас кофе купим, – сказала девочка, выгребая из кармана мелочь.
– Не надо, – Максим сжал её руку. – Я сам возьму.
В магазине он подошёл к автомату с горячими напитками, дважды нажал на кнопку «Капучино», послушал тихое шуршание пены. Подумав с минуту, купил ещё три чая – сыну и его друзьям. Всё происходящее казалось ему не совсем реальным, будто он смотрел кино о себе самом и дивился тому, как его изображают.
Замерзшие не меньше Людмилы ребята с благодарностью приняли от него чай. Людмила жадно вцепилась в стаканчик с кофе, пожелала всем спокойной ночи, и незаметно растворилась в зимней тьме.
– Я Айдыжаану до подъезда провожу, – сказал Тимур.
Максим посмотрел им вслед, всё ещё не понимая, чья девушка эта, как её…Жанна, – сына или его одноклассника, или вообще ничья. Это ещё предстояло узнать, как и многое другое о Лёхиной жизни. Но до самого дома они не произнесли ни слова, на плечи им падал безмолвный снег, и только у крыльца отец решил спросить у сына:
– Сочинение-то написал?
– На черновике. Переписать осталось.
– Хорошо! – искренне обрадовался Максим. – Литература – это ведь важно тоже… Она про людей же. Про то, что все люди – они, это… Их уважать надо.
– Где это написано? – спросил Лёха.
– В смысле – где? – не сразу понял Максим. – А, в книге в какой?
Ему первым делом пришла на ум «Хижина дяди Тома», но через пару секунду вспомнил другой вариант:
– «Преступление и наказание», например. Я сам, если честно, плохо помню, но мама точно читала.
Сын нажал кнопку лифта, долго удерживал её пальцем:
– Вроде слышал такое. В аниме, что ли…
– Вот и почитай.
Лёха качнул головой:
– Я послушаю лучше… Буду ходить и в наушниках слушать. Ты мне ссылочку кинь.
Елена Михайловна Басалаева
________________________
170959
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 02.01.2025, 16:06 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 03.01.2025, 23:23 | Сообщение # 2893 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Не маетно, не страшно. Жизнь проста –
подобие летящего листа,
красиво, рыже.
Пока по ветру кружит с высоты,
вдыхаешь ветер аж до тесноты,
потом не дышишь –
и выдыхаешь шорохи тихи.
Сухой травы дрожащие штрихи
ощупывают, гладят их, кивая –
так древняя старушка малыша
качает в лапках, нежное шурша
иссохшими губами.
Прозрачен день. И мне пошли такой,
когда однажды выберу покой.
И вот бы он пришёлся на субботу,
когда и кружит, и шуршит потом,
и город утопает в золотом,
а дворники не ходят на работу.
***
Помру в четверг, пожалуй,
Часов в двенадцать дня.
Ну, что такие пасмурные лица?
Зато в субботу сможет
Напиться вся родня,
А в воскресенье – в хлам опохмелиться.
Я к старости усохну
Ну раза в два. А чтоб
Потомки сэкономили прилично.
Чем меньше будет бабка,
Тем меньше будет гроб.
Мне всё равно, а им небезразлично.
Ещё я не желаю
Страданья наблюдать,
И потому (из принципа, заметьте!)
Как раз к тому моменту,
Когда мне помирать,
Я надоем вам хуже горькой редьки!
Но! Вас предупреждаю:
Я вылечу в трубу
Лет в сто – сто десять, даже с половинкой.
Поэтому не стоит
Раскатывать губу:
Вы вряд ли попадёте на поминки!
***
От Суздаля каких-то сорок вёрст –
и сразу хмарь, и вороньё, и ветер.
Тут старый храм лишайником зарос –
безглавый очевидец лихолетья,
наследник белокаменных веков,
узорочье на пять столпов до выси.
Построенный на деньги мужиков,
на мужиков потом же и дивился,
разграблен, слеп, оплёван и не свят:
ты посмотри, не знают, что творят,
ни памяти, ни веры, ни креста...
да мне-то что, я каменный, а вы-то...
Теперь набатом ржавого листа,
каким прореха в крыше перекрыта,
зовёт, зовёт... И смотришь, и болишь,
и видишь утро в точке невозврата:
прозрачен свет осенний, тих и рыж...
И чувствуешь, что тоже виновата,
ты ж плоть от плоти этой же земли.
Как мы могли?..
***
По гулким двухэтажным переулочкам
ползёт туман и шмыгают коты.
На перекрёстке возле старой булочной
один фонарь торчит из темноты.
Ах эта сырость, тишина окраины,
осенняя отдушина души.
Любой, тут оказавшийся нечаянно,
поднимет воротник и заспешит.
Дворы темны, не испугаться просто ли?
Холодной прелью тянет от земли.
А мы тут пережили девяностые –
к двухтысячному гречку извели.
И не жужжали. Родина как родина.
ДК, Ильич и вата между рам.
Поездили туда-сюда, а ходики
протикали – и будя, по домам.
И утром выйдешь – простыни развешены,
в окошках жизни разные видны.
И рекетёра бывшего проплешина
растрогает до самой глубины.
***
Время крутит шарманку. Дурацкий мотив,
нет его ни родней, ни занудней.
Скоро всё облетит, скоро всё улетит.
Скоро всё. На тягучие будни,
сожаления, тление, сны-полуявь
променяю остатки предчувствий,
и потянется стылая знобкая зябь
под вороньими всплесками грусти.
Вот казалось – эпохе сломали хребет,
и на сломе таком до того ли?
Просто смена сезонов, банальный сюжет.
А полковник с войны присылает мне – нет,
не войну, а рассветы над полем.
И ползёт колея в опустевших полях,
и над ней облака рыжебоки,
и, задрав подолы до такого, что ах,
золотые берёзы на белых ногах
всё бегут и бегут вдоль дороги...
***
Июль, 2014
Всё не плохо. Всё просто никак.
Я тебе не писала об этом,
Но последнее время с рассветом
Всё кромешней становится мрак.
Говорят, что старушка одна
(Тут знакомые в Оптиной были)
Призывала, чтоб бога молили –
В декабре, мол, начнётся война.
В новостях – бесконечность потерь.
Мой приятель остался в Луганске.
Я ему не пишу из опаски –
Вдруг он мне не ответит теперь?
Вроде голову сунешь в песок...
Ну а что? Тут снарядов не слышно.
Целы окна, не сорваны крыши.
Всё отлично, прекрасно, всё ОК.
Просто нервы немного сбоят.
Так бывает не с нами, а где-то.
Я твержу постоянно об этом...
Но и там все твердили, как я.
По утрам вырываюсь из пут
Этих снов – бестолковых, кричащих...
Я целую детей, знаешь, чаще.
Потому что война где-то тут...
***
Всё, как водится ранней осенью –
тени длинные, зыбкий свет,
золотишка на ветках россыпи,
солнце тёплое, воздух – нет.
Раньше было: потянет горечью
облетающих тополей –
и саднит внутри, и ворочаю
будто камни в душе своей.
А потом время с глузду съехало,
стрелки дрогнули, понесли...
Тех печалей смешное эхо
мне аукает из дали.
Жизнь листаешь, как будто книжицу,
в непреложном порядке дней,
а стоишь на ветру – и слышится
канонада с далёких полей.
И такое всё, знаешь, хрупкое,
улетучее, словно пар.
И теперь бережёшь, баюкаешь,
принимаешь как божий дар
и туманные ранние сумерки,
и грядущие ноябри,
и ушедшего дня окурки –
в лужах рыжие фонари...
***
Удивительны дни. Будто всё, наконец, решено.
Никакой суеты, не считая, конечно, синичек.
Так светло и печально, что даже немножко смешно:
этот старческий пафос выходит за рамки приличий.
Это, знаешь, свобода того, кто уже обречён,
и успел попрощаться, и всё замолил в эту осень,
и готов к новой жизни. Какой? Непонятно ещё.
Что бежать впереди паровоза? Не к спеху, прорвёмся,
ничего не пугает, пока остаёшься собой...
Посмотри, сколько неба сквозь голые ветки пролито.
Ты меня доцелуешь потом. Мы уходим в запой –
упиваться последним туманом до пьяного всхлипа.
***
Мне хорошо в сообществе дождей,
туманов, тяжких рос, крикливых соек.
Тут запах осени не горек и не стоек,
поскольку осень – выдумки людей.
Тут просто жизнь. Не финиш, не конец,
не апокалипсис, несущий смерть живому.
Тут синий дым плывёт себе над домом,
и в пять утра петух орёт, стервец.
Тут поздний флокс под старость одноглаз,
но полон ветра, как Весёлый Роджер,
и солнце, хоть помалу слепнет тоже,
а тужится и греет про запас.
Давай сидеть на лавочке вдвоём
бессмысленно, безвременно, блаженно.
Какие б ни случились перемены,
жизнь долгая, мы всё переживём.
И удивимся, седы и мудры,
как неизменны правила игры
холодной тьмы и майского тепла,
добра и зла.
И сядем тут через полсотни лет,
и будет трепыхать осины ветер,
и длиться тот же зябкий полусвет.
И то, что нас уже на свете нет,
мы даже не заметим.
***
А вот теперь давай смотреть в окно.
Сейчас уже спешить совсем некстати.
Поставь будильник, скажем, на апрель.
Остатки лета бродят, как вино,
и ты броди по осени в халате,
прихлёбывая крымский мускатель,
прислушиваясь: горлица? да ну...
Былое превращается в фантомы.
Окстись, накройся, зябко по ночам.
С утра тревожит дворник тишину,
а я ещё смотрю из полудрёмы
на волнами обглоданный причал,
Чобан-куле на дымчатой скале.
Сейчас пойти, нарвать инжира что ли...
Спохватываюсь… Вылечи меня,
скажи, что впереди так много лет,
плюс-минус лето – не играет роли,
качай меня, нелепицу бубня,
горячие, как камешки, слова...
Я в этом мире, искажённом болью,
давно жива одной твоей любовью.
Одной любовью только и жива.
***
Упрёшься лбом в стекло
и смотришь в старый двор.
И толку вспоминать,
который год на свете.
Здесь время не течёт
и сроду не текло.
Мы с самых давних пор
всё те же – те же дети
для этих тополей
в коросте и во мху
и для кирпичных стен
под шифером щербатым.
Мы лезли, как трава,
сюда из всех щелей,
и голуби с антенн
ворчали до заката
на пыльную возню
чумазой пацанвы
под окрики бабуль
на лавке у подъезда.
И был всегда июль,
и в окнах реял тюль,
и самолётик плыл.
Куда он, интересно?
Мой вечный рай и плен...
Другой покинет дом –
и, хошь не хошь, в пути
иссохнет пуповина.
А я меж этих стен
всю жизнь наполовину
не я, как ни крути,
а девочка-фантом.
***
Ну что, мой пёс, лохматые усы,
стареем, брат. Я осень, ты зима.
Заметил, может, с возрастом часы
как будто бы лишаются ума:
дни тянутся, а времечко летит
то пухом, то листвою, то пургой.
И бабочками – май ещё в пути,
они кружат меж тающих снегов...
Промчится год – ищи его свищи
среди похожих бесконечных дней.
Чем глубже залегание морщин,
тем память мельче, тише и ровней.
Не потому, что ты, такой дурак,
с Альцгеймером практически на ты.
А потому, что многое пустяк
и памяти не нужно суеты.
Она похожа на ноябрьский день:
просвет, другой, а прочее туман,
далёкая тревожащая звень,
и птичий крик, и выцветший бурьян...
Но кое-что я помню наперёд:
мы выйдем в лес, затеплится весна,
и на развилке возле трёх берёз
закончится война...
***
Ты не поймёшь – да, собственно, и пусть.
Мои стихи – не радость и не грусть.
Мои стихи – болезнь и наказанье
за то, что, не сумевши повзрослеть,
я до сих пор смотрю на жизнь и смерть
распахнутыми детскими глазами.
За то, что в пятьдесят с довеском лет
я не смогла нажить иммунитет
ни к этой хрупкой красоте вселенной –
такой покорной року, но опять
готовой тонким стеблем прорастать
из тлена;
ни к стариковской горести: уже
им тело непослушно, а душе
от силы тридцать;
ни к тем, кто, жаждой славы воспалён,
идёт по трупам голым королём;
ни к тем, кто возгордится –
и говорит с тобой через губу...
Мы все однажды вылетим в трубу,
но прежде, чем сознанием ослепнем,
пред каждым пролистают жизнь его.
И даже ад не стоит ничего
в сравнении с тобой десятилетним –
ребёнком, что глазами цвета мая
посмотрит на тебя, не узнавая...
***
Новогоднее не пишется,
чтоб удачу не спугнуть.
Уходящей эры книжицу
долистаем как-нибудь.
Четверть века хуже, лучше ли
отмахали на авось.
До конца времён наслушались,
как трещит земная ось.
Дай же Бог по вере каждому –
по злобе и по любви.
Неподкупного, отважного
дурака благослови.
Прикоснись дыханьем в полночи –
Твой же, божий, человек.
Уж ему другой-то помочи
не сыскать себе вовек.
Детям – радости. Родителям –
ни болезни, ни тревог.
Ну, а мне о чём просить Тебя?
Ты и так во всём помог.
Живы все – кто здесь, кто в памяти.
Под крылом легко Твоим.
Не оставишь – и управимся.
Аминь.
***
Довериться зиме, нести её, как крест –
не на Голгофу, а легко, нательно.
Принять её, как принимает лес
на лапы елей долгие метели.
Пустить в себя до самого нутра,
до ледяного наста между рёбер...
Потом однажды вынырнуть с утра
на белый свет младенцем из утробы
прожитых дней – без горечи утрат,
теней, толпой стоявших за спиною...
Ожить и жить. Не зря же снегопад
стирает грань меж небом и землёю.
***
Ещё одна военная зима.
Чтоб постоянно не сходить с ума,
живу не новостями, только верой –
упрямой и скупой на болтовню.
Гляжу, гляжу по сотне раз на дню
вперёд, за край, а в поднебесье сером
то вороньё, то зреет снегопад...
Но я смотрю, не опуская взгляд:
без темноты не распознаешь света.
И, усмиряя боль свою и злость,
осколки мира собираю в горсть –
и берегу, храню, как амулеты
от копоти и чёрствости души:
вот мой июль стрекозами расшит,
вот – рыжий скол сентябрьской ойкумены,
вот май – всегда победный, ибо жизнь,
пробившись, первой зеленью дрожит
от века, вопреки и неизменно...
И ты храни – и птичий перезвон,
и декабря морозный полусон –
предпраздничный, щемящий, заповедный.
Забудем – и какими встретим их,
усталых, стосковавшихся, родных,
вернувшихся с победой?
***
Намело – ни тропы, ни следа.
Только неба сырая слюда
путеводным просветом обманет –
и рванёшь, утопая в снегу,
а навстречу обрушится гул
тишины, посечённой ветрами.
И стоишь – оглушён? оглашён?
И натянуты жилы до звона.
Я без кожи два года живу,
и меня, как сухую траву,
ты закутай, зима-полудрёма.
Сколько нас, обнажённо-живых,
зябких пасынков дней золотых,
принесла тебе осень в подоле...
Спеленай, убаюкай, качай.
Я такой же седой иван-чай
посреди заметённого поля...
***
Смешная память. Там и тут
в ней вспышки, промельки и блики –
то жаркий привкус земляники,
то чаек соловецких крики.
А то, когда снега метут,
вдруг наплывёт – с чего? к чему? –
горячий, сладкий тлен покоса,
потом осенние берёзы
мелькнут, погаснут, и в дыму
сгоревших лет проступит звук
часов на нашей старой кухне,
сочтёт секунды и затухнет...
Очнёшься, выплывешь – вокруг
и мир попутал берега,
и день не тот, и год не этот.
Но я жива и обогрета
янтарной зыбью, тенью света,
теплом былого пустяка.
***
Никогда не отказывай мне
ни в слезах, ни в пустой болтовне,
ну, пожалуйста, мой хороший.
Посмотри, как бела тишина,
и дорога совсем не видна
за полночной порошей.
Стылых веток бессильная дрожь.
Чашку чая нальёшь, не допьёшь...
Знаешь, я наизусть заучила
«Живый в помощи» – легче душе:
прочитаешь – и больше уже
и надежды, и света, и силы.
Как протяжна сегодня зима.
Ни конца ей, ни края не видно.
Поле с небом написаны слитно.
По пригорку сползают дома,
будто снялись с насиженных мест
и к весне потянулись неспешно,
и котов прихватив, и скворешни,
и ворон, зимовавших окрест.
Только сосны-холодная-медь
тянут следом лиловые тени...
Если мне замолчать, онеметь,
как тащить на хребте это время?..
Полина Орынянская https://stihi.ru/avtor/ollopa
_______________________________________
170994
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 03.01.2025, 23:25 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 09.01.2025, 14:26 | Сообщение # 2894 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Снег над Малороссией
Под небом распахнувшимся до дна
Мы посидели выпили вина
В снегу ворота и скамья у входа
Усталость расстилает простыню
К печному укрощенному огню
Протягивает руки непогода
И всю округу застит белый дым
Пропахший звонким молоком парным
Полтавским и днепродзержинским снегом
Навозом жирным смертью молодой
Скрипучею колодезной водой
Расплакавшимся черным человеком
Измученным войной и самосадом
Тебя ведь тоже звали Александром
И я коснусь твоих небритых щек
И ты смутившись скажешь мне внучок
И растворишься в близлежащей роще
Родился в Курске умер в Нехвороще
Мой русский дед сын Тихона и Азы
Цыганистым неукротимым глазом
Сверкающий среди живых снегов
Никто не вспомнит тех сибиряков
Что утешали в гиблом сорок третьем
Схватившего сестренку пацана
– Где батя твой? – Война, малец, война...
Просоленные потом гимнастёрки
Колючая мужицкая щека
Консервы из заплечного мешка
И звуки ускользающей свирели
На берегу оттаявшей Орели
Сквозь белый сон сквозь темные века
Полтава переправа переправа
Черна вода и холодна беда
И на диване засыпает внук
И мёртвый дед ему читает вслух:
– Поэма про бойца. "Василий Тёркин".
***
Путеводной звездой будет вечно светить
Память предков в ночи сквозь седые века мне.
И не стыдно упасть на тернистом пути,
Разбивая колени об острые камни.
Я стезю выбрал сам среди сотен других,
И дороги иной мне отныне не надо.
Если вдруг упаду, не давайте руки:
Каждый учится сам подниматься и падать.
***
Кем мы были на этом свете,
Как любили, о чём мечтали,
Будут знать лишь бродяга-ветер
Да полоска булатной стали.
А крестьянин, взглянув на небо,
Поле сечи забытой вспашет.
И взметнутся колосья... хлеба
Над безвестной могилой нашей.
Горевать нам с тобой нелепо,
Ведь не зря подчинимся тленью.
Нам кормить свежим русским хлебом
Поколенье за поколеньем!
Хлебом-солью приветят князя,
И усобиц костры погаснут.
Значит, падали с криком наземь
Не напрасно.
***
Берёзы
В час, когда над Россией грозы
И ветра нам сулят войну,
За окном шелестят берёзы.
Их молитвы хранят страну.
Дождь смиряя, они упорно
Шепчут то, что сильнее зла.
…Но всё больше отметин чёрных
Время делает на стволах
***
Лишь рассвет заалел
Над угрюмыми хатами,
Повели на расстрел,
Подгоняя прикладами.
Через луг, нагишом
В лес вели автоматчики.
Полицай подошел
И скомандовал: «Начали!»
Эхо ринулось прочь.
Следом – длинная очередь.
В уходящую ночь!
В сумрак леса всклокоченный!
Заслоняясь от пуль
Оголёнными нервами,
Рухнул в вечность июнь
...сорок первого
***
Сорок пятый. Душный май. А дальше?
Снова потянулись годы, дни...
Вот уже звенят надрывной фальшью
Строки, рикошетя от брони.
Но она «крепка, и танки быстры» -
Подвиг предков в золото одет.
Про бои у водной глади Истры
Рассказал живущий рядом дед.
Как пугал фашистов громким криком,
Зная, что патронов больше нет.
Мы тогда в восторге были диком.
Что нам – первоклашкам, ребятне...
Берегу рассказ, сведённый к шутке,
Как плацдарм на дальнем берегу.
Но порой мне делается жутко,
Будто я потворствую врагу.
Будто вот сейчас родится слово,
За которым скрыта пропасть лжи.
Напишу его и вздрогну, словно
Отдаю без боя рубежи.
***
Здесь солнце светит по-иному,
Как сталь остры его лучи…
О том, что чудится больному,
Не знают строгие врачи.
Мелькают белые халаты,
А в вену льётся физраствор.
Сегодня в крайнюю палату
Рассвет заглядывал, как вор.
Старик, измученный, печальный,
С лицом, белесым, будто шелк,
В обнимку с тёплыми лучами
Ушел.
***
Пахнет дымом свечным и ладаном…
Тянет сыростью из углов.
Этой церкви с фасадом латаным
Через бури пройти свезло.
Не осталось креста над куполом,
Потемнел на иконе лик.
Кто считал, сколько наших убыло?..
Скорбный список и так велик.
Но горит в той церквушке тусклая,
Распугав липкий мрак, свеча.
Это теплится, тлеет русское,
Изгоняя из душ печаль.
Потому-то здесь пахнет ладаном,
Потому отступает грусть.
Эту церковь с фасадом латаным
Наши предки прозвали: Русь.
***
Одно окно – в рассвет,
Другое – на закат,
И дым, что из трубы
По ветру водит носом.
От ветреной судьбы,
На мир глядящей косо,
Исходит мягкий свет,
Пронзая облака.
А в доме тишиной
Опутаны предметы.
Как нити паутин,
Былое сплетено.
И всё предрешено:
Опять встречать рассветы,
Смотреть, куда глядит
Рассветное окно.
А в то, что на закат,
И посмотреть-то страшно...
Там бродит день вчерашний.
***
Давным-давно
скворцом наш двор забыт.
Не он сейчас в скворечнике ютится.
Там маленькая пёстренькая птица
налаживает свой нехитрый быт.
Былое не вернуть уже, но речь не
о звонком пенье юного скворца...
«Жилец» не знал истории скворечни,
а вот сосед махал рукой в сердцах.
Он говорил, подслеповато щурясь
и поминутно кашляя в кулак:
«Скворцы совсем
петь разучились,
Шурик!».
...а птаха пела. Пела, как могла
***
Ветер-хулиган на свежем сене
В чистом поле отлежал бока,
Лихо свистнул.
Где же ты, Есенин,
Чтоб его прославить на века?!
Где ты, автор?
Пробил час явиться,
Под уздцы Пегаса приведя!
...И на нём взлететь, подобно птице,
К радуге –
надгробию дождя.
Нет ответа в воздухе упругом.
Шустрый ветер как-то сразу стих...
Семиструнка, выгнувшись над лугом,
Страстно хочет
превратиться
в стих.
Где ты, автор?..
***
Ленивой кошкой солнце разлеглось
За горизонтом,
Лишь мерцают слабо
Ещё лучи.
А ведь недавно злость
Его брала,
и вскидывало лапы
Светило в гневе,
да когтями дня
Скребло нещадно где-то меж лопаток.
Загар рассвета выжжен у меня
На бледной коже.
Он сойдет к закату...
***
...А за окном – рассвет.
И мир, как прежде, юн.
И облако кружит над ним воздушным змеем.
Загадочно поёт о чём-то Гамаюн,
Но разве кто из нас понять его сумеет?
Привычным стал недуг душевной глухоты,
Хоть ощущает дух губительную жажду.
Но мир, как прежде, юн... И понимаешь ты:
О Родине поёт. О нас поёт. О каждом.
***
Кажется, на свете что бывает проще –
В пересвисте ветра слышать соловья...
Отшумят столетий золотые рощи.
Мой далёкий правнук – это снова я.
Как и я, в России правнук счастья ищет,
А в морозном небе – облачная таль...
Он не вспомнит жизни –
той, что прожил пращур.
Для него открыта дверь в иную даль.
Но однажды утром, на пороге стоя,
К жгучему восходу обратя лицо,
Он поймёт, что в жизни самое простое –
Слышать в тёплом ветре голос праотцов.
***
Я назвал её солнышком.
Нравится
Это девушке лучшей на свете.
Знаешь, Солнце, она ведь красавица,
Только мне, к сожаленью,
не светит...
***
Снятся ночь и постель
Бесконечного поля...
Запах мяты и хмель.
Снится та, кем я болен.
Вспыхнут чувства искрой
В темноте густо-синей.
Безупречен покрой
Соблазнительных линий.
Снятся небо, земля,
Лес в туманном наряде,
Испытующий взгляд
Сквозь упавшие пряди.
Я тону в этом сне.
Отключается разум.
Всё на откуп весне...
И будильник
я слышу
не сразу.
***
Вот опять перепутались атомы,
Из которых слагается мир.
Друг для друга – никто, а когда-то мы
Неслучайными были людьми.
Ты, конечно же, скажешь, что не были,
Дескать, я для тебя только друг.
Ты запуталась в были и небыли,
Или я так бессовестно вру?
«Только друг», – скажешь ты, и поверю я,
Сам себе прикажу: «Откажись!».
Из ошибок ведь ткётся материя...
И пространство, и время, и жизнь.
***
Парашютные стропы нервов
Ты, того не желая, режешь.
Всё меняется, и,
во-первых,
Я теперь улыбаюсь реже.
Настроения нет?
Да ладно...
Просто в шутках сквозит усталость.
Бьёшь по струнам души надсадно,
Струны рвутся –
душа сломалась...
«Во-вторых», да и «в-третьих» тоже,
Я бесцельно брожу в тумане -
Пресловутый мультяшный ёжик.
Но твой голос всё так же манит.
Огрызаюсь на каждый довод,
Всех встречаю колючим взглядом.
Настроение –
просто повод.
А причина –
тебя нет рядом.
***
Сводки с фронта
1
Сплошной раздрай – развязана война
Меж чувствами и кайзером-рассудком.
Артподготовка длится третьи сутки,
И вот уже любовь окружена.
Повсюду мины, страшен каждый шаг.
Стук сердца – словно эхо канонады.
И есть, и спать не «хочется», а «надо».
Вот-вот капитулирует душа...
2
Не отступать и не сдаваться!
Судьба – она порой сбоит.
На правом фланге нынче, братцы,
Позиционные бои.
На личном фронте будет жарко:
Любовь – усилиям взамен,
Ну а пока как у Ремарка –
Без перемен.
***
Из долгого плена
своей безответной любви,
Сбивая колени, ладони
и сердце в придачу,
Я шел, спотыкаясь,
и жадно пространство ловил
Скупыми глотками,
глазами, просящими плача.
Багряное солнце
до слёз прижигало глаза
И в утренний час
над кормой горизонта вскипало.
«Быть может, однажды, –
я вечности сонной сказал, –
Мой облачный парус
кому-то покажется алым...».
***
На тёмной стороне луны
Цветут сады, и где-то в устьях
Молочных рек
пасутся сны
И щиплют горький клевер грусти.
Колышут тёплые ветра
Деревья призрачного сада,
Где ходят отроки Петра
Вдоль ровных яблочных посадок.
На оборотной стороне
Людские чаянья сокрыты.
А на Земле...
У рыбки нет
Для бабки нового корыта.
***
Звёзды светят всем и никому –
Холодно, безжалостно и колко.
Меж стогов, закутанных во тьму,
Канет свет оброненной иголкой.
Нелегко в полночной мгле найти
Ту иглу, что будет штопать душу.
И звезду, готовую светить,
Мне непросто будет обнаружить.
Завершив блуждания ничем,
Я в расстройстве обо всём забуду,
Но узрею в солнечном луче
Только мне дарованное чудо.
***
Яблоко...
Одно.
И вот расплата –
Их лишили райского уюта!
Ева отшвырнула виновато
Сочный плод...
и догадался Ньютон.
***
Свист метких стрел сейчас ловлю во фразе я,
А боль от слов
лирически остра.
В сибирских генах заблудилась Азия:
Степная ширь и отблески костра.
А ты глядишь – усталая, но гордая.
И непокорность жестами кричит:
«Русь никогда не соглашалась с ордами…
На варварские правила мужчин!»
***
Легли внахлест две линии судьбы,
Переплелись в неразрешимый узел.
Ум вопрошает о таком союзе
По-гамлетовски: «Быть или не быть?»
Душа не отвечает, гнет свое:
Поет, ликует. Ни к чему вопросы!
Вопросы там,
где жизнь – сплошная проза
И чувство чувством быть перестает.
***
Примирение
Тане
1
Дай нам, Боже, понимать друг друга
И любить, сомненьям вопреки…
Мой старинный друг, твоя ль подруга
Пусть устало скажет: «Дураки…
Ведь она безудержно капризна,
Да и он – упрямый, как баран!»
Пусть твердят, ведь это главный признак,
Что навстречу сделать шаг пора.
Ты во мне всё ищешь недостатки
И готова чувства сжечь в золу...
Разве? Ведь у нас в сухом остатке –
Долгий, страстный, жаркий поцелуй,
В нежность обращённое молчанье,
Кроткий взгляд небесно-неземной…
У тебя трепещут за плечами
Два крыла, замеченных лишь мной
2
Ладонь в ладонь…
Соединились части,
Единым целым став на краткий миг.
Каким простым порой бывает счастье,
Не ясно до конца и нам самим.
На краткий миг забылись споры, ссоры
И прочая земная ерунда.
На наших пальцах завитков узоры
Совпали.
Дай-то Бог,
чтоб навсегда.
***
Ну вот, снова вечер –
Пора расставанья.
Ты шепчешь:
«До встречи»,
А я:
«До свиданья»...
До лирики новой,
Что вместе напишем.
До главного слова.
До неба... и выше!
И выше...
***
Лёгкое течение полощет
В водах Иртыша закатный свет.
На любой вопрос найти ответ,
Созерцая безмятежность,
проще.
Миг, другой...
Устало ляжет тень
На траву.
Ночь над рекой нависнет.
Смысл жизни –
это каждый день
Уходить на поиск смысла жизни.
***
Моя судьба самоповтором бредит.
Туман, туман, а где-то далеко
Уходит белый парус в молоко.
И плеск волны, и пустота на рейде.
Чего-то ждёт душа, едва дыша,
То зябко ёжась, то от счастья млея.
Я вижу, как, в испуге, с голыша
Взлетает чайка. И туман мелеет.
Но всё начнётся заново, когда
Сквозь белизну мне станет парус виден,
И небо видно, и видна вода.
Так почему я на тебя в обиде,
Судьба моя, идущая опять
След в след себе, замкнувши круг, в котором
Я мучаюсь пустым самоповтором
И не могу ни в сторону, ни вспять?
Вернётся чайка, заберётся на
Ближайший камень. Парус затрепещет.
Но вновь придёт тумана пелена
И спрячет до поры мечты и вещи,
И море, и небесный окоём.
Опять стою в дурманящей печали.
Опять пытаюсь думать о своём.
Опять в конце всё точно как в начале.
Хоть поводок решения упру,
Но нет пути, лишь замыкаю круг.
И эта надоевшая строка,
Туман и море, камень и рука,
Хватающая камень. «Получай-ка,
Тупая птица!» И туман, и чайка,
Летящая в туман, от камня прочь.
Не говори, что и туман, и птица
Не повторятся, жизнь не повторится,
Не предрекай иного, не пророчь.
Я так хочу остаться в этом месте.
В тоскливом трансе, с морем в унисон
Дышать и чайку ждать, как ждут известий.
И думать, смерть ли это, или сон?
Мне белой птицы не дано коснуться,
А камень раз за разом отстаёт.
И я хочу, но так боюсь проснуться
И не увидеть в комнате её.
Александр Тихонов. Стихи и проза https://vk.com/tihonovstihi
___________________________________________________
171199
Сообщение отредактировал Михалы4 - Четверг, 09.01.2025, 14:27 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 13.01.2025, 19:17 | Сообщение # 2895 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Это — всего лишь стихи.
Это — всего лишь слова.
Хриплые, как мехи.
Хрупкие, как трава.
Трепет пугливых строф —
жизнью на волоске.
Это — всего лишь кровь,
спёкшаяся на листке.
***
Поэт не должен быть счастливым.
Он не для этого рождён.
Его удел — больным и сирым
брести куда-то под дождём.
И чтоб его вела кривая
и очень скользкая стезя,
и вьюга пела, завывая...
Ему без этого нельзя.
Поэт не должен быть богатым,
успешным, бравым и лихим.
Голодным и слегка поддатым
обязан он писать стихи.
И чтоб его терзали беды.
И чтоб снедали страх и стыд...
А пораженье от победы
румяный критик отличит.
***
Как страшно одному
Перед листом бумаги.
Она бела, как смерть,
она, как жизнь, пуста.
И что мне делать с ней?
И где мне взять отваги
коснуться белизны
дрожащего листа?
Но первые слова —
пока ещё неясно —
забрезжат в глубине...
И распахнётся твердь...
И я уже не здесь.
И надо мной не властны
безжалостная жизнь
и жалостная смерть...
***
Эта птица как ночь темна,
а в глазах её — лютый лёд.
Прилетает ко мне она
и сердце моё клюёт.
А другая — как день светла —
без конца отгоняет её.
И серебряным взмахом крыла
исцеляет сердце моё.
И кружат они надо мной,
возвращаясь одна за одной.
А когда перестанут кружить,
то и я перестану жить.
***
Когда мы спим, деревья бродят
по неприкаянной земле.
Их корни места не находят.
И души их скорбят во мгле.
Скорбят о прошлом и грядущем,
о том, что снегом замело,
тоскуют по эдемским кущам,
не знавшим про добро и зло...
А утром выглянешь в тревоге
в окно, подёрнутое тьмой...
«Да вон же — ива у дороги...
Вернулась, блудная, домой!..»
***
Когда работаешь метлой
или совковою лопатой,
не думаешь о жизни злой
и о судьбе своей горбатой.
И не клянёшь мирскую ложь,
и человечество не хаешь.
А просто-напросто скребёшь,
а просто-напросто махаешь.
Особенно когда снега
завалят город по колено.
Гребёшь, не помня ни фига
о суете и доле бренной,
о кредиторах и долгах,
о распоясавшейся власти...
До слёз в сияющих глазах,
до просветления,
до счастья...
***
Убереги меня от злости
на мир, летящий в никуда.
Мы в мире этом только гости.
Погостевали — и айда.
Убереги меня от гнева
на жизнь, погрязшую во зле.
Кто знает, что такое небо,
тому не страшно на земле.
***
И ничего не будет — счастья, величия, славы...
Всё смывает бесследно Леты слепая вода.
Всё пожирает время — зверь стотысячеглавый,
жалкие кости былого выплёвывая иногда.
Как ни крути, в итоге этой бодяги длинной,
вымученной, нелепой, сляпанной вкривь и вкось,
тот, кто слепил всё это, скомкает в длани глину,
грустно вздохнёт и скажет:
«Снова не удалось!»
***
На небеса положись.
И небо тебя заберёт.
Смерть — это та же жизнь.
Только наоборот.
Высшею мерой мерь
счастье дарёных дней.
Жизнь — это та же смерть.
Только ещё больней.
***
Вода огонь в себе таит,
как ангелы — чертей.
И жизнь большая состоит
из маленьких смертей.
Снедая дух, пирует плоть.
Слепы поводыри.
Но бьётся запертый Господь
у каждого внутри.
***
Над поверженным злом торжествуя,
так легко в упоеньи слепом
заступить за черту роковую,
где добро обращается злом.
И с тупым постоянством закона
повторяется всё под луной.
И герой, победивший дракона,
обрастает его чешуёй.
***
Город-ирод, город-ворог,
не хватай меня за ворот —
дай мне дух перевести.
Не бери меня измором —
душу с миром отпусти.
За кирпичными домами,
за фабричными дымами,
за увечными лесами
есть с живой водою ключ.
Отпусти меня — не мучь.
Город-ирод, город-ворог...
Глядя в небо, словно в прорубь,
у обочины стою.
На асфальте бьётся голубь —
ищет голову свою.
***
Вновь эта боль непомерная,
эта слепящая тьма.
В ночи такие, наверное,
люди и сходят с ума.
Что ты, душа окаянная,
в угол забилась, как зверь?
Разве в твои покаяния
кто-то поверит теперь.
Горькие сны и пророчества.
Памяти чёрствый ломоть...
Может, от одиночества
нас и придумал Господь?
***
Смеркается. Сыро и зябко.
Крест-накрест обвита платком,
в тужурке оранжевой бабка
из будки выходит с флажком.
Состав прогрохочет. И снова
на сто километров — одна.
Заварит чайку травяного
в консервной жестянке она.
И цедит с тоской отрешённой.
И шепчет: «Господь, сохрани...»
И — словно пустые вагоны —
за окнами тянутся дни.
***
Здесь белая церковь когда-то была.
Снесли, словно головы с плеч, купола.
Крапивой заросшие, еле видны
останки щербатой кирпичной стены.
Заброшенный сад. А за ним — огород,
где сизый укроп и капуста растёт,
где ветхое пугало — руки вразброс —
стоит на ветру, как распятый Христос...
***
Мирозданья тьма немая,
непосильная уму...
Страшно жить, не понимая,
отчего и почему.
Что судьбой и жизнью движет?
И каков закон игры?
Кто на ось вселенной нижет
невозможные миры?
Для чего, как зёрна хлеба,
под присмотром звёздных глаз,
жернова земли и неба
перемалывают нас?..
***
Когда душа взмывает в поднебесье,
невыразимой радости полна,
тем самым нарушает равновесье
двух противоположностей она.
И, упиваясь радостью высокой,
она сейчас не ведает о том,
что болью неминучей и жестокой
за этот миг расплатится потом…
***
Плывёшь, плывёшь, отчаянно гребя.
А жизнь сильней. И сносит по теченью.
И сколько ни обманывай себя.
победа – не твоё предназначенье.
Но ты плывёшь – бессмысленно и зло.
Но ты гребёшь, хотя надежды нету…
А не грести – куда бы унесло
теченье обезумевшее это?
***
Дорога тянется к закату –
Две вбитых в глину колеи.
Он и она бредут куда-то
И думы думают свои.
Она в заштопанном жакете.
Он в телогреечке худой.
Невесть зачем на этом свете
Связало их одной судьбой.
Любви в помине не бывало.
Детьми Всевышний обделил.
Расстаться духу не хватало.
И вместе белый свет не мил.
Так и брели по жизни, маясь.
И доживут века свои,
Не расходясь и не сближаясь,
Как две разбитых колеи.
***
И снова этот сон зловещий,
неотвратимый, как беда,
в котором поезд сумасшедший
нас всех уносит в никуда.
Туда, где время умирает,
где солнце чёрное встаёт...
И ходу, ходу набирает.
И рельсы кончатся вот-вот...
***
Поздно молиться. И каяться поздно уже.
Всадник на бледном коне показался вдали.
Дай напоследок прижаться душою к душе
на островке из-под ног уходящей земли.
Знает лишь Отче Небесный, чьи души спасти.
Час приближается. Вечность подходит к концу.
Дай мне прижаться к тебе и покой обрести.
Это не слёзы, а звёзды текут по лицу...
***
Нужно, чтобы время отстоялось,
став прозрачным, и осела муть.
И сквозь то, что мнилось и казалось,
проступила истинная суть.
Чтоб листва засохшая опала,
а взамен другая наросла.
Чтоб в душе светло и тихо стало —
ни стыда, ни горечи, ни зла.
И тогда посмотришь ясным взглядом
в прошлого зияющий провал...
И вот это называл ты адом?
И вот это раем называл?..
***
За каждый вдох, за каждый выдох
мне жизнь любить не надоест.
И если Бог меня не выдаст,
то и свинья не съест.
А Он не выдаст. Он не выдаст!
Иначе всё – напрасный труд.
И каждый вдох. И каждый выдох.
И каждый стук вот тут…
***
Ничему ты меня не научишь,
сумасшедшая, злая судьба.
Только вымучишь,
только замучишь,
как на римских галерах - раба.
А когда, измождённый и слабый,
бросив вёсла, навеки усну,
ты меня, непотребного,
за борт
в набежавшую кинешь волну.
И Рыбарь, выбирающий сети,
прослезится, увидев улов, -
безымянное тело,
и эти
голубые следы кандалов.
Валерий Котеленец https://stihi.ru/avtor/kotelenetsv
И тут: https://vk.com/id93147137
___________________________
171424
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 13.01.2025, 19:19 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 15.01.2025, 22:53 | Сообщение # 2896 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Я видел путь, я знаю,
Как знал перед войной,
Что я не умираю,
А ухожу домой.
Дышать весенним лесом,
Прощать в последний раз,
Я защищал Одессу,
Я отстоял Кавказ.
Я вымыл Черным морем
Солдатскую броню,
Мы отправлялись строем
И до сих по в строю.
Я раздаю заплаты
На раны и грехи,
Я буду в сорок пятом
Читать твои стихи.
Смогу с покоем в сердце,
Где трепетная высь,
Пересчитать младенцев,
Что после родились.
***
Вот и все, любимая, вот и все,
Это зерна падают в чернозем,
Лунный свет над крышами невесом,
Мир цикличен, значит, опять спасен.
Ты сидишь на стуле и трешь висок,
Где-то там в июле камыш высок,
И глотает воду речной песок,
Срок ничтожно мал и уже истек.
Я тебя не встретил, не знал цены,
Звездный ветер мчится сквозь наши сны,
От кровавых маков поля красны,
Ожидают смерти и тишины.
Ты привычно смотришь, как свет померк,
Как на Пресню сыпется белый снег,
И меня ломает безумный век,
Ты мой тайный смысл и оберег.
Вот и все, любимая, лег костьми,
Может, это буря, а, может, штиль,
И такую нежность не унести,
Бог меня прощает, и ты прости.
***
Глухо тикают стрелки настенные,
Колыбельную ждут в ночи,
В мамин голос вместилась вселенная
И созвездиями звучит.
Город жив, разукрашен сиренево,
Под соцветиями храним,
И на каждое майское дерево
Опускается Серафим.
Это музыка снов зарождается,
И читает любовь с листа,
Мы друг в друге уже продолжаемся,
Мы за пазухой у Христа.
Слезы счастья - вода драгоценная,
Невесомый пасхальный свет,
В нас с тобою вместилась вселенная,
Нет пределов и смерти нет.
***
Они сидели в зале
Под зыбким полусветом,
Пока хвосты срезали
Пылающим кометам.
Они смотрели сцену,
Где солнцем дом раскрашен,
И вспоминали Лену,
Танюшу и Наташу.
Они ходили полем
И вязли в липкой почве,
И плакали от боли
Космические ночи.
Апрель стучал по каскам
Дождем освобожденным,
И били пули с лязгом,
И были пули стоном.
А в зале стало тихо,
И прошлое воскресло,
И задремало лихо
Под театральным креслом.
Дышали души морем,
Смолою, горной высью,
Туманным Лукоморьем
Тоской любовных писем.
Они лежали списком,
Щитом святого Глеба,
И взглядом материнским
На них смотрело небо.
***
Всё о любви и о войне,
Когда так сильно жить захочешь.
И очи карие у ночи
Неповторимые вполне.
Прозрачно, в такт тревожным снам,
Дрожит стекло в оконной раме,
И свет багровый над домами,
Как расцветающий тюльпан.
Ещё важна Благая весть,
Есть адрес Бога на конверте,
Отсрочка мнимая от смерти
И взгляд, который не прочесть.
Разгладив острую волну,
Застыло море неподвижно,
Мечты со вкусом спелой вишни,
Всё про любовь и про войну.
***
Сердце моё,
Я от тебя уезжаю,
Мимо плывёт невесомый
Берёзовый свет
Солнце встаёт,
Колея убегает по краю,
Дальше от дома,
Которого, в принципе, нет.
Боль на потом,
Проводы в тесной прихожей,
Капает воск на медовый
Холодный, паркет,
Думать о том,
Было ли что-то дороже
Этого дома,
Которого, в принципе, нет.
Где-то моря
Бьются о берег пологий,
Злая тоска на изломе
Непрожитых лет,
Радость моя,
Просто полынь у дороги
Шепчет о доме,
Которого, в принципе, нет.
***
Хочется писать сонеты,
Что-нибудь про арбалеты,
Соколиную охоту,
Соболиные меха.
И про крепостные стены,
За которыми царевна
Со старинным приворотом
Ожидает жениха.
И о доле, и о воле,
Осененных волчьим воем,
И крещенскою водою
Окропленных на века.
Поискать былую правду,
В славной битве на Непрядве,
Где под крестиком нательным
Сердца стук идет к нулю.
Старой сказки ветхий трепет
Зимнее окно залепит
Мокрым снегом и метелью,
Звезды белый свет прольют.
Косы расплетутся плавно,
И оплачет Ярославна
Навь и Явь на поле бранном
И последнее "люблю".
***
Москву замело. Обещают -20.
Нас оплакивает зима,
Воет в трубах железных протяжно,
Потерялся кораблик бумажный,
Зачерпнула воды корма.
Приглашает на эшафот,
Стелет снежную мантию кружев,
Собираясь опять равнодушно
Прерывать захудалый род.
Ледяные поля пусты,
Ждут рождения в царстве безликом,
Мы посадим там землянику
И сиреневые кусты.
***
И лампа будет над столом
под абажуром,
Сухим наполнится вином
Бокал ажурный.
Сведем кровавые следы
С души и формы,
Под шелест дождевой воды
Начнем повторно.
Поймем, что тот и этот свет
Непреходящи,
Что дым апрельских сигарет
Гораздо слаще.
Лишь смерть в реальности земной
Необратима,
Какое счастье, ты живой
И невредимый.
***
А ты закрой глаза и не смотри,
Как небо грозовое почернело,
Как кисти опаленные рябин
Сгибаются от ягод переспелых.
Как к самому крыльцу подходит сад
И аромат дождя приносит нежный,
Держи меня, держи меня в стократ
Сильнее, чем земля родная держит.
Планета ограничена, мой друг,
Обыденной возможностью проститься,
Ты слышишь этот неизбежный звук?
Так яблоки стучат по черепице.
***
Два тополя над домом склонены
И сыплют пухом нежным и воздушным,
Укрыв фасад в подпалинах желтушных,
Баюкая напуганные души,
Как будто тополя пришли с войны.
Вечерние дворы пока полны,
На бельевых веревках форму сушат,
Гоняют мяч, детей зовут на ужин,
И музыку из окон можно слушать,
И хочется добра и старины.
А старина растет из недр лесных,
Плывет над полем дудочкой пастушьей,
И век, как миг, пропущен и разрушен,
Эпоха погибает от удушья,
Растрачивая мертвых и живых.
***
Ночь спускалась, дрожала и пела,
Как невидимая органза,
Подводило предательски тело
На каких-нибудь полчаса.
Море высохло, лето сгорело,
Стыли мерзлые сосны в лесах,
И звезда, умирая, звенела
На каких-нибудь полчаса.
И кружилась метель, и ревела,
Закрывая собой небеса,
Я на целую жизнь постарела
За каких-нибудь полчаса.
И ветра, надрываясь устало,
В три погибели ветви согнут,
Я на целую жизнь опоздала
За каких-нибудь пять минут
***
Латунная луна чиста,
Орнамент кратеров остывших
Поёт о Будде и о Кришне,
Аллаха славит и Христа.
Квартал затих, в панельных снах
Ни серых крыш, ни спин сутулых,
Там под луною Гонолулу
Лежит в коралловых песках.
А он не видит ничего,
Вмерзает в лавку остановки,
Надвинув капюшон ветровки,
И остановка — не его.
Пейзаж постыл, сюжет не нов,
И холоден фонарь двурогий,
В груди теснятся некрологи
Из неотвеченных звонков.
И Божий свет вселяет страх,
И мокрый снег мгновенно тает,
И он практически не знает
О Гонолулу и песках.
***
Как провожают нынешних и бывших,
Касаются губами скул едва.
И молятся: храни его, Всевышний,
Молитвенные позабыв слова.
Так сладок сон, так тихо шепчут травы,
Пока молчит бесчувственная сталь,
Здесь нет уже и правых, и неправых,
А лишь глаза, смотревшие в февраль.
Он видит смерть, она идет по следу,
Кровавый дым к сухой земле приник,
А там, за ним, Туманность Андромеды
И волосы прекрасных Вероник.
Он станет снова маленьким и лишним,
Пополнит геометрию могил,
Поэтому люби его, Всевышний,
Пока небесный край крестами вышит,
Прими его, уже навечно, в тыл.
***
Так волшебно и совсем не страшно,
Стрелки на часах замедлят бег,
Будет мальчик в беленькой рубашке
Из окна смотреть на первый снег.
Нежным пухом ровно и упрямо
Он укроет дворик неспеша,
И обнимет молодая мама
Худенькие плечи малыша.
Светлый день морозною картиной
Выступит спасением из тьмы,
Хоть в пустой и маленькой гостиной
Нет уже ни мамы, ни зимы.
С Новым годом, камуфляж и вата,
С новым счастьем, ледяной блиндаж,
Ну а мальчик с новым автоматом
Ныне, присно и навеки наш.
И под елку с изумрудной тенью,
Сколько бы войны он ни прошел,
Бог ему положит сновиденья,
Все о том, что будет хорошо.
***
Играли в мячик, считали пальчики,
Как сон дурной - на передовой,
Они опять превратились в мальчиков,
Которых мамы зовут домой.
За поколением неудачников
Стоит глухая стена лжецов,
Еще родите, ну хватит, не плачьте так,
Бывает часто, в конце концов.
А над окопами одуванчики
И неба солнечного отрез,
Не оглянувшись уходят мальчики,
Куда... как мученики, на крест.
***
Ты представляешь своего ребенка,
Где под завалом пыль еще дрожит,
И к небу улетает лучик тонкий
Его неоперившейся души.
И с облаком луна играет в прятки,
Твой дом в порядке, крепче, чем гранит,
Но страх на части комнаты дробит,
Ты в спальне наклонишься над кроваткой,
Вздохнув свободно, слава Богу, спит.
***
Удержишь в горсти синеву,
И лето покажется снова
Стихийным молитвенным словом,
Как будто спустилась Мадонна
С небес в луговую траву.
И скажешь ему одному,
Что лето не станет последним,
Что спит в колыбели наследник,
И ниточка с крестиком медным
Его бережет наяву.
Июль прогревает листву,
Взлетает младенческий голос
В открытый Гагаринский космос,
И вечность в ромашках по пояс
Недвижно стоит на ветру.
Наталья Шухно https://vk.com/natkashu
_________________________________
171782
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 15.01.2025, 22:55 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 19.01.2025, 09:13 | Сообщение # 2897 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Когда асфальт зализанный дождём
Становится небесным отраженьем,
Я думаю всерьёз, зачем рождён,
Чему служить я должен продолженьем.
Найти ответ безумно тяжело,
(Чего бы мудрецы ни говори там)
Как бабочке, что бьётся о стекло,
Не видя рядом форточки открытой.
Но, оглушённый тишиной ночей,
Боюсь я иногда случайной мысли:
А если вдруг я…просто… ни зачем…
Свидетелем чужой великой жизни.
Свет фонарей не согревает рук,
И намертво застыв в оконной раме,
Холодный, как могила, Петербург
Гудит самодержавными ветрами.
***
Чужая свадьба… Платья белый снег.
За прелесть молодую грех не выпить.
Глаза невесты – лошади в огне –
Беснуются и тащат на погибель.
Невеста от «не ведает греха»,
А кто изведал – «ведьма», не иначе.
Но мне ль её за нежность попрекать,
Доверенную в страсти, без отдачи.
Былой любви уже не повторить.
Кого ни встреть – пародия и только.
Горланил я, переходя на крик,
Гостям и сердцу ноющему: «Горько!»
Изрядно захмелев, глуша портвейн,
Я еле шёл, катился прочь, как камень.
А небо целовало лбы церквей
Холодными багровыми губами.
***
Жизнь моя - сплошная скука:
Бренный труд...бетонный кров...
Я не видел остров Кука
И Карибских островов.
Не катался по Аляске
На собаках ездовых,
И не выдохся от пляски
На Мадридских мостовых.
Озорную бразильянку
Не затаскивал в кровать...
На работу спозаранку
Так не хочется вставать.
Ждать обшарпанный автобус,
Что колесами пыля,
Крутит их, как грязный глобус,
По орбите бытия.
В запотевшее оконце
В полумраке не видны:
Ни египетское солнце,
Ни индийские слоны,
Ни цветов предгорных стебли,
Ни вершины Пириней...
Словно я не трогал Землю,
Будто и не жил на ней.
Робкий сон - мой верный компас
Серой будничной поры.
Крутит старенький автобус
Заржавевшие миры.
***
Век мой "каменный"... "дремучий"...
Я за то тебя люблю,
Что среди сердец беззвучных
Сам с собою говорю.
Ни от мира этот говор,
Ни от века этот глас,
Ни для разума, в котором
Божий свет давно погас.
***
Стареют женщины...стареют...
Девчонки, девушки твои,
С кем юность - сказочная фея
Свершала таинства любви.
С кем до утра тебе хотелось
Бродить в осколках темноты,
И отыскав задор и смелость,
Душой напиться красоты.
Чего нам сплетни, пересуды.
Ворчанью мира грош цена...
Стареют гордые сосуды
Для драгоценного вина.
И в каждой встреченной морщине,
Я вижу - чувствую внутри -
Укор любимому мужчине
За окончание любви.
Послать бы эту старость к чёрту...
И кануть вновь в мечтаний дым.
В глазах приветливых девчонок
Оставшись вечно молодым...
Воспоминания не греют
И не зовут уж так назад...
Стареют женщины... стареют...
А нам им нечего сказать
***
Жизнь – не теплый автобус,
Не кафе у пруда,–
Одноразовый пропуск
В Министерство труда.
Жизнь – не вафли вприкуску
И не школьный урок,–
Водворенье в кутузку
На неведомый срок.
Ночь привычно и смело
В ярком свете реклам
Черной бабочкой села
На ладони стекла.
Словно злясь на прошедший
День, что сгинул давно,
Жалят белые шершни
Неживое окно.
***
Погас фонарь… и кажется – чего там?
Перегорел сияющий вольфрам.
Но стало неуютно пешеходам
По темноте идти к своим домам.
Он столько лет им освещал дорогу
И в дождь и в снег, роняя яркий свет,
И заплутавшим приходил в подмогу,
В слепой ночи указывая след.
Но вдруг, не замечаемый годами,
Погас… и сразу вспомнили о нём,
Склонявшемся случайной встречной даме
Светящим джентльменом – фонарём.
И хоть на миг, на краткое мгновение
Мир стал другим от алчной темноты,
Как будто замер в призрачном падении
Сорвавшейся в беспамятство звезды.
Как страшен час вселенского забвения…
Он ждёт нас всех – кто светит и горит.
Пусть тьма вокруг, но если видно тени,
То значит, есть над мраком фонари.
***
Я видел небо, ржавое от молний…
Большая туча чёрная, как танк,
Затмила свет и растоптала полдень,
И ливнем прокатилась по цветам.
Весь мир вокруг был как трава под камнем,
Расплющен опрокинутой грозой,
И лишь осины тощими руками
Сдержать пытались небо над собой.
И я упал – обрушился на землю
Не как солдат, а как метеорит,
Несущий в сердце ненависть вселенной,
Что, вырвавшись, весь мир испепелит.
Гремело небо, ржавое от молний.
Невиданный пожар вставал стеной…
А я лежал, и крепко землю обнял,
В расцвете лет раздавленный войной.
***
Я молча сяду на ступени
Крыльца, облезшего слегка –
Как будто внуком – на колени
Большого дома-старика.
Меня, как малого ребёнка
С любовью приютит старик
И скрипом половиц в потёмках
Со мною вдруг заговорит.
Он мне поведает о многом,
Печалей старых не тая,
Как вдаль смотря глазами окон,
Он столько лет прождал меня.
А я бродил по белу свету,
Не зная истины простой,
Что в мире больше счастья нету,
Чем возвращение домой.
Большая старая ограда, –
Как детства вырванный кусок.
Забор… Дощатая заплата,
В ней – два гвоздя наискосок.
И всё, что в сердце было живо,
С усадьбой той наедине
Затрепетало, закружило
И успокоилось во мне.
***
Из далеких крестьянских губерний,
От мятежного мира вдали,
Вы пришли на Сибирскую землю,
Вольнодумные предки мои.
Изможденные гладом и мором,
Отвергавшие барскую плеть,
Предпочли на таежных просторах
Жить свободными и умереть.
На бескрайних делянках Отчизны,
В совершенстве владев ремеслом,
Вы рубили сараи и избы,
Обживая село за селом.
Породнившись и с каторжным людом,
И с ватагой казацких кровей,
От морозов нещадных и лютых
Становились вы только сильней.
Все трудились без поводов праздных,
Каждый с детства приучен к труду.
Вы стреляли и в белых, и в красных,
И друг в друга в двадцатом году.
Били зверя, косили, пахали,
А в тяжелый момент для страны
Вами дыры легко затыкали
В решете обороны Москвы.
Эх, мои бесшабашные предки!
Каждый истинный был сибиряк,
Отличавшийся удалью редкой
И в труде, и в тяжелых боях.
Много красочных мест в нашем мире,
Но чем старше, тем всё же верней
Я горжусь, что родился в Сибири…
Я потомок тех сильных людей.
***
Мой прадед после Финской
Вернулся без руки,
Но с волей исполинской
Жил, бедам вопреки.
Работы не оставил.
Владея ремеслом,
Срубил он и поставил
Большой крестьянский дом.
Все удивлялись люди:
Смотри -одна рука,
А посильнее будет
Любого мужика.
В любое время года,
В пример для остальных,
Упорно он работал,
Как будто за двоих.
И мужественным видом
Был землякам знаком.
Он был не инвалидом,
А русским мужиком.
Защитником, опорой
И в мире, и в войне.
Героем, без которых
Не уцелеть стране.
***
Ни о чем не жалей...
Красота, как цыганское золото.
Лишь проверишь его
И поймёшь, что желал не того...
Нет таких лошадей,
На которых догнать можно молодость,
На которых легко
Ускакать от себя самого.
Как лиха и быстра
Жизнь земная -
Цыганочка вольная.
Сбросит юбку с ноги,
За собой заурядно маня...
Нет такого костра,
Что согрел бы
Весь мир обездоленный.
Нет туманов таких,
Чтобы спрятать всю скорбь бытия.
Кочевая душа,
Для чего тебе бредить погонями?
Нет дороги такой,
Где бы ты не прошла босиком...
Только годы спешат
К водопою сокрытыми конями,
И несут за собой
Пыльный шлейф одиноких стихов.
***
Весна в селе… Распаханы поля.
Янтарный плуг прошёл по ним лучами.
Взлетает к небу рыхлая земля
Испуганными чёрными грачами.
Весёлый май преображает лес.
Душа тайги в истоме обновления.
И первый гром срывается с небес,
Как с уст лобзаний первые стремления.
Повсюду жизнь… Благая суета,
И нежится томительное солнце
На маковке церковной и крестах,
Заглядывая в редкие оконца.
Пожаром белым на ветру горят
Черёмухи протянутые руки.
И верится, что нет ни сентября,
Ни осени, ни смерти, ни разлуки.
***
Утро ещё далеко,
Месяц беспечно дремлет.
Чёрное молоко
Вылито над деревней.
Звёзды, сродни пшену,
Сыплются на дорогу.
Слушая тишину,
Можно услышать бога.
Сонные рыбаки
Тянут безвольный невод.
Здорово спать у реки
И укрываться небом.
Видеть во сне как легко
Утро в рассветной гамме
Чёрное молоко
Алыми пьёт губами.
***
Над таежными лесами
Дремлет утренний туман.
Чашу неба пьют глазами
Деревенские дома.
Над зарёй умытым полем,
В блеске солнечных подков,
Бродят сказочные кони
Белогривых облаков.
Солнцу и природе внемля,
Тихо, верно, не спеша,
Просыпается деревня –
Работящая душа.
Оживает и хлопочет
Спозаранку по дворам.
И с весёлостью сорочьей
Греет брюхо тракторам.
***
Спозаранку травы лягут
Мне ковром под сапоги.
Наберу в шапчонку ягод –
Дивных родинок тайги.
Солнце рыжие веснушки
Рассыпает в лес грибной.
Не волнуйся так, волнушка,
Я пришёл не за тобой.
Я под каждый куст залезу
С невесомым рюкзаком,
Разговаривая с лесом,
Как с весёлым стариком.
Для того и встал я рано
(Хоть и подвиг не велик) –
Видеть родинки урмана
На живых руках земли.
***
Сам глазам своим не веря,
На окраине леска
Я в упор глядел на зверя,
И тропу что так узка.
Первый раз меня встречала
Своенравная тайга
Не грибами, а волчарой
Из густого сосняка.
Взятый ножик перочинный -
Не защита от клыков,
Что расправятся бесчинно
И с коровой, и с быком.
Сколько трепета в мальчонке,
Сколько слабости в ногах…
Хищник тоже был волчонком,
Помня безоружный страх.
Не поэтому ль так просто
Он ушёл, как от флажка,
Не оскалившийся грозно,
Не подсевший для прыжка.
Но в неспешном том побеге
Разглядел впервые я
Силу жизни в человеке,
И покорность бытия.
***
Большое пламенное небо
Ветров оборванный псалом.
Краюхой высохшего хлеба
Грустит дорога за селом.
Лесок, ушедший на растопку,
Пеньком встречает солнце дня,
Подобно пьянице со стопкой,
Что поминает сам себя...
***
День летний рыжею лисицей
За огородами исчез.
Заката раненая птица
Упала в сумеречный лес.
Во мгле сохатые деревья
Подняли небо на рога.
И тайно смотрит на деревню
Тысячеокая тайга.
***
За жизни красочным фасадом,
За смерти сломанным крыльцом,
Я стану яблоневым садом,
И погружусь в зелёный сон.
Пусть снова ветреная дама,
Забыв про прежний свой просчёт,
Протянет яблоко Адаму,
И снова он его возьмёт.
Пусть хулиганящие детки,
Перемахнув через забор,
Сорвав плоды, сломают ветки,
Под неприличный разговор.
А может, люди и не спросят
Про зеленеющий уют,
И грубо пустят под бульдозер
Печаль цветущую мою.
Я ни о чём не пожалею
В нагом ноябрьском бреду.
Отдав земле всё, что имею,
В безвестность снежную уйду.
Воскресший после семенами
В апрельском солнечном тепле,
И приколоченный цветами
К живой оттаявшей земле.
***
За окном первый снег
Учит важному:
Он живёт ради всех
И для каждого.
Покрывая и грязь,
И распутицу,
Тёмно-серую бязь
Спящей улицы.
Бескорыстный полёт
Иль воззвание?
Снег идёт и идёт
На заклание.
Как небесное просо
Не вовремя...
Как застывшие слёзы
Безмолвия.
***
Когда зима нечаянно приходит
И светлой шалью покрывает лес,
Плывёт земля, как белый пароходик,
По голубому мареву небес.
Десятки труб из домиков картинных
Пускают в небо плавные дымы,
И хлопья снега в тёплые квартиры
Стучатся, как посланники зимы.
Сиреневая бездна нависает
Над проторённой к речке колеёй,
И тропка белоснежная лесная
Ползёт в тайгу виляющей змеёй.
Янтарным ожерельем ярких окон
Бревенчатые тянутся дома,
И целый мир – как будто белый кокон,
В который всех укутала зима.
***
Притомился пить вино
С водкой Пашка Гребнев.
Выйти захотел в окно...
Правда, жил в деревне.
Повалялся... Еле встал.
И решил, как ветер,
Кинуть жизнь под самосвал,
Но его не встретил.
Пашке горе не беда -
Ринулся топиться,
Только скрыта коркой льда
На реке водица.
Он поплёлся в магазин,
Чтоб напиться вусмерть.
А ему там: "Не проси...
Водки не отпустим!"
И побрёл он, обречён
На мирские "дебри"...
Чтоб он делал, дурачок,
Без своей деревни?
***
Морозный вечер... Над домами
Стоят от труб до самых звёзд
Дымы белёсыми столбами,
Как души спиленных берёз.
Идя огню на поклонение,
И тая в гибельном дымке,
Поют сплочённые поленья
Печальным треском о тайге.
***
Говорю о тишине,
О таёжной дали,
Чтоб когда-то обо мне
И они сказали.
Пусть я выветрюсь совсем,
Растворюсь в эпохе.
Стану церковью без стен
На пустой дороге.
Не сыграю... не спою,
Как строкой печальной
Верил в Родину свою
И её молчание.
***
Умчался день мальчишкой конопатым, –
Домой его никак не заволочь.
Рябиновые ягоды заката
Вороной чёрной склёвывает ночь.
Как будто бы согбенные старушки,
Глядя слепыми окнами на лес,
К земле прижались ветхие избушки,
Придавленные маревом небес.
Тайга угрюма, сумрачна и сонна.
Благую тишь не вычерпать ведром.
Свинцовой шали звёздные узоры
Утюжит в речке маленький паром…
И не унять душевную истому,
Священный зов таинственной земли.
И глохнет мир, чтоб слышать эхо грома
За сотни вёрст от родины вдали.
***
Любимый край, прошу не умирай!
Не умирайте ветхие деревни...
Как дикий зверь от огнестрельных ран,
От рук людей - духовного отребья.
Что разделили загодя трофей
И без стыда освоили добычу.
Горланил зверь, сопротивлялся зверь...
Но доверял овечьему обличью.
Живи в веках, хоть в памяти живи,
Забытый край - заброшенные избы.
Таёжный храм на каторжной крови -
Последнее прибежище Отчизны.
Тебя распнут... как некогда Христа,
Не чувствуя народной катастрофы.
В гнилых столбах - подобиях креста
Крестьянский путь на Русскую Голгофу.
Лишь век свой человеческий живя,
Любя, как мать, свою родную землю,
Как хорошо, что не увижу я
Последних дней затравленной деревни.
***
Подняв фуфайки ворот,
Деревня едет в город.
Бегут - и стар, и молод
От прежнего житья.
Дают приют вокзалы,
Заводы и базары,
Сбежавшим "колхозанам",
Таким же, как и я.
Простые разговоры
Обрушились на город -
Сибиряки, Поморы,
Уральцы и Донцы.
Как будто в драке скорой,
Живот Руси распорот,
И вывалились хором
Наружу огольцы.
Сбегая из утробы
По незнакомым тропам,
Чтоб городские пробки
Заполонить скорей.
И позабыть навеки
Леса,поля и реки,
И всё,что в человеке
От Родины своей.
Щитов Иван Григорьевич https://stihi.ru/avtor/shcitovivan25
________________________________________________
171984
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 19.01.2025, 09:15 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 26.01.2025, 13:38 | Сообщение # 2898 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Я тюбик задушил, и вышли буквы,
Пишу начало осени без клюквы,
Щекой поранив дачное стекло.
Сентябрь наступил и потекло...
Дожди звенят, как у поэта медь
В кармане правом. Упраздняя смерть,
Забыв о безопасном ветродуве,
Несутся птицы. Нимб у каждой в клюве,
Как знак того, что бесполезна клеть.
Горит над каждой птицей птичий ангел,
Деревья, как господние фаланги -
Венозных гнёзд мотель, приют, умёт.
Никто из птиц, как видно, не умрёт,
Не захлебнётся в этой синей пряже,
Лишь сердце уронив, что воск свечной,
За океаном вспыхнет фюзеляжем,
С радаров исчезая в час ночной.
И африканский мальчик, верный Чаду,
Из доброй фирмы «Хам и сыновья»,
Вдруг ртом поймает перья соловья
И выдаст из «Онегина» тираду.
Сегодня праздник опустевших гнёзд!
Как Фирс из пьесы, красноклювый клёст
Один в лесу устраивал поминки,
Игла на поцарапанной пластинке
Нащупала Шопена и шипит.
Крадётся вор печален и небрит.
Влезает на террасу дачи старой,
Там, где портрет Высоцкого с гитарой,
Буфет, плита, две рюмки на столе,
А дом скрипит, в другом его крыле
Заснул поэт на крыльях опаленных,
Во сне он видит отсвет глаз зелёных,
Единственных на призрачной земле.
И птицы за апрель выходят замуж
Им возвращаться под Москву пора уж,
У каждой в клюве белое кольцо,
Они летят, и светится лицо...
Таков сентябрь. Два одиноких друга -
Поэт и вор отходят от испуга,
Они разлили в чашки кислый брют
И дождик в собутыльники зовут.
***
А у Родины кружится голова.
Она в нижнем белье стоит.
***
Есенин
Слава твоя
Почти сравнима
Со славой дождя и снега,
Со славой вещего Серафима
Или Олега!
Ты такое выбил тату
На русской душе,
Что горько от слов во рту
Больше ста лет уже.
Женщин с воплем победным
Превращал ты в своё ребро,
И не можешь быть медным,
Ибо суть твоя - серебро.
Сам себя ты купал в молоке,
Посылая к вселенской маме!
На венчание в церковь
Явился с розой в руке
И жабой в кармане!
И ещё, чародей!
Еще божественный
психопат!
Мы давно догадались,
Чьих рук и дел
Этот сегодняшний
листопад.
***
Рыбу ловят на хлеб,
человека на деньги и душу.
***
Священник отец Октябрь
Сегодня встречается с паствой:
«Северный ветер,
здравствуй!
Клёну, что был на посту,
Отпускаю теперь листву!
А тебе, вот, речка,
От меня на палец колечко!
Обручаю тебя со льдом,
Ибо это теперь твой дом!
Мимо аспида и василиска,
Мимо счастья и мимо горя,
Отнеси с именами записки
К самому синему морю!
Записки о нашей столице,
Дымящейся, Бога ради,
Об Волге отроковице,
О болящем
Санкт-Ленинграде,
Хранящем блокадный молитвослов.
О курском посёлке,
Где звёзд упавших осколки
Посекли людей и коров.
О яблоках Евы в ведерках
на пыльной трассе,
О Донбассе,
еще о Донбассе,
Опять о Донбассе…
О здравье того, кто
держит в руках поводья!
С днем рожденья, Володя.»
И ветер поёт.
Он всю осень в себя вмещает.
И плещется в речке йод,
И о.Октябрь
их причащает...
А я впервые вставляю
второе стекло
в оконце.
У меня именины.
Дровами
кормлю
камин.
И смотрю,
как на всё
снисходительно
смотрит Солнце.
Аминь.
***
На небе Бог, а на Земле Россия,
Жаль лестницу мы продали в Китай.
***
Когда завершится
над миром опека,
И времени
высохнет хлеб,
Из первого снега
слепи человека,
Да так, чтобы
он не ослеп.
Пусть носит глаза,
Как опасную бритву,
И старых не помнит
рубах.
Петух топору
произносит
молитву,
А в зеркале
женщины пах.
В считалочку осенью
верят цыплята,
Одна у них память
на всех.
Стихи - это
детского лепета
плата
За смертный
молчания грех.
Октябрь в любви
признается корове,
Над сеном
расправив покров.
Мы все состоим
из снежинок и крови,
Из крови, снежинок
и слов.
Нам машут из облака
Блок и Сенека,
Волшебный вдыхая азот.
Мы все состоим
из поступков
и снега,
Он наши шаги
заметет.
***
Мы - кукушата сломанной Державы
***
Соловьи зимуют на Филиппинах.
Мы, как они не споём.
Зато останемся при рябинах
И при своём.
Будем солнце в пятнах
под свитер прятать
Всякой порой глухой.
И в стекло превращая
у дома слякоть,
Потчевать печь ольхой.
Так спина ребёнка
болит от банок,
Но зато он сам уже
стал дышать,
А собака ходит
на полустанок,
Чтоб не жить,
а ждать.
Что, дружок,
они о России знают,
Упорхнув с болот?
Здесь солдат по осени
посчитают,
Да и снег пойдёт.
Здесь врагов спасают,
упавших в яму,
Опускаясь в ад.
Здесь в окошко
вставят вторую раму,
Так и смерть проспят.
***
Но Пасху ждут на шпиле МГУ
Скворец и ангел.
***
Журавль-колодец, полети на юг,
Где смог бы ты на иволге жениться,
И где теперь меня не узнают
Другие птицы.
Я осенью на свадьбу опоздал.
За это предъявляю чек к оплате.
А из колодца днём видна звезда
В зеленом платье.
Я пить хочу! Налей мне неба в рот!
На первый снег в лесу лисица лает.
Клюв журавля вмерзает в спелый лёд.
С ведром на голове Луна
летает.
***
Мы закрасили кровью колосья ржи,
А на вас проливаются реки лжи.
***
По веселой зелёной земле
Мы летели вперёд, ради Бога.
Потерялась дорога во мгле,
Потерялась дорога!
И помятого солнца овал
В сизой мгле растворился.
Были те, кто на землю плевал,
Были те, кто зарылся.
Кто-то бил по земле кулаком,
Кто-то спал-не проснулся.
Кто-то прочь полетел кувырком,
От земли оттолкнутся.
Что же делать,
когда накатила беда
И душа перепугана,
птица?
И мы за руки взяться
решили тогда,
Чтобы вниз не скатиться!
И дорога, как тайна открылась сама,
Распахнулась ответом:
Это просто такая
отпущена тьма
Перед русским
рассветом!
***
Нынче Родина вся - дом Павлова
И за Волгою нет земли.
***
Штирлиц зашторил окна, придвинул радио.
Правда, теперь страна у него украдена.
Да и жена не приехала на свидание.
Но все равно из центра
он ждёт задания.
Бедный герой...
настоящая жизнь оборвана.
Время моргает с экрана глазами Бормана.
Нет ни шпионов,
ни летчиков-истребителей.
Все понарошку в кластере потребителей.
Солнце куда-то
катится в пыльном облаке,
Дети глядят в айфоны,
как будто в гробики.
Нет ни любви, ни правды,
ни сострадания.
Штирлиц не верит в это.
Он ждёт задания.
***
Только русскую мне
раскорябай мечту,
Кровоточила чтоб между строк.
***
Я прошу об одном всего лишь,
Признавая свою вину:
То, что можно сделать сегодня,
Не откладывай на весну!
Чтобы ночью на перекличке,
На осеннем сыром плацу
Загорелись глаза от спички,
Поднесённой тобой к лицу.
И тогда мы успеем к маю
Белый свет запустить в дома.
Ты исполнишь. Я знаю, знаю.
Будет в помощь зима, зима.
Пересёк у реки границу
Новой осени инженер.
Аплодируют Богу птицы,
Оставляя Москвы партер.
И паломникам, сбитым с толку,
Перед первым пора снежком
В стоге сена найти иголку,
«Отче наш» прошептать в ушко.
Нет ни жалости, ни печали,
Просто вспомнилось про любовь:
Как мы в очередь все вставали
И на юность сдавали кровь,
Целовали солдат медсестры
Заносили солдат в журнал,
И сентябрьский воздух острый
Всех до истины пробирал.
И во времени лучезарном
Пели первые петухи.
Шёл Христос по пустым казармам,
А дежурный писал стихи.
***
И ты, и я, мы все теперь в ответе,
За посеченный русский город-сад.
И не хлебнув по полной
сорок третий,
Ты сорок пятый не увидишь, брат.
***
За столетие до финала,
Заглянув в ледяную даль,
Человечество закопало
Данный богом ему рояль.
Вместо масок надев улыбки,
И привычно бродя по дну,
Мы посыпали пеплом скрипки,
Но молитву твердим одну:
Обесточь уже пилораму,
И туманом зашторь простор!
Мир так хочет обратно в маму,
В золотистый свой физраствор.
Чтоб размокнуть травою в чане,
Соскоблив всех догадок блеск.
Чтоб не слово, а лишь урчанье
Или только от вёсел плеск.
Он весны исчерпал запасы,
Наш до-после-военный мир.
И оплыл, как кусок пластмассы,
Цифровой потребляя жир.
Превратили мы в камни ноты,
Разбросали их по земле.
И спасаемся от икоты,
Завершая парад-алле.
Только, Господи, скоро-скоро,
Обожженный твоей весной,
Я уйду, я сбегу из хора,
Чтобы голос подать иной:
Мой единственный композитор -
Ветер, ветер! Гуляй, реви!
Я прильну к тебе, так чтоб свитер
Загорелся вдруг от любви
На московском асфальте прямо,
В переулках среди колец.
Чтобы вновь волноваться, мама,
Отдаляя любой конец.
***
Где у шоссе в поспешной серебрянке
Цветов не ждёт солдатский монумент.
***
Солдатик запеленут,
как ребёнок.
Лежит без барабанных перепонок
И слышит мамкин голос молодой:
«Смотри, сыночек,
сколько нынче снега!
В сугроб мальчишки
прыгают с разбега!
А мы пойдём с тобою
за водой!»
Поэт московский все
опишет смело:
«Солдат в раю.
Его встречает Бог!»
На деле же
- снаряд
разрезал бок,
Бездомные собаки
вгрызлись в тело,
И серый снег с мазутом пополам
Ему последний дом, последний храм,
Последнее
солдатское причастье…
А на дорожном знаке
слово «Счастье»,
Зачеркнуто
и стёрто по краям.
***
Это Ангелы Сталинграда
Рубят новых чертей со свастикой!
***
Музыканты из области сердца
Помешались на баховском скерцо.
И лежит человечек ничком,
А Господь его пилит смычком.
Так играет вода на ведре,
Или Троицу пишет Андрей….
Так рождаются краски навечно.
Где желток, где слеза человечья?
Видишь, в небе звезда над тобой
Изнывает от боли зубной?
Она может исчезнуть сейчас!
Приложи же к ней яблоки глаз!
Человечек заплаканный, голый,
Он сырые рождает глаголы
Про любовь, про войну, про жену:
«Что посеял я, то и пожну…»
Мы живем от разлуки к разлуке,
В пальцах женщины властные звуки.
Перед ними мы мальчики все.
Так цветок доверяет осе.
Чтобы нежно сказать о жестоком,
Ты играешь и бьешь
меня током,
Совмещая без мыслей и слов
Скрипки наших намокших голов.
Так вода превращается в рыбах
В сталь рыбацкого вдруг острия.
И надтреснутый лак на изгибах,
Будто синяя венка твоя!
Мимо нас,
мимо нот,
мимо света
Смерть проходит в гитару одета,
Но струны на ней нет и одной,
Вроде утки она подсадной…
Кто-то клюнет
и слуха лишится,
Кто-то музыки выпьет до дна.
Видишь в небе звезда копошится?
Занимается смерть джиу джитсу,
Но подножку ей ставит весна.
***
А ты в своём камуфляже…
Представитель племени Майа.
Группа крови -
Девятое мая.
***
А как по первой струне Владимира
Зеки шли во тьме до Владимира.
И Владимир их всех утешил,
Даже сам конвойный опешил!
А по второй струне нерасстроенной
Взвод солдат стоял, в ряд построенный.
Петь про землю солдаты
стали -
Капитану майора дали!
А по третьей струне, по струночке
Шёл Есенин Сергей
по улочке:
Столько неба в глазах печальных,
Чтобы чаще Господь
замечал их!
А на четвёртой струне непорванной
Жил монах
из церквушки взорванной.
И монах молчал,
и Владимир.
Тишина, будто город вымер.
А как на пятой струне
на бронзовой
Все влюблённые
в дымке розовой…
Зачинали в апреле мальчиков,
В январе чтоб рожать их начали.
А шестая струна Семеныча
Пахла морем с утра и до ночи,
Альбатросы на ней качались,
Звуки низкие получались.
А седьмая струна была тайною.
Это знали Марина с Танею.
Эта тайна - не ваше дело.
До небес она,
До предела.
***
Мы были летним воском, а теперь
Грибницей свечек встали у иконы
***
Я в госпиталь другу принёс удлинитель,
И в руку вложил, а обратный конец
К себе подтянул его Ангел-Хранитель,
Куда-то в небесный дворец.
И друг удивился оконному блику,
Ростовского неба увидел пробел,
Подметил упавшей звезды землянику
И ветер на завтрак поел.
Мы с доктором выпили
спирта под сайру,
Тот кашлял, снимая очки:
«Давай, чтоб не срезала провод Косая!
Она ведь коварна, учти!»
И крестик латунный потрогав украдкой,
Добавил: «Давай без обид:
Мы здесь твой шнурок зафиксируем, братка,
А там пусть Господь
закрепит!»
Погода опять становилась капризней.
Пора по вертушкам, взлетим и начнём.
И линия ЛЭП, будто линия жизни
Терялась в тумане речном.
***
Вам труднее, потомки, в засаде дней.
Наша битва с врагами была честней.
***
У Родины слева болит внизу.
Туда ей бинты и стихи везу.
Там два миллиона
солдатских глаз
Блестят в темноте
и глядят на нас.
Там женщины носят
под сердцем свет
И молятся мальчикам
бритым вслед.
Там рая осколки
Лежат в лесополке,
Там белой берёзы вдоль
поля бредёт скелет.
Вы просили красивую
песню про наши дни?
Я бы спел ее, только
вот горло опять саднит.
Я б сыграл, да внутри
у гитары в крови бинты.
И танцоры без ног,
Не получится красоты.
Оторвались две буквы
от слова «Победа», брат.
Тридцать лет мы катились
в рай, а попали в ад.
Но привычка у нас
в ресторанах сидеть в аду
И на Первом смотреть
по пятницам какаду.
СВО не хотят
вспоминать в глубине элит,
Потому что
от этого портится аппетит;
И Христос не гвоздями
прибит у них ко кресту,
А посажён на клей
(ювелир блюдёт красоту).
Так хотели мы мира классного,
О морских мечтали барашках!
Но чем меньше на флаге красного,
Тем больше красного
на рубашках.
Знай, имеет любая
война четырёх сестёр.
Если вместе они запоют,
Будет страшный хор.
Зовут первую Ложь
У неё белозубый рот,
И прекрасны слова,
только все она,
стерва, врёт.
А вторую Нажива,
мой милый, зовут как раз.
И чем больше убитых,
Тем слаще ее оргазм.
Кровь солдатская ей,
как сельтерская вода.
Кому гроб,
кому слиток золота,
господа.
Ну, а третью сестру зовут
по простому Грязь
Она всех перемажет,
чтоб с миром ослабла связь.
И чем чище молитва, чем искреннее стихи,
Тем грубее пометят дверей твоих косяки.
Справедливость зовут четвёртую и она,
Говорят появляется вовремя,
как волна,
Как весна, как звезда надежды
из темноты.
Но пока ее днём
не найти и с огнём арты.
Средь цветов полевых и крокусов
Отличить бы любовь от фокусов.
Привязать амулет к укосине
И солдат посчитать
по осени.
Чтобы целы и невредимы
Были те вот и твой, родимый.
Я поеду туда,
где у Родины срезан бок,
Где ещё далека Победа,
Но близок Бог.
Где качается время мирное
на весах,
Я стихами бинтую
порезы на небесах.
***
Спецназ чувашский в ночь ушел колонной.
В двенадцать тридцать завязался бой.
В Москве провел Сережка с Малой Бронной
Корпоратив для Витьки с Моховой.
***
по телевизору во сне
в стране потерянной напрасно
Шукшин
крестил нас
на Шексне
калиной красной
Егорки мы
Емели мы
стоим у проруби
на речке
мы федерация зимы
в остывшей печке
в скелетах
северных церквей
синиц на всех
усопших хватит
и ни Толстой
ни Стефан Цвейг
здесь не прокатят
в чужой хрущевке
Над плитой
Зависла
рыжая девчонка
чтобы афганской
наркотой
Отметить
вылет
Башлачева
Бал правят
мальчики в серьгах
Что рвутся к старости
без пауз
А в караоке
олигарх
Привычно рвёт
высоцкий парус
Кто по гробы
уходит в лес
А кто в тик-ток
чтобы раздеться
С водою
выплеснул прогресс
Христа-младенца
Печальна музыка лопат
Под мандельштамовой сосною
Считают осенью цыплят
Солдат весною
Но все равно, не все равно
Зима и Родина - медсёстры
И забинтованное дно
Нас отрезвляет
болью острой
И как Емели на печи
Летящей вдаль по щучьей воле
Мы уповаем на лучи
Рубцовской звёздочки
над полем.
***
Зима цитировала снег
И пить просила.
***
Чай наш крепко заварен.
Вечен звёзд хоровод -
Пушкин, Толстой, Гагарин
Двинули время вперед.
Сильнее любых орудий
С распахнутой дверью дом.
Россия - широкие люди,
Идущие узким путём.
Кисти достойны рублевской,
Есенина светлых слов -
Жуков и Циалковский,
Курчатов и Королёв.
На духовном Олимпе
Рядом с небом большим
Скобелев и Столыпин,
Шолохов и Шукшин.
Тех маяков-колоссов
Не сосчитать вовек:
Глинка и Ломоносов!
Будущий имярек!
Средь небесных просторов
Светлый воинский ряд:
Здесь Донской и Суворов
Рядом с Невским стоят!
Сердце выше обиды.
У основы основ -
Шостакович, Свиридов,
Павлов и Пирогов.
Вечно от перегрузки
Стрелки часов скрипят.
Вертится глобус русский!
Люди в домах не спят.
Встали на снег покровский,
Чтоб победить врагов
Конев и Рокоссовский,
Карбышев и Чуйков!
Это наша дорога
Среди звезд и крестов:
Достоевский и Гоголь,
Менделеев, Попов.
Сквозь туман петроградский,
Всем дождям вопреки,
Видел в небе Вернадский
Русские Маяки!
В каждой секунде - веха.
Ставни открой, а там
Станиславский и Чехов,
Тютчев и Мандельштам
Небо в руках держали
Чтоб человек не спал,
Лермонтов и Державин,
Дягилев и Шагал.
С нами Иосиф Бродский,
Левитан и Серов!
Пастернак и Высоцкий,
Шухов и Васнецов!
Память утроит силы.
Звезды горят во мгле.
Это и есть Россия
В небе и на земле!
Владивосток и Выборг,
Грозный и Таганрог...
Россия сделала выбор.
И этот выбор - Бог!
Новосибирск и Тула,
Керчь и Калининград!
Космос дрожит от гула:
Наши ветра звенят!
Облака дождевые
Вымоют небосвод.
Павшие и живые -
Это один народ.
Самый главный сильный
Самый живой герой -
Это народ России
Он ее рулевой.
Людям небо по росту
В нашей русской орде.
Севастополь-Апостол
Все идёт по воде.
В космос открыты ставни!
Все мы - ловцы идей.
Наше время настало -
Время новых людей!
***
Носи, как маленькую икону,
Горящую сквозь века,
Медаль на ленте
«ЗА ОБОРОНУ
РУССКОГО ЯЗЫКА».
И кто б не значился на обложке,
Упасть не старайся ниц.
Корми кириллицей
с чайной ложки
Детей и поющих птиц.
Пусть припадают к бортам моллюски,
Услышав чужую речь.
А в плен возьмут -
ты молчи по-русски,
Чтоб шапки врагов поджечь.
Пусть время колется
злей и горше,
Теперь до Победы стой
За Дальний Восток!
за Донецк!
За Оршу!
За русский язык родной!
***
Отпускаю вам ваши стихи,
Силой данной от Александра,
Упавшего в снежные мхи
У Чёрной реки
возле белого сада
***
Так Хлебников
в солнечных пятнах
искал себе тень,
Так семенем
ржавым Есенин
зачал Пугачева.
***
Чтоб не гипсовый
Пушкин с купюры глядел,
А кричал его словом
Христос!
***
- Нужно всего немножечко
Впавшему в детство народу:
Приди, принеси в мельхиоровой ложечке
Май сорок пятого года!
- Я принесу, я приду!
Ложка важна к обеду.
Вот вам беда, одолейте беду,
И будет на всех Победа.
Влад Маленко https://stihi.ru/avtor/malenko
___________________________________
172544
Сообщение отредактировал Михалы4 - Воскресенье, 26.01.2025, 13:40 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 31.01.2025, 14:11 | Сообщение # 2899 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Слова, на чувства вялые, -
Что свет от лампы тусклой.
А я пишу по-старому,
По-нашему, по-русски.
В них нет, увы, фантастики,
Но дышат лес и травы…
Любимейшая классика
Даёт на это право.
Их не украсишь стразами,
Не пересыплешь перцем,
Но в них, как в русском празднике, -
И музыка, и сердце.
***
… Тогда царила в городе сирень,
И так цвела, что души бередила,
И в школе заниматься было лень, -
Такое наважденье это было.
И от неясной, но шальной мечты
День сыпался на мелкие кусочки,
И близкий жар неведомой звезды
Перетекал в негаданные строчки…
Прошло с тех пор, увы, немало лет,
Но каждый год от зарослей безбрежных
В округе полыхает дивный свет,
И в нём душа купается, как прежде…
***
Породнились мы с рекою,
И в бору нам – благодать.
В наших душах есть такое –
Никому не разгадать.
Мы немало повидали,
Нам родня – и бой, и труд.
Мы вросли в такие дали,
Что другим не подойдут.
Мы со всякими встречались -
И король хитрил, и шах…
И отвагой отличались
Мы отнюдь не на словах.
Нам любовь дороже хлеба,
И не манит стиль ампир.
Нам родня – такое небо,
Что завидует весь мир.
Не желая жить иначе,
Не жалеем добрых слов…
И уходим - не под плачи,
А под звон колоколов…
***
Жила одной семьёй деревня,
А нынче даже центр ершист:
И двор порушен, и деревья -
Как будто «пролетел фашист».
Песку и грязи по колено,
И в клуб не выйдешь без сапог,
Над всем витает воздух тлена,
У церкви покосился бок.
Заглянешь отдохнуть немножко,
О «бабках» спросит «молодец»,
А на столе – горшок с картошкой
И магазинский холодец.
А заикнёшься о кушетке,
Не оплошает бабка тут:
Мол, в городу бываем редко, -
Почём в гостиницах берут?
Неужто здесь ещё недавно
Цвела душа от тишины,
И у друзей гостили славно,
И ели пышные блины?
…А в стороне в ажуре - дачи,
«Битлы» грохочут за стеной…
Знать, кто-то выкрал, не иначе
Высокий свет души родной!..
***
Продираясь по жизни сквозь драмы,
Сердцем чувствуя Бога вблизи,
Люди добрые строили храмы,
Эти скрепы родимой Руси.
…Выбрав жизни другого покроя,
Свои души закрыв на засов,
Нынче замки мудрёные строят, -
Десять комнат для туфель и псов.
Здесь богатство с престижем венчают,
Остаётся лишь тень от любви,
За кордоном детишки скучают, -
Вроде, наши, а всё ж не свои.
Тридцать лет, сорок лет пронесётся,
Скорбный миг сложит крылья вдове,
За богатство родня подерётся,
И покажет всё это ТВ.
Потому и судьбина – стихия,
То прилив, то коварный отлив…
Ставят свечи в минуты лихие,
И выходят, всё враз позабыв.
***
Настала пора недомолвок.
Но всё же порою взорвёт,
И вот уже пара иголок,
Как водится, цель достаёт.
Ну, вот…А на сердце тоскливо,
Ни света, ни сна – для души…
Зачем я была справедливой,
Зачем, святый Боже, скажи?!..
***
Жизнь чужая идёт в эфире
По какой-то своей тропе…
Ходит женщина по квартире
И не думает о судьбе.
Всё, что было недавно важно,
Будет в снах ещё мельтешить…
Ей назад оглянуться страшно:
Вряд ли беды уже пережить.
И чего-то молчат соседки,
Не кивает тепло сосед…
А врачи? Что врачи? Ну, таблетки,
От которых уж толку нет.
Тянет душу тревог резина,
Вот и правнук давно гостил…
Ей бы как-то дождаться сына –
Чтобы понял, обнял, простил…
Вот опять неспокойно в мире,
Крест на кладбище в землю врос…
Ходит женщина по квартире, -
И в слезах её верный пёс.
***
Одёрнув юбку узкую,
Анфиса в круг вошла
И не спеша, под музыку,
Плечами повела…
Вдруг топнула, нарядная,
По-русски, от души!
И кто-то крикнул, радуясь:
- Пляши, вдова, пляши!..
Ах, как она отчаянно
Пошла кружить-дробить!
Как будто всё печальное
В паркет хотела вбить, -
И горе незабытое,
И слёзы, что в тиши…
Нет милого - убитого.
Пляши, вдова, пляши!
За слово, что не скажется,
За свет земной души,
За всех, кому не пляшется,
Пляши, вдова, пляши!
***
Пойдём, Галина, погуляем!
Как душу нежит снегопад,
И тишина, совсем хмельная,
В лицо целует наугад.
Пройдём уютной старой тропкой –
Где церковь светится опять,
И лик спасительницы кроткой
Над нами будет вновь сиять,
И будут наши разговоры
И откровенны, и светлы, -
Среди российского разора,
Среди неверия и мглы...
***
Так что опять преподнесёт нам Завтра?
Уж кажется, все беды - с нами, тут.
Но велики у дьявола затраты,
Ещё добавит за надёжность пут.
Такого бесконечного болота,
Наверно, не бывало на Руси.
Опять себе решает Дума что-то,
Опять народ во всяческой грязи.
Зато поводыри - в цвету и в теле,
И с барского стола дадут щепоть...
О, знать бы только, что на самом деле
Нас не оставил всё-таки Господь!
***
Смеёшься, падаешь, летаешь,
Хватаешь суть на стыке дел, -
И вдруг однажды понимаешь,
Что у надежды есть предел.
До счастья, кажется, немного,
До света сказочных крылец –
Но понимаешь, что дорога
Имеет всё-таки конец.
И вот уже внимаешь Небу,
Зло изымаешь на корню, -
И понимаешь цену хлебу,
И слову каждому, и дню.
***
Когда и зима – от порога,
И счастьем не пахнет отнюдь, -
Чревата крутая дорога,
Дай бог головы не свернуть.
В пути – то жара, то пороша,
Тянули, бывало что, вниз -
С иудиной лаской святоша
И с добрым лицом карьерист.
Сменялись и грады и веси,
Но свет настоящих друзей
Дарил, как всегда, равновесье,
И глас подавал соловей!..
***
Не просты пути земные,
Если мир враждой распят.
…Драгоценные родные
В разных землях чутко спят.
Как смириться мне с потерей
Моих предков золотых?
Боже, как тебе не верить
В то, что живы души их,
Что и там, по крайней мере,
Где окраины тихи, -
Снится бабушке деревня,
Снятся деду петухи!..
***
НАВЕЧНО
«И нету для русского духа простора»
А.Аврутин
… А в сердце – свои, дорогие, просторы.
Пока что за городом нету забора,
И есть электричка, автобус и поезд, -
Подремлешь маленько – и в травах по пояс!
А дух – он приходит с огромной любовью
Вот к этому небу, вот к этому полю,
И к этой бабусе на старом крылечке,
И к этой знакомой и сказочной печке,
И к этим, под небом сияющим, далям,
И к этим дорогам, где жёны рыдали,
Когда кандалы всю округу будили,
Когда на войну навсегда уходили…
Зарубки на сердце – безбожные были,
Но ангелы с этой землёй говорили,
И вряд ли бывать ей богаче и краше,
Но лишь бы навечно была она нашей!..
***
Русский
Его разгадывают снова
И разбивают в муках лбы…
Загадка снов, загадка слова,
Загадка сердца и судьбы.
Он напевает на свиданьи,
Он чашу жизни пьёт до дна, -
И эта музыка, и тайна
Не зря же русскому дана!
И выси свет, и глубь колодца –
Через столетья пронесёт.
И, если мир спасать придётся,
То кто ж его ещё спасёт?
***
Продуйте, вольные ветра
И обогрей, светило.
Душе в себя придти пора:
Да мало ли что было!..
Судьба земная не проста,
Смотреть мудрёно в оба.
Так пусть всё встанет на места,
Как это и должно быть.
Пусть луч сверкнёт среди ветвей,
Как гения наследство,
И пусть знакомый соловей
Свою подарит песню!..
***
В нас такая от века закваска,
В нас такие миры-берега,
Что живут в наших душах – и сказка,
И Руси вековая тоска.
Мы Чайковского чувствуем кожей
И своим прозреваем путём…
Даже если нас всех уничтожат, -
Мы в родимых полях прорастём.
***
Порастаяли сны золотые,
Порастеряны юные сны, -
Мы от горя почти что святые -
На ристалищах вечной войны.
Пусть не дремлет зима у порога,
И на сердце порою - мороз, -
Всё же верим в Россию и Бога,
Не стесняясь спасительных слёз.
Как листва, опадают режимы,
И восход проступает едва, -
Но пока мы надеждою живы -
И Россия родная жива!
***
Пусть свет излучает Россия-страна,
А землям поэтов дают имена,
И, коль повезёт, для судьбы выбирай
Есенинский, Пушкинский, Тютчевский край!
Пусть в стороны войны навек отойдут,
И Глинку, Чайковского ветры поют!
И вылечим души, и свяжем концы,
Поднимут Россию не деньги, – творцы!
И ахнут народы в восторге немом,
И Вёсны пребудут на шаре земном!
***
Диктует жизнь свои сюжеты драмы,
Коль призвала Отчизна воевать:
Пусть говорят, что мы грубы, упрямы –
Тем более не будем уступать!
У нас свои пристрастья и законы,
И нам наказам дедовским внимать:
Не предавать церквей любимых звоны,
А с ними душ своих не предавать!
И, памятуя о святых истоках,
Чужие сети сбрасывая с плеч, -
Не забывать истории уроки,
Чтоб новое предательство отсечь.
Бесовские прельщения минуя,
От нечисти спасти родную речь,
И Родину, как мать свою родную,
Назло орде немереной – сберечь!..
***
Как выжить в этих дебрях ада,
В какие верить чудеса,
Когда в окно летят снаряды,
А не ребячьи голоса?
Вам только снится солнца алость,
Доступность окон и дверей,
И вам, увы, судьба досталась
Идти дорогой матерей,
И вы не предали Отчизну,
И помнят это сыновья,
Что, забывая дни и числа,
Берут атаки на себя.
Какое надобно терпенье,
Какая вера звать должна,
Чтоб жить без радости и пенья
И ждать, когда уйдёт война?
А если дьявол в дом ворвётся,
Чтоб свою веру насаждать,
У вас, конечно же, найдётся,
Чем супостату долг отдать,
Чтоб он войну впервые проклял
И, вспомнив собственную мать,
Остановился, сердцем дрогнув,
И… отказался воевать.
Что было – Русь не позабудет,
Поклоны вам за подвиг сей,
За то, что в обмороке буден
Молились вы за сыновей!
МЫ - РУССКИЕ…
Мы здесь родились не случайно, может,
В нас не умрёт родной деревни вид,
Но что-то изначально нас тревожит,
И что-то изначально в нас болит.
Нам вороги толкают всё, что шатко,
Но им по нашим тропам не гулять,
Мы – русские, и в этом вся загадка,
Им даже боли нашей не понять.
И пусть на абордаж идут невежды,
Пусть на базарах процветает гнусь,
Но в сердце снова теплится надежда,
Что всё на свете превозможет Русь.
А коль дойдёт до настоящей битвы,
Всё в ход пойдёт – ракеты и строка,
Ведь со святым упрямством и молитвой
Пойдём мы на лютейшего врага!
***
Кажется, пора к войне привыкнуть,
Но нельзя привыкнуть, чёрт возьми,
Если небосвод от боли выгнут,
Если нелюдь борется с детьми.
Вновь, как было, наступают орды,
Снова в силе жадность и расизм, -
Это поднял дьявольскую морду
Страшный зверь по имени Фашизм.
Дед Мороз порастерял конфеты,
Детям Новогодья не видать…
Смотрит потрясённая планета,
Но не смеет голоса подать.
***
СТРОКИ РУБЦОВА
Чёрный коршун над миром летает,
В сердце Родины злобою бьют, -
А Рубцова и нынче читают,
А Рубцова и нынче поют!
Мчатся годы, у них свои сроки,
Где-то войны, а кто-то в тиши, -
А его ненаглядные строки
Не исчезнут из русской души!
В этих строках – и правда, и нежность,
В них мелодия с рифмой сплелась…
Там недолгой любви неизбежность
Роковую присвоила власть.
В этих строках – томление духа
И улыбки Его доброта,
И метельной судьбы завируха,
И российских дорог маята.
А Россия – не только просторы,
Наши церкви и дома уют, -
Это вечные строки Рубцова,
За которые жизнь отдают…
***
ВЫШЕ ГОЛОВУ, РУСЬ!
Ты прославилась хлебом,
Ты спасала, любя...
Глянь же в зеркало неба,
Узнаёшь ли себя?
Лик греха и печали,
Всех мастей суета...
Где твоя величавость,
Где твоя доброта?
Умирала, горела, -
И вставала, любя...
Скольких ты обогрела!
Кто согреет тебя?..
Пусть метель не сдаётся
И в пыли - письмена,
Но Россия - то солнце,
Что на все времена!
И пускай нас не хвалят,
Пусть замучила грусть, -
Выше голову, Ваня,
Выше голову, Русь!
Не согнёмся, и точка, -
Утверждать я берусь.
Выше голову, дочка,
Выше голову, Русь!
Валентина Коростелёва
___________________
172912
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 31.01.2025, 14:12 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 05.02.2025, 19:03 | Сообщение # 2900 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3576
Статус: Offline
| Красное слово
— Не для меня, — сказал старик, стукнув кружкой по столу.
— Не для меня, — подхватил мальчик, стукнув кружкой по столу.
— Не для меня придет весна! — хриплым басом взвыл старик, стуча кружкой по столу.
— Не для меня Дон разольется! — высоким голосом закричал мальчик, колотя кружкой по столу с такой силой, что капли самогона из нее попадали даже на лампочку, висевшую на шнуре над головами.
— Там сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня! — согласно пропели они.
Они пели о весне и о воинах, без колебаний принимающих неизбежность смерти, и их дикие вопли разносились над садами, черепичными крышами и водами Преголи (Калининградская область).
Допев, допив и докурив, они отправились спать.
Старик рухнул на диван в узкой маленькой спальне, а мальчик, как всегда, устроился на полу у входной двери, и вскоре оба уснули тяжелым пьяным сном.
В городке было немало странных людей, чудаков и придурков, но старик Дундуков выделялся даже среди них. Он вообще казался существом из иного мира — из мира, где всегда полыхают молнии, где боги и герои сражаются на небесах и на земле, а мужчины пьют кровь вместо воды и заключают браки с прекрасными чудовищами.
Огромный, костлявый, в драной черной шляпе, ветхом кожаном пальто до пят и высоких сапогах с остатками ремешков, которыми крепились шпоры, с лицом старого слона, на котором среди морщин и пятен не сразу угадывались маленькие глаза, он весь день бродил по улицам городка, то и дело останавливаясь и с недоумением оглядываясь вокруг, словно не понимал, в каком это мире он вдруг оказался и почему.
Частенько за ним увязывалась дурочка Жижа, про которую ветеринар Мизулин говорил, что в дорсовентральной проекции она толстенькая, а в вентродорсальной — просто ах.
Не переставая тихо бормотать что-то себе под нос, она следовала за Дундуковым тенью, делила с ним вареное яйцо, хлеб и пиво. Старик защищал ее от мальчишек, угощал табаком и не позволял заголяться при посторонних. Когда Жижа попала в больницу, он был единственным, кто навестил ее и принес яблок, а потом встретил ее пьяную мать Жижицу и отлупил ивовым прутом по заднице.
Утро старик проводил на старом кладбище, где среди немецких могил были похоронены его вторая и третья жены, а после обеда отправлялся на Седьмой холм — там лежали четвертая, пятая и шестая. Он бродил по дорожкам между крестами, иногда присаживался на скамейку под туями, чтобы выкурить самокрутку, а когда начинало темнеть, возвращался в свой дом, пустой, сумрачный, пропахший грубым табаком и лежалой одеждой.
По субботам он доставал из шкафчика медный горн, завернутый в мягкую тряпку, и начищал его до блеска. После этого играл подъем, сбор, атаку, а вечером — отбой. Выпивал стакан самогонки и ложился спать.
28 февраля 1918 года шестнадцатилетний Семен Дундуков стал трубачом Первого крестьянского кавалерийского социалистического полка, а спустя два дня убил первого врага — зарубил шашкой белоказака. С конниками Буденного он бил белогвардейцев под Царицыном и Касторной, брал Дебальцево и Перекоп, был тяжело ранен под Житомиром, награжден орденом Красного Знамени и вчистую уволен из РККА. Почти двадцать лет работал в коневодческих совхозах, в сорок первом ушел добровольцем на Вторую германскую, хотя служить пришлось в обозе. Однако ему и там удалось отличиться: в сорок четвертом под Инстербургом он организовал оборону полевого госпиталя, к которому прорвались немцы, и за это был награжден орденом солдатской Славы.
После войны он собирал по всей Восточной Пруссии уцелевших тракененских лошадей, потом работал на конезаводе, но был выгнан за скверный характер. Поселился в нашем городке, командовал конюшней, принадлежавшей бумажной фабрике. Его лошади пахали землю под картошку, вывозили мусор со дворов, таскали ассенизационные бочки, доставляли продукты в магазины. А когда на смену скотам пришли грузовики и тракторы, конюшню закрыли, коней продали цыганам, Дондукова отправили на пенсию.
Он похоронил шесть жен, разругался со всеми детьми, и, хотя в его доме время от времени появлялись женщины, они не могли наполнить его жизнь смыслом.
Он уже ничего не чувствовал, когда вспоминал звук горна, зовущего в атаку, разлив кавалерийской лавы, безжалостных кентавров великой революции, мчащихся к смерти и победе, кусок свинца, впивающийся в белое тело, деву с черными очами, лики богов и героев, позолоченные кровью и яростью...
Когда начались новые времена и жить стало еще труднее, старик продал капиталисту Сашке Розовскому сначала орден Красного Знамени, потом шашку, потом орден Славы. Не продал только наградной наган, чтобы не приведи Бог, и медный горн, потому что он никому не был нужен.
Жизнь его остывала.
Дундуков никогда не запирал двери и окна — любой мог войти в его дом и взять что угодно, если бы у него было что брать, поэтому мальчишка просто толкнул дверь, вошел, сел на стул в кухне и замер. Ждать ему пришлось долго.
— Я твой правнук, — сказал он, когда старик переступил порог кухни. — Сын Ольги, дочери Нины.
— Пошел к черту, — сказал Дундуков, опускаясь на табурет. — Какой Ольги?
— Моей матери. Она дочь твоей дочки Нины.
Старик помнил имена всех своих жен и детей, но вот внуками и правнуками не интересовался.
— И что Ольга? Ты здесь зачем? Тебя как зовут, правнук?
— Измаил.
Парень был крупный, костистый — в прадеда.
— Сын Авраама и Агари?
— Какого Агаря?
Старик хмыкнул.
— И какой же дурак тебя так назвал?
— Мать. Отца я не знаю.
— Ага... так какого черта ты ко мне приперся?
Измаил выложил на стол сверток.
Старик ждал.
Мальчик развернул тряпицу и придвинул к старику буденовку.
— Твоя.
Старик расправил буденовку, хмыкнул.
— Ну да, моя. Значит, это Нинка ее сперла?
— Можно я у тебя переночую?
— Так ты еще и левша, — пробормотал старик, словно не слышал вопроса.
— И че?
— Я тоже был левшой, но исправился.
— И че?
— Жрать хочешь? Тогда вари картошку. Тебе сколько лет-то?
— Скоро семнадцать.
За ужином, состоявшим из вареной картошки, кильки в томатном соусе, черного хлеба, лука и самогона, старик рассказал, когда впервые надел буденовку. Это случилось накануне штурма Перекопа, когда у Дундукова украли французскую каску-адрианку, не оставалось ничего другого, как напялить буденовку.
— А дырка в ней откуда?
— На Сиваше зацепило. — Старик залпом выпил самогонку. — Песни знаешь?
— Какие песни?
— Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ! — выпучив глаза, заорал старик, стуча алюминиевой кружкой по столу.
— О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы гордо и смело в бой идем! — подхватил Измаил, выпучив глаза и стуча кружкой по столу.
Допев и допив, старик вдруг наклонился к Измаилу через стол.
— Знаешь, что это было? Это был огонь. А огонь всегда прав. — Он поднял руку. — Вот эта моя рука тогда горела. Понимаешь? Правая! Правое дело надо делать правой рукой. И все слова были сильными, красными, а не как сейчас...
— Огнем, что ли? Горела — огнем, что ли?
— Вспыхивала вся. Светилась и пылала, потому что правда была на нашей стороне, потому что огонь всегда прав...
— Больно было?
— Нет, — сказал старик, опуская руку. — Огонь остался, а сил больше нету — нечему гореть...
— Сама собой горела или спичкой поджигали?
— Сама.
— А сейчас можешь зажечь?
— Сейчас я только про поссать и поспать думаю. — Дундуков встал. — Иди спать, Измаил. И кто тебе имя такое дал, а? Измаил! Бабы, конечно, это все бабы...
— И че?
— Ниче. Ревнивые больно.
— Будто мужики не ревнивые.
— Ревнивый мужик просто убьет, а баба — изведет.
Старик завалился на узкую койку в спальне, а Измаил лег на ватник у входной двери.
Измаил оказался шнырким парнем, пролазой и вором.
С утра до вечера он шнырял по городку, высматривая все, что плохо лежит, и тащил домой сахар, муку, галоши, морковь, живых кур, полотенца, картошку и шоколад. Он наладил самогонный аппарат, починил крыльцо и туалет.
Раза два-три его ловили и избивали до полусмерти, но вскоре он оживал и снова принимался за прежнее.
— Но если тебя этот буржуй Розовский поймает, — говорил Дундуков правнуку, — живым не уйдешь.
— Ты победил буржуев, а теперь твой огонь — ихний...
— Болтун, — беззлобно ворчал старик, — веришь всяким сказкам...
Теперь у старика благодаря Измаилу было вдоволь еды, табака и самогона, а главное — хоть в этом он и не любил признаваться даже себе — парень никогда не ухмылялся, когда старик пускался в воспоминания. Раньше он не любил своего прошлого, но Измаил вечер за вечером приставал к Дундукову с вопросами, и старик мало-помалу привык этим разговорам, а потом уже не мог прожить без них ни одного вечера. Его голос, громкий, но однообразный, приобретал неожиданные обертоны, когда речь заходила о товарищах, о бешеных схватках, о запахах пота, крови и пороха...
Однако самым ярким событием были похороны павших в бою товарищей, тела которых опустили в братскую могилу, и полковой оркестр играл «Вы жертвою пали», но тут к комдиву примчался вестовой с приказом, и кавалерия стала разворачиваться к бою, и он, стоя на вершине холма, играл сигнал атаки, а ниже, у подножия братской могилы, эскадрон за эскадроном, полк за полком — кони, пики, сабли, кубанки, трубы, знамена, зубы, пена, храп, хрип, матюки, бешеные веселые рожи со злыми глазами, железо, грязь, волны вони — начали перестраиваться для атаки, вздымая облака пыли и пуская коней рысью, марш-марш, вперед, вперед, сотня за сотней, тысяча за тысячей, салютуя саблями на скаку павшим товарищам, — к смерти и победе...
— Когда помру, — сказал старик, — сыграй на моей могиле атаку.
— Может, отбой?
— Атаку.
— А женщины? — спросил Измаил. — Какие они были?
— Были, да, — сказал Дундуков. — Миркой ее звали, еврейка была...
— Настоящая еврейка?
— Она одна в доме была, и я ее взял. С налету взял. Застрелил казака на крыльце, вбежал в дом, а там она, и я не остановился... у меня вся рожа в крови, вот она и испугалась, а я весь как в огне... — Помолчал. — А под утро сказала... сказала, что любит меня...
— А ты?
— Чего я?
— Ты ее любил?
Старик пожал плечами.
— А что потом?
— Суп с котом, — сказал старик. — Но другой такой у меня не было...
Ему не нравилось выражение лица Измаила, когда тот слушал рассказы о женщинах. Ему не нравилось, как Измаил смотрит на Сандру, соседскую девчонку.
Она была очень красивым шестнадцатилетним животным, носила короткое платьице из полупрозрачного тюля, сводя мужчин с ума своими крутыми ягодицами, пышной грудью и недобрыми глазами.
«Ее улыбкой можно ворота в ад открывать», — сказал как-то ветеринар Мизулин.
Измаил мог часами сидеть на лавочке рядом с нею, весь сжавшись, выкуривая сигарету за сигаретой и не проронив ни слова, а Сандра болтала без умолку, как будто наслаждаясь звучанием своего незрелого волнующего контральто.
Сандра жила с бабушкой, которая обедала и ужинала тюрей — хлебом, размоченным в тарелке с водкой, и мечтала только о том, как бы поскорее сбыть с рук внучку, пока та чего-нибудь не натворила. Старуха жалела, что не продала ее Сашке Розовскому, который предлагал за четырнадцатилетнюю Сандру ящик коньяка: «И пятьсот долларов, если окажется целкой». Но тогда девчонка заартачилась, бросилась топиться, и буржуй отступил.
В конце лета Измаил привел Сандру в дом старика и сказал, что теперь они будут жить вместе.
— Здесь? — спросил старик. — У меня?
Он отложил медный горн, который чистил тряпочкой, и уставился на правнука.
— Не, у нее. Бабка не против. Зато теперь тебе никто мешать не будет.
Старик промолчал.
Измаил сказал, что у него дела, и убежал.
Сандра осталась.
Старик смотрел на нее исподлобья.
— А это чего это у тебя? — лениво спросила Сандра. — Дудка, что ли?
— Горн, — сказал старик. — Сигналы подавать.
— Какие такие сигналы?
— В атаку, сбор, отбой...
— Отбой, — сказала Сандра. — Ну и черт с ним.
Она стояла в нескольких шагах от Дундукова и с усмешкой водила кончиком языка по губам.
— Иди сюда, — сказал старик, тяжелея от гнева.
Ему вдруг понравилось, как звучит его голос, и понравилась горячая тяжесть в руках.
— Сюда иди, — сказал старик. — Ну.
Сандра лениво двинулась к нему, с каждым шагом улыбаясь все гаже.
— Ну пришла, — сказала она, останавливаясь в полушаге от старика. — И че? Перхоть ты сраная, и че?
Старик схватил ее за волосы, ударил головой о стол, перешагнул неподвижное тело, под которым расплывалась лужа, надел пальто, сунул в карман револьвер и вышел из дома.
Было уже темно, когда Измаил — он не понимал, зачем взял с собой горн — нашел старика в магазине «Все для вас», сарае на окраине городка, втиснутом между кирпичным гаражом и дощатым сортиром.
В магазине пахло чем-то горелым, но уже не порохом.
Старик сидел у прилавка, прижимая к животу руку с револьвером, а на полу, среди битого стекла, кто ничком, кто на боку, валялись трое бандитов Сашки Розовского — один из них в спущенных до пят спортивных штанах — и в дорсовентральной проекции, на животе, лежала голая Жижа. Ее одежда была аккуратно сложена на стуле.
Измаил опустился на корточки перед стариком, ткнул его горном в плечо.
— За что ты ее?
— Не знаю, — сказал старик, протягивая ему револьвер. — Сделай это правой рукой. Там еще два патрона.
— Ты ее за что? Сандру за что?
Он никогда не видел старика улыбающимся, поэтому испугался.
— Ты чего?
— Хватит болтать, — сказал старик, — я спирт в подсобке поджег. Делай что должен, красным словом тебе говорю. Только не зажмуривайся. Красным словом, понял? Не зажмуривайся... сердце не слева, а тут... — Он прижал пятерню к груди. — Не зажмуривайся только...
Измаил переложил револьвер в другую руку, выстрелил два раза в слоновье лицо, бросил оружие на пол и вышел из магазина в тот момент, когда пламя вынырнуло из-под прилавка.
Сел на чурбак шагах в двадцати от магазина, охваченного огнем, и не шевелился, пока не прибежали первые люди.
На вопросы он не отвечал, только мотал головой.
К утру пожарище затихло, обугленные тела увезли, Измаил остался один, и когда за деревьями показался край солнца, поднялся, широко расставил ноги, поднес горн ко рту и заиграл атаку, и играл, и снова играл, стоя на вершине холма, пока эскадрон за эскадроном, полк за полком — кони, пики, сабли, кубанки, трубы, знамена, зубы, пена, храп, хрип, матюки, бешеные веселые рожи со злыми глазами, железо, грязь, волны вони — на ходу перестраивались для атаки, вздымая облака пыли и пуская коней рысью, марш-марш, вперед, вперед, сотня за сотней, тысяча за тысячей, салютуя саблями на скаку павшим товарищам,— к смерти и победе, в огонь, в огонь...
Юрий Васильевич Буйда
____________________
173244
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 05.02.2025, 19:04 |
| |
| |
/> |