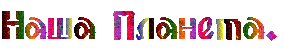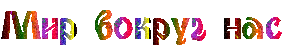Уролог Алексей Живов — о фальшивых диагнозах, цистите и раке простаты
Автор – Илья Фоминцев
По просьбе The Village директор Фонда профилактики рака онколог Илья Фоминцев поговорил с главным врачом Ильинской больницы, практикующим урологом Алексеем Живовым.
— Урологов в россии много, частная урология — распространенное дело. если навскидку говорить, то с какими диагнозами обычно люди уходят от таких урологов? не приходят, а именно уходят?
— В основном люди обращаются в частные урологические кабинеты амбулаторно. Чаще всего приходят с болью в промежности, с нарушением мочеиспускания. Урологических болезней не так уж много. Но чем чаще уролог диагностирует хронический простатит, тем, как правило, ниже квалификация этого уролога. Был такой американский профессор Томас Стэми, именем которого названа диагностическая проба мочи при хроническом простатите Меерса — Стэми. Он называл этот диагноз «мусорной корзиной клинического невежества». И только потому, что в эту «мусорную корзину» попадает практически все, с чем не смогли разобраться врачи, пациенту ставят такой условный диагноз.
На самом деле этим «простатитом» может быть много чего: аденома простаты, местно-распространенный рак простаты, это может быть мочекаменная болезнь, стриктура уретры (сужение мочеиспускательного канала. — Прим. И. Ф.), нейрогенные расстройства мочеиспускания. Я видел случаи, когда от «простатита» лечили пациента со злокачественной опухолью яичка, которую нужно было срочно оперировать. Одним словом, все зависит от образования врача. Если оно достаточно высокое и он знает «свою» патологию, то есть заболевания мочеполовой системы мужчин, он их и находит, лечит правильно, и пациент выздоравливает. Если же он любые неприятные симптомы, связанные с тазовыми органами, называет хроническим простатитом, то пациенты тратят с таким врачом время впустую, и порой это стоит им не только стресса и дискомфорта, но и жизни.

Но если мы представим гипотетическую ситуацию, в которой все урологи грамотные, то среди мужчин после 40–50 лет будет достаточно много пациентов с правильно установленным диагнозом аденомы и рака предстательной железы.
У мужчин помоложе чаще встречается хроническое бесплодие или проблемы в сексуальной сфере: эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение. Среди совсем молодых есть пациенты с врожденными аномалиями развития — неопустившиеся яички, например, или гипоспадия, когда наружное отверстие мочеиспускательного канала располагается на нижней поверхности полового члена, а не на его верхушке.
У женщин это чаще всего инфекции мочевых путей. Практически половина женщин за жизнь хотя бы раз переносят то, что у нас называют «цистит», — в международной практике это называется неосложненная инфекция мочевых путей. Это связано с тем, что у женщин короткая уретра, и микрофлора влагалища и анального отверстия, банальная кишечная палочка, попадает в уретру и вызывает воспаление. На втором месте — расстройства мочеиспускания нейрогенного характера, в том числе недержание мочи.
Ну и наконец, у представителей обоих полов наиболее распространенным диагнозом является мочекаменная болезнь. Есть отдельные эндемичные регионы, крупные города, столицы вообще полны таких пациентов.
— Это вы сейчас описали эпидемиологию реальных заболеваний. а я-то как раз спрашивал, с чем они уходят из этих кабинетов в россии? Не ситуация с идеальной образованностью урологов, а реальность. И вот об этом отчасти мой второй вопрос: с чем связано такое большое количество урологических кабинетов в России? все это похоже на «уездный город n», в котором были только парикмахерские и ритуальные салоны, и казалось, что в городе люди только стригутся и умирают. откуда столько частной гинекологии и урологии? особенно было много в начале 2000-х.
— Помню еще в 80-е, когда я был курсантом военно-медицинской академии, я уже состоял в урологическом кружке. У нас тогда была практика в кожвендиспансере. Это было такое почти пенитенциарное учреждение, в которое в те времена обращались все эти бедные люди с гонореей. (Кстати, тогда было много именно гонореи, а вот сифилиса почти не было, сифилис появился и широко распространился в 90-е.) Так вот, если люди обращались в кожвендиспансер, то об этом сообщали по месту работы. Во времена КПСС это значило, что будет партсобрание, «постановка на вид», «аморалка». Женщина с внебрачной связью заболела, и об этом рассказали на работе — скандалы, разводы... И эти истории происходили сплошь и рядом в те годы. Конфиденциальности не было никакой. Вот оттуда все и пошло. Тогда не было частных кабинетов и клиник, всем приходилось идти в кожвендиспансер, но те, у кого были деньги, они шли «частным путем», чтобы об их инфекции никто не узнал. Антибиотиков тогда было мало, поэтому к лечению добавлялись шаманские мероприятия вроде заливания антисептиков в мочеиспускательный канал. Надо было ходить к врачу на совершенно ненужные ежедневные процедуры, хотя на самом деле все эти инфекции лечатся за один день инъекцией или приемом внутрь одной дозы антибиотика, и все. Это было известно еще с начала 80-х, но для этого нужно было иметь эти антибиотики и знать, кому и сколько их нужно принимать, а это мало кто знал. Помню, даже когда я учился в аспирантуре, циркулировала информация, что, мол, острая гонорея якобы требует какого-то дополнительного местного лечения...

И вот на волне всей этой глупости два интереса и сошлись: с одной стороны — пациенты, которым нужно сделать все как можно тише, с другой стороны — врачи, у которых появлялась работа, за которую можно было деньги взять, порой немалые. В итоге в начале 90-х, когда разрешили частную практику, первыми открылись гинекологи и урологи, которые как раз и занимались лечением этих инфекций, передающихся половым путем. И эта система работает до сих пор, потому что... ну, это же не рак, когда нужно радикальную цистэктомию делать (полное удаление мочевого пузыря с восстановлением искусственного из тканей других полых органов. — Прим. И. Ф.).
Этому-то нехитрому ремеслу может любой научиться за неделю. Поэтому во многих странах мира лечением ИППП вообще занимаются медсестры.
И вот ты окончил ординатуру, мало чего знаешь, оперировать не умеешь, но зато знаешь три волшебных слова: хламидиоз, гонорея... ну и о простатите немного слышал. И все, пошел лечить, пользуясь желанием людей «все оставить между нами». Потому что все хотят вылечить свой хламидиоз или гонорею тихо. У меня, кстати, на сайте висит статья, которую я написал еще в 2000 году, но она до сих пор не потеряла своей актуальности. Называется она «Лечение половых инфекций — большой российский медицинский лохотрон». Это все продолжается до сих пор: вот эти урологические «клиники» в каждой подворотне — продолжение все той же истории с лохотроном.
А в государственных клиниках все это сопровождается по-прежнему каким-то налетом пенитенциарности. Знаете вы, например, что до сих пор, если врач выявляет гонорею, он должен сообщить об этом в кожвендиспансер по месту жительства? Спрашивается, зачем? Они что, будут разыскивать там кого-то или принудительно лечить? У них есть такие возможности? Но по закону так и нужно. 2018-й год на дворе
— То есть это до сих пор не отмененный приказ? может быть, он хотя бы не исполняется никем, как это обычно бывает?
— Ну это как сказать! Вот если Росздравнадзор вдруг проверит и найдет, что в лаборатории частной клиники лаборант выявил и честно написал на мазке «гонококки», то они обязательно проверят, сообщили ли об этом случае гонореи. И ведь это было на моих глазах совсем недавно! Когда я в Питере работал главврачом в одной частной клинике, у нас были такие случаи и даже не один. Это был 2011–2012 год. Лаборант писал «гонорея», естественно, никто никуда не сообщал, и приходилось «договариваться» с Росздравнадзором, чтобы они не поднимали панику. Так что это, можно сказать, работающая практика.
— А вот когда вы говорите «лохотрон», можно ли говорить и о том, что, возможно, это инфекции, которых на самом деле и вовсе не было? Пациент ведь не может проверить. есть сообщения о том, что ставят липовые диагнозы, просто чтобы заставить пациента заплатить...

— Да, такое есть. Ну, во всяком случае, это точно было, причем я знаю даже достаточно известные клиники, которые этим занимались. Но ведь это же все от людей идет, причем иногда это не урологи, а лаборанты. Вот даже у меня в лаборатории работала одна дамочка, которую я потом уволил. Она подрабатывала в какой-то частной клинике, брала там стекла, тащила к нам в лабораторию, где был иммунофлюоресцентный микроскоп, то есть можно было хламидии смотреть микроскопически. Так вот, у нее были хламидии в каждом мазке, без хламидий от нее не уходил никто.
У нее было такое задание от частной клиники: «Штампуй нам хламидии», — вот она и штамповала. В Питере было тогда полно таких псевдоклиник...
В общем, в такой «клинике», особенно если доктор посмотрел в окошко и увидел, что вы приехали на хорошей машине, будут найдены все инфекции. Так было, и, к сожалению, есть до сих пор. Администрация подобных учреждений даже планы для врачей устанавливает — сколько хламидиозов в месяц они должны «пролечить». А тех добросовестных врачей, которые отказываются участвовать в этом откровенном мошенничестве, просто увольняют.
— Не такая уж и история. я недавно был на одном мероприятии и разговаривал там с парнями из лабораторий «инвитро». они мне рассказали, что одна частная клиника отказалась заключать с ними контракт, потому что, дословно: «маловато вы, ребята, даете хламидиоза». они им говорят: «сколько есть, столько и даем», — но этого, видимо, мало для контракта.
— Раньше сотрудничество алчных и нечистых на руку врачей и лаборантов порождало массу нелепых диагнозов. В этом смысле независимые сетевые лаборатории когда-то сделали просто революцию: они стандартизировали все процессы, ввели жесткую систему контроля качества, и теперь там так просто не намухлюешь. Так что, учтите: если в клинике нет собственной лицензированной микробиологической лаборатории и она работает без договора с сетевой лабораторией, это должно насторожить пациента.
— Давайте тогда перейдем к следующему урологическому заболеванию с широким распространением —раку простаты. у меня вот такой вопрос: заболеваемость раком простаты растет как на дрожжах. за последние годы она выросла ну очень сильно, но при этом смертность либо на том же уровне, либо в некоторых группах даже падает. почему при других видах рака мы не наблюдаем такую картину — мы так хорошо научились лечить это заболевание или что?
— Так ведь рак простаты очень разнообразен: есть очень агрессивные формы, а есть неагрессивные, причем последних значительно больше. Заболеваемость растет за счет всех форм, а смертность зависит гораздо больше именно от агрессивных.
Анализировать это можно, только глядя на ситуацию через призму истории развития онкологии конкретной страны. Каждая страна прошла через свою историю в этом смысле: США, Скандинавия, Западная Европа. Возьмем для примера США.

С чего начался весь этот рост заболеваемости раком простаты там? В 1989 году в клиническую практику вошел тест на ПСА (анализ крови на уровень простат-специфического антигена. — Прим. И. Ф.), и спустя пару лет появилась системная биопсия предстательной железы (прижизненный забор участков ткани из шести секторов простаты под ультразвуковым наведением для патоморфологического анализа. — Прим. И. Ф.).
Вот сочетание ПСА-теста с системной биопсией простаты и привело к росту числа вновь диагностированных раков. Вспоминаю съезды американской урологической ассоциации — с 1994-го по 2015-й я был там каждые два года. Все начиналось с 70 тысяч вновь выявленных случаев рака простаты в США, потом в середине 2000-х их стало 120тысяч. А сейчас заболеваемость уже не растет, остановилась, кажется, в районе от 110 до 130 тысяч случаев в год. При этом рост заболеваемости был преимущественно за счет низкоагрессивных опухолей.
Надо понимать, что есть разные драйверы всей этой истории — не только медицинские, но в том числе и рыночные. Потому что рак предстательной железы — это тебе не «хронический простатит». Это ведь целая история! Для излечения надо сделать операцию, удалить предстательную железу, потом за больным нужно следить — регулярно контролировать ПСА, мониторя онкологическую излечиваемость, следить за осложнениями (недержание мочи, импотенция). Это держит занятыми большое количество врачей и медицинских сестер, и на это тратятся огромные деньги — появляется целый рынок, который так просто не закрыть.
Смертность при этом относительно заболеваемости гораздо ниже, поскольку чаще всего рак простаты — неагрессивное заболевание, от которого далеко не все умирают. В начале 90-х годов это было примерно 30–40 тысяч в год в США. Сейчас это 25 тысяч смертей в год. По мнению большинства авторов, такое снижение достигнуто широким внедрением излечивающих методов лечения вовремя диагностированных ранних стадий этого заболевания — операции радикальной простатэктомии и лучевой терапии. С другой стороны, этому достаточно агрессивному лечению подвергалось большое количество больных малоагрессивными формами рака простаты, от которых они бы никогда не умерли, и таких больных можно было не лечить вовсе.
И вот поэтому сейчас уже встает вопрос, который мы регулярно обсуждаем на фейсбуке с нашим общим другом Антоном Барчуком, занимающим немного маргинальную позицию: мол, чуть ли скрининг рака простаты вовсе не нужен, а радикальное лечение зачастую не требуется, если нет никаких симптомов заболевания.

Но так на ситуацию смотреть не стоит, ведь симптоматический рак простаты — это, как правило, уже плохо излечимый рак. Да, я с ним полностью согласен, что повальный скрининг не нужен, потому что там половина случаев откровенной гипердиагностики (откровенного вранья. Прим. РуАН), но, с другой стороны, тут дело не в том, что лишние государственные деньги тратятся на диагностику, а в том, чтобы у заболевшего человека качество жизни было лучше. Выявив повышенный уровень ПСА, мы ведь не знаем точно, какова агрессивность опухоли. Это можно сказать только после биопсии. И сейчас у нас нет точных данных, чтобы сказать наверняка, нужна биопсия, например, или нет. Предпринимаются поиски более точных маркеров агрессивности рака простаты. Однако сегодня доступность этих методов предсказания агрессивности рака простаты чрезвычайно неравномерна, и очень часто ключевую роль в том же определении показаний к биопсии простаты играет так называемый clinical judgement — по сути, вера в то, что основано на твердых знаниях и на интуиции. И тогда ты говоришь человеку: «Я считаю, что надо сделать биопсию».
После биопсии этот «ненаучный подход» заканчивается — тут у нас уже данные исследования тканей простаты пациента: вы можете оценить биологию рака, его агрессивность, делать прогноз. Для этого есть номограммы, которые позволяют оценить, будет ли человек вообще жить, если его не лечить. Они позволяют рассчитать, с какой вероятностью человек будет жить без рака, если его от рака лечить — операцией или лучевой терапией. Имея эти цифры, вы можете объяснить пациенту, как можно поступить, и он принимает осознанное решение сам.
— Но в таком случае, если речь идет о предтестовой неопределенности, может быть, имеет смысл отдать и это решение пациенту — делать ли тест на пса, делать ли биопсию?
— Ну, на деле вообще никто, кроме пациента, не может решить, делать ему анализ крови на ПСА и в дальнейшем биопсию, или нет. Задача врача — информировать пациента максимально точно, сообщить ему о его очевидных рисках, вероятных сценариях развития болезни, если ее не лечить и если подвергаться тому или иному лечению. Максимальная открытость и непредвзятость квалифицированного онкоуролога чрезвычайно важны. А то иногда приходится сталкиваться с тем, что хирург-уролог предлагает всех без разбора оперировать, а лучевой терапевт — облучать. На самом деле, для каждого из этих методов лечения существуют свои показания и свои идеальные пациенты, которым они наиболее показаны.

— Но в России-то все иначе обстоит в большинстве случаев. пациенту просто говорят «или мы делаем биопсию простаты, или тебе хана».
— Ну вот, а что мы с такими врачами сделаем? Пока врачам будут платить копейки, врачи будут заниматься мошенничеством. Ну а как ему еще прожить? Вот человек умеет делать биопсию предстательной железы. И он понимает, что за каждую третью биопсию ему принесут, к примеру, 5 тысяч рублей, а в месяц их 100 штук — вот, собственно, и образуется сумма, которая поможет свести концы с концами.
Что уж говорить про онкодиспансеры: вот приходит к нам человек с локализованным раком простаты и говорит: «А меня уже лечат, мне дали бикалутамид в онкодиспансере». Говоришь ему: «Зачем?! У вас же локализованный рак!Вам не нужна андрогенная блокада или уничтожение синтеза тестостерона в организме». А он говорит: «Мне сказали, нужно затормозить развитие рака простаты». И дают ему лекарство. Так ведь у них там свои интересы, выполнение планов по реализации лекарств и прочее.
— А разве в частных клиниках не так?
— Бывает и так, но нельзя всех грести под одну гребенку. Разумеется, есть частные клиники, которые только на деньги и заточены. Кстати, тут вот вспоминаю интересную историю... Была когда-то такая сеть клиник «Эскувер», ну просто хрестоматийного разводилова.
Ко мне пришел оттуда один... Мичман, кстати, наш — флотский человек (после окончания ВМедА Алексей Живов служил военным врачом на подводной лодке. — Прим. И. Ф.).
Снимает он штаны, а там член — черный. Вот просто натурально черного цвета, гангрена, одним словом. И говорит он мне, что ему вводили полиакриламидный гель в член.
— я думал, они только увеличением молочной железы занимались. а они были, оказывается,полноценными членовредителями?
— А то! При попустительстве всех главных урологов Питера. И вот ко мне, значит, пришел этот деятель с черным членом и говорит: «Что же мне делать?»
Я говорю: «Требуйте деньги у тех, кто это сделал, сделаем вам операцию и все исправим».
На следующий день ко мне приходит директор «Эскувера». И бандитским тоном говорит: «Доктор, ты че это ему не можешь объяснить, что у него все нормально? Зачем ты его настроил, что у него, мол, все плохо?»
Ну, я с ним тогда поговорил «по понятиям» — и ушел тот директор ни с чем. Мичмана того мы удачно полечили: удалили гранулему, пересадили кожу с мошонки, починили все дефекты. А он отсудил у них по тем временам что-то около 20 тысяч долларов.
Вторая волна этого дела началась в 2000-е... Появились клиники, куда люди приходят и с них просто снимают деньги, и все — это единственная задача клиники. Медицинских задач перед сотрудниками там не ставил никто. Такие клиники есть и сейчас, они не думают о пациентах или своей репутации. Они заняты тем, чтобы в максимально короткий срок заработать денег и потом просто исчезнуть, больше ничего им и не надо. Разумеется, там и лекарства ненужные продаются, и ненужная диагностика, и даже операции ненужные делаются. Поэтому да, есть такой феномен, чего греха таить.
Но при этом не надо говорить, как некоторые, мол, это только в частных клиниках такое. Ну, ребята, начнем с того, что у нас, по сути, частной практикой занимаются 100 % врачей. Потому что если вы не будете заниматься частной практикой, то попросту не проживете. Одни просто легально ей занимаются, платят налоги, а другие занимаются тем же самым на государственной площадке нелегально. Вот и все.

При этом есть хорошие частные клиники, есть хорошие государственные, а есть мошенники. И не важно, какая там форма собственности.
— В онкологии известна такая академическая «война» между хирургическими урологами и лучевыми терапевтами. воюют они за то, кто должен лечить рак простаты. кажется, там показатели эффективности практически одинаковые. как вообще проходит процесс выбора между лучевой терапией и хирургией?
— Существует достаточно понятная схема лечения: в литературе есть такие данные — онкологическая выживаемость после наружной лучевой терапии и радикальной простатэктомии (удаление предстательной железы. — Прим. И. Ф.) начинает разниться только после десяти лет. Через пять лет разницы нет, чуть-чуть начинаются проявления спустя десять лет, а вот на 15 годах после лечения появляется заметная разница. В прошлом году было несколько крупных исследований, в которых изучалась радикальная простатэктомия против лучевой терапии, тысячи пациентов с обеих сторон. И да, разница есть через 15 лет — разница в пользу операции.
Таким образом, если мы говорим о молодом пациенте, у которого есть достаточно высокий шанс прожить 15 и более лет, то ему имеет смысл предложить хирургию. Если речь идет о пожилом человеке, то при условии, что мы лечим его, а не активно наблюдаем, есть смысл предложить лучевую терапию.
Но это только онкологический эффект, а есть ведь еще и осложнения лечения. Например, недержание мочи. После хирургического вмешательства оно появляется сразу, но потом проходит (через год после операции им страдают только 10 % пациентов), то же с эректильной дисфункцией: если мы сохранили нервы во время операции, то до 30 % страдают от эректильной дисфункции, а если не сохраняли — 80–100 %. Есть еще ряд более редких осложнений — стриктура уретры, свищи.
После лучевой терапии эректильная дисфункция тоже развивается, но не сразу, а спустя примерно полгода. После лучевой терапии развиваются, кроме того, радиационные циститы, проктиты и те же свищи.
Реконструктивная урология — это моя основная специальность, и тут я могу сказать, что оперировать и восстанавливать людей после простатэктомии намного проще, потому что ты имеешь дело с нормальными тканями.А после лучевой терапии... это просто надо видеть. Это абсолютно мертвая ткань — она не кровоснабжается, еле-еле живет, все разваливается, не заживает, и восстановить нормальную анатомическую структуру тканей и функцию органов после лучевой терапии намного сложнее.
И вот еще, что нужно иметь в виду, — обстоятельство, связанное со специалистом и оборудованием. Кто будет делать вам операцию? Кто будет вас облучать? На каком оборудовании?
Хорошо делает операции тот, кто делает их не менее 50 в год. Вообще, знатные простатэктомисты делают по две операции в день, а то бывает и до пяти! Экспертные хирурги могут уложиться в 1,5–2 часа на операцию. Такие люди делают классно, способны устранить опухолевый процесс и сохранить основные функции — эрекцию и удержание мочи. Если же хирург делает это редко, то частота осложнений увеличивается. Потому что, вообще-то, эта операция совсем не из легких.
То же самое верно и о лучевой терапии. Она должна быть правильно спланирована — необходимо верно разметить поля облучения, а это целая сложная процедура, которая делается с помощью КТ.

А у нас в России до сих пор еще полно этих аппаратов отечественного производства — все эти «Рокусы», «Агаты»: я их вообще называю Хиросимой. Потому что они оставляют после себя выжженную землю. Они же не простату облучают, а весь таз, причиняя вред и мочевому пузырю, и половому члену.
Вот я вчера на операции видел больного. У него, кажется, все ткани попали под луч, и даже уретра (мочеиспускательный канал. — Прим. И. Ф.). Мышцы все белые, простата как вареное яйцо. Понятно, на плохом оборудовании облучаться у специалистов, которые не умеют это делать или делают редко, — лучше не стоит. Потому что они вам, кроме простаты, облучат еще массу тканей, которые ни в чем не виноваты перед медициной.
Ну и последнее соображение — как после лучевой терапии, так и после операции есть вероятность рецидива. Но если после операции при рецидиве вы пациента запросто отправите на лучевую терапию, то после лучевой терапии опций больше нет. В теории можно, конечно, делать спасительную простатэктомию после лучевой терапии, но это будет крайне сложно и сопряжено со значительно большей частотой послеоперационных осложнений.
Поэтому я бы рекомендовал людям, которые еще молоды, у которых еще много всего впереди, крепкое общее здоровье и большие планы на жизнь, все-таки соглашаться на простатэктомию, которую сделает хороший хирург.
— Если, положим, взять всех людей в России, которые так или иначе называют себя онкоурологами и которые делают простатэктомию, сколько процентов вы бы назвали хорошими?
— Может быть, где-то в каком-нибудь маленьком городе работает такой хирург, о котором мы не можем знать ничего, а он меж тем прекрасно оперирует. Но это бывает редко.
Ведь что такое хороший хирург? Это сочетание хороших мануальных навыков с хорошей головой. Потому что, когда говорят, что хирургия — это, мол, такое рукоблудие, мануальное ремесло, — это совершенно не так. Я считаю, что вот эти хирурги, которые быстро что-то там «режут-вяжут», шьют «быстро-красиво», но при этом ничего не понимают, — это страшные люди. Ведь хирург должен использовать свои навыки исключительно в интересах пациента. И прежде чем идти на операцию, нужно подумать, стоит ли ее в принципе делать? А что потом?
Так вот таких хирургов, которые хорошо головой думают, — их совсем немного. Больше тех, кто что-то делает. В Питере и Москве я бы сам пошел не более чем к пяти врачам.
— А что же делать людям в регионах?
— Есть хорошие команды в Ростове, Краснодаре, Уфе, Волгограде, Новосибирске. Вот за остальных ничего сказать не могу. Вы же знаете, как у нас все работает: люди, посмотрев ролики на YouTube, решают, что уже могут идти оперировать, идут — и оперируют. А осложнений меж тем все больше. Как правило, это пациенты из небольших городов. Но, впрочем, такое бывает везде. Я оперирую осложнения у пациентов и из Швейцарии, Германии, Израиля. Пациенты ведь не к хирургу туда едут, а в «Германию», они и имен не знают даже. Платят за это посредникам, которым просто нужны деньги за пристроенного пациента и ничего больше.

— И все же мне бы хотелось от вас услышать эту цифру — какой процент хирургов вы бы назвали хорошими хирургами среди тех, кто лечит рак простаты?
— Это от 5 до 10 %.
Проблема у нас еще и в том, что выпускник урологической резидентуры, например в США, к выпуску уже сделал 30–50 радикальных простатэктомий. То есть он проходит кривую обучения, еще будучи резидентом. Наш же выпускник ординатуры не делает ни одной такой операции, и на месте работы его тоже никто не учит. Кому же из более опытных коллег нужен умный и умеющий врач? Это ведь конкурент! Так что обучение если уж и идет, то стихийно и совершенно бессистемно. Хирурги у нас вообще плохо учатся.
Ну вот разве что в неотложной хирургии: там всегда руки нужны, и там еще более или менее учат. А в узких областях, где специалистов нужно относительно немного, люди сидят и работают много лет, и никто не хочет растить себе конкурентов. Поэтому везде очереди. Образования даже у наших заведующих отделениями часто нет — они учатся по видео на YouTube. Потому что из-за незнания иностранных языков, даже если они поедут учиться куда-то, они ж ничего там не поймут. В такой системе ну просто невозможно подготовить достаточное количество хороших онкохирургов.
— Представим себе такое: вот у нас есть средний житель России, который заболел раком простаты, и у него есть определенные социальные гарантии в связи с этим. но при этом всем очевидно, что полностью бесплатно лечиться он не сможет: есть в госгарантиях дыры, которые нужно закрывать своими деньгами. первый вопрос — есть ли такое место, где рак простаты лечат бесплатно и хорошо? И второй — сколько нужно денег, чтобы закрыть финансовые дыры в госгарантиях?
— Количество денег не лимитировано. В большинстве московских больниц, где выполняются радикальные простатэктомии по государственным квотам, эти квоты зачастую кончаются уже в сентябре. Начиная с этого времени люди начинают оперироваться за свои деньги. В Москве цена за радикальную простатэктомию начинается с 500 тысяч рублей. Это, кстати, вполне себе хорошая цена, сравнимая с минимальной европейской.
— А если квота есть? сколько еще нужно?
— Не думаю, что что-то еще, кроме квоты, понадобится, если попасть в хороший центр. Однако ведь еще и не все центры хороши. Есть вроде бы уважаемые учреждения, которые работают по квотам, а специалиста, способного эти квоты отработать, при этом там нет. Номинально они эти операции делают, но делают их некачественно. Но если попасть туда, куда надо, по квоте, то все сделают нормально, и ничего больше не потребуется.
В общем и целом федеральные квоты — это неплохой финансовый инструмент стимуляции качества. Все же ими покрывается расход больницы и выплачивается гонорар хирургу. Получается, если хирург много оперирует по квотам, то он получает достаточно ощутимые деньги в месяц, что позволяет ему расти и развиваться, думая о качестве своей работы.
— А как тогда правильно выбрать клинику? по каким критериям? есть такие признаки?
— Лучше всего пообщаться с пациентами хирурга, врачами, которые его знают, при этом это должны быть опытные и авторитетные люди. Авторитет среди коллег заработать сложно.
Надо узнать, насколько к врачу сложно попасть. Если очереди большие, то оно того стоит, ведь это значит, что операций у него много. Нужно посмотреть его публикации, пишет ли он, и так далее. Важно узнать, сколько операций он делает в год.
На Западе есть сервисы по оценке врачей, но и там тоже все не точно.
Однако, я бы все же опирался на медицинский инсайд — надо иметь знакомых врачей.
— Ну вот у меня медицинский инсайд такой, что, кажется, уже дальше некуда. но я не знаю, как оценить врача. классная метрика с количеством операций, но где бы ее взять?

— Да, эти данные никто не выкладывает. А еще часто доктора, которые все же пишут об операциях и их количестве, умножают его порой в разы.
У нормального совестливого, заботливого специалиста есть своя инфраструктура, он окружает себя хорошими людьми. Его команда — его отражение. Поэтому если говорить о простатэктомии, то идти нужно от человека, а не от учреждения. Репутация хирурга может легко быть оценена по репутации его команды.
— А вы можете назвать пять клиник, где есть команды, которые способны качественно лечить рак простаты?
— В Санкт-Петербурге — Алмазовский центр, Клиника МЧС, НМИЦ Онкологии имени Н. Н. Петрова. В Москве — 50-я больница, Боткинская больница.
Но тут надо помнить, что важен человек, а не место. Так что если команды из этих центров перейдут в другие центры, то все качество уйдет вместе с ними
Платная медицина: такое возможно? [Реальное время]
Почему современная медицина не лечит? Натуропация. Нутрициология
Николай Левашов о медицине