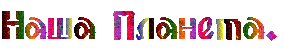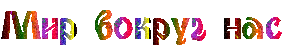|
Мир поэзии
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 05.11.2024, 04:01 | Сообщение # 1551 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Кто из нас не терял головы,
Ослеплённый таинственным светом?
Но попробуй тот свет улови,
Даже если родился поэтом.
Воссиял, закружил и померк,
Воротились постылые будни.
Замедляется времени бег,
Продолжаются козни и плутни.
Наказаньем становится сон
Для души воспалённой и ждущей.
Не забудешь, как был потрясён
Дивной музыкой, с неба идущей.
Вдруг проснёшься в холодном поту,
Ощутив нестерпимость желанья
Бросить всё и ступить за черту,
Вдаль, откуда исходит сиянье.
* * *
Стало грустно. Сел, притих
И не сделаю ни шагу:
Нету вымыслов таких,
Чтоб слеза прожгла бумагу.
Лживым словом не мани,
Будь оно свежо и ало —
Мне фантазии мои
Только сердце нашептало.
Я без компаса найду
В поднебесной круговерти
Путеводную звезду,
Уводящую в бессмертье.
И когда наступит час
Неземного вдохновенья,
Я заплачу в первый раз
От её прикосновенья.
***
Отец пришёл с войны живой,
Не ранен, без медали,
И только в том передовой,
Что с матерью скандалит.
Одеколон, как воду, пьёт,
Для дела не годится,
Друзей по пьянке лихо бьёт
И тюрем не боится.
Всё для него уже в былом:
Любовь, семья, работа...
Лежит в болоте за Днепром
Его штрафная рота.
***
Вырос в поле Глупенький
Василек Голубенький.
Не понять ему
Никак,
Почему же
Он сорняк?
***
Есть и в боли счастья доля.
Дело вовсе не в тоске.
Довелось по доброй воле
Повисеть на волоске.
Наплыла на солнце туча.
Завилась тропа в клубок.
И твоя звезда падуча,
Сизокрылый голубок.
Полетали – и довольно.
Мир оборванной струне.
За себя не так уж больно –
За других больнее мне.
* * *
Осень спешила, шумел листопад,
Падала с клёнов незвонкая бронза,
Я по оранжевым листьям ступал,
Как по осколочкам солнца.
Кто меня выманил, кто пригласил
В жгучий буран красоты и печали?
Каждый листок от тоски голосил,
Бурые ветки молчали.
Может, впервые подумалось мне:
«Время свой бег не замедлит.
Мир без меня обойдётся вполне.
Мне-то его кто заменит?»
* * *
Журавлиный клин
Расколол зарю.
Я стою один.
В небеса смотрю.
Наползает мрак.
Потемнел восток.
Не пойму никак,
Отчего восторг?
Быть зиме пора.
Я и ждал зимы.
Может, снег с утра
Побелит холмы.
Журавли грустны.
Мне же грех страдать.
Я опять весны
Начинаю ждать.
* * *
Ясно, звёздно, морозно,
Ветерок, тишина.
Домик маленький в соснах —
Два горящих окна.
Паутинка-тропинка
Меж сугробов крутых.
Вот такая картинка.
Зарисовочка. Штрих.
***
Звон малиновый,
Звон лиловый!
Солнце лупит в колокола.
Не хватает всего лишь слова,
Чтобы улица в пляс пошла.
Вот народец —
Они уж пляшут?!
Эх, раздайся,
И я спляшу!
Только кудри свои приглажу
Да подруженьку приглашу.
К черту шубу
И шапху к черту!
Посмотрите, как я могу!
Ух, вприсядку!
Ведь я не гордый,
Не останусь
У вас в долгу!
А девчонка, моя девчонка…
Недотрога,
Она ли то?!
Удержи-ка поди
Бесенка, —
будто птица —
В руке платок.
Что вам пава!
Куда там лебедь!
Кровь горячая с молоком!
Пьяный дед
Целоваться лезет,
Тоже выглядит молодцом!
Эх, Россия!
Народ бедовый!
Нет родней моего села.
Звон малиновый,
Звон лиловый,
Солнце лупит в колокола!
Темнота. Огонь погас
В маленькой печурке.
Не завязывая глаз,
Мы играли в жмурки.
За стеною, воя зло,
Лютовала вьюга.
И минуты не прошло,
Мы нашли друг друга.
Ты шепнула: «Не балуй».
И расцвел надеждой
Самый первый поцелуй
В темноте кромешной.
Не сгоревший уголек
Осветил нам лица.
Этот вечер так далек,
Как он часто снится.
***
Добрая да красивая,
Скромная да несмелая,
Речка моя ты синяя,
Вишня моя ты белая.
Месяц тобой любуется,
Звёздам улыбка нравится.
Петь бы тебе, не хмуриться,
Цвесть бы тебе, не стариться.
Быстро весна кончается…
Было бы лето славное!
Рано тебе печалиться,
Рано рыдать, желанная.
Что я один не сделаю,
Сможет любовь всесильная.
Вишня моя ты белая,
Речка моя ты синяя.
***
От мороза ли
Щеки розовы?
Или ветер их целовал?..
Ты стоишь одна
Под березами,
Спрятав пальчики в рукава.
Ой, красавица,
Ой, курносая,
А морозец-то не шутник.
По березонькам,
Тихо ползая,
Сыплет иней за воротник.
В шубку беличью
Забирается,
Устилается на груди.
Сердце девичье
Взять старается…
Ну, морозище, погоди!
Понесут меня
Кони добрые.
Прямо к миленькой подскачу.
Протяну я ей
Руки теплые
Да на саночках прокачу.
Сани легкие.
Кони быстрые.
Ночь морозная не страшна.
В небе звездочки
Вьются недрами,
Пляшет кругленькая луна.
Что задумалась,
Несравненная?!
Колокольчики —
Нет звончей!
Печка русская,
Горяченная,
Губы милого
Горячей!
***
Две недели завлекала,
Зажигала — как могла.
Загорелся вполнакала —
В доме сумерки и мгла.
Обольстительные речи
Обольщают — как и встарь.
Стеариновые свечи
Обменяю на фонарь.
Ватой стеклышко надраю,
Подровняю фитилек.
Я горю, да не сгораю,
Подпираю потолок.
От меня не жди измены,
Верен слову сукин сын:
Поднялись на счастье цены,
А еще на керосин.
***
Подождем до рассвета.
Ночь — обманчивый друг.
Снова слышится где-го
Неразгаданный сту..
Ну, чего испугался?
Ах, постой, погоди!
Я теперь догадался:
Это сердце в груди!
Застучало тревожно,
Не заглушишье его.
Все нам, милая, можно,
И нельзя ничего.
***
Это платьице в горошек,
Эта родинка на шее
Мне сокровищ всех дороже,
Всякой радости важнее.
А ещё твои глазищи
Не забыть мне ни в какую.
Пусть никто тебя не ищет,
Я давно ищу такую.
Ты души моей отрада,
С виду – девочка-подросток.
Мне тебя потрогать взглядом
Иногда и то непросто.
Мы ещё не совершили
Ни одной большой ошибки,
В сине море не уплыли
Золотые наши рыбки.
Вот идёшь ты по тропинке
В продувном своём платочке,
Расступаются травинки,
Улыбаются цветочки.
Хороша до неприличий,
От людей глаза не пряча,
Ты идёшь под гомон птичий
Сквозь негромкий лай собачий.
Я боюсь: подхватит ветер,
Унесёт тебя куда-то.
Ты же лучшая на свете,
Ты души моей отрада.
Мне грустить не позволяет
Благодатная погодка.
Веселит и умиляет
Божий мир твоя походка.
Я – не ангел за спиною
И не демон в стильном фраке.
Ты останешься со мною
И заткнутся все собаки.
Станут мне ещё роднее
До мурашечек по коже
Эта родинка на шее,
Это платьице в горошек.
Для тебя и солнце светит
Даже ночью, если надо.
Ты же лучшая на свете,
Ты души моей отрада.
* * *
Я в малиннике без малины
Заливаюсь, как соловей,
Покоряясь неумолимой
Песне молодости своей.
Бор сосновый — не корабельный,
Не строительный — дровяной.
Если б звери не оробели —
Познакомились бы со мной.
Я у ёжика взял иголки,
Я у волка украл клыки.
В пыльных дулах моей двустволки
Поселяются пауки.
За глоточек водицы свежей
Золотые часы отдам…
Поселился в лесу, как леший, —
Вы не бойтесь меня, мадам.
***
Неиссякаемый родник
Любви к тебе меня питает.
Возьму судьбу за воротник,
Посмотрим, кто кого пытает.
Ни ты ко мне, ни я к тебе
Кривых тропинок не торили.
Во всём покорствуя судьбе,
Особых бед не натворили.
Но час пришёл, но миг настал,
Когда меняются понятья.
Трещит хрустальный пьедестал,
Толкает бес греху в объятья.
Но извини. Какой тут грех,
Какой ценой награду купишь,
Когда ты мне дороже всех,
Когда и ты чуть-чуть, но любишь.
Вдруг это чудное «чуть-чуть»
Блаженством райским обернётся?
За всё прости, про всё забудь,
Испей водицы из колодца.
***
Спи, моя желанная.
Выцвела заря.
Ветром с поля бранного
Убрана зола.
Разлетелось, каркая,
вороньё.
Смотрят звёзды яркие
на жнивьё.
И пока до полночи
далеко,
Пьют из речки белое
молоко.
Спи, моя хорошая,
О былом скорбя,
Никогда не брошу я
Камушком в тебя.
В сны твои наведаюсь
я тайком —
Нежным, незапятнанным
васильком.
Из венка небесного
упаду,
Как тебе предписано
на роду.
Спи, моя любимая,
И прости меня.
В сердце голубиная
Песня-воркотня.
Взмыли сизокрылые
в облака
И забыли милую
на века.
Кабы я покинутым
не бывал,
Эту колыбельную
не певал.
Спи, моя бесценная,
Время лечит нас.
Ты — моя Вселенная
В этот звёздный час.
Что мне птицы-вороны
и цветы?
По любую сторону —
только ты.
Повторился осенью
месяц май.
Спи, моя курносая,
баю-бай.
***
На губах травинка слаще меда.
Выше счастья ты мне и не дашь.
Быть счастливым — разве это мода?
Быть любимым — разве это блажь?
Облака густые раздвигая,
Одиноко шествует луна.
Разве ты сегодня не такая?
Разве ты сегодня не одна?
Не была ты жгучею крапивой
И малиной тоже не была —
Ты ромашкой, самою красивой,
На поляне выжженной взошла.
* * *
Одарила своим появленьем
Тёмный скит без огня и души.
Уходила с таким сожаленьем,
Хоть садись и романы пиши.
Но роман ли? Что с нами случилось?
Не туман ли меня закружил?
В том тумане ты ясно лучилась.
Я родился и заново жил.
Я родился красивым, крылатым,
Две стези во единую свёл.
И под взглядом твоим виноватым,
Словно папорот, в полночи цвёл.
Ты ушла, ты сорвать не решилась,
И померк обезличенный мир.
Знать не надо, чего ты лишилась:
Или свет этот станет не мил.
***
Звякнула льдиной зима у порога.
Чуден узор на стекле.
Хватит же, слышишь, моя недотрога,
Нежиться дома в тепле.
Первый морозец, шалун и задира,
Хочет с тобой поиграть.
А про меня ты, конечно, забыла.
Что обещала вчера?
Наши прогулки в заснеженном парке
На год запомнили мы.
Вот тебе новые лыжи и палки —
Скромный подарок зимы.
Рада слепящему солнцу и шутке,
Щуря глазенки свои,
Стройной снегурочкой в беличьей шубке
Ты у калитки стоишь!
***
…И распрощались мы весной,
Цветущею, зеленою.
Делю с березой и сосной
Любовь неразделенную.
Не подыскал я нужных слов,
Не спел хороших песенок.
Но и без них среди цветов
Мне так сегодня весело.
И было вовсе ни к чему
Черемуху обламывать.
Не захотелось никому
Друг друга нам обманывать.
Я настоящую любовь
Прожду до лета раннего.
Зачем картину и лубок,
Не различая, сравнивать?
***
Соловей не поет.
Куст ракитов засох.
Помню имя твое,
Помню горестный вздох
Помню запах волос
И тепло твоих рук.
Из-за белых берез
Ночь нахлынула вдруг.
Соловей не поет.
Куст ракитов засох.
Длилось счастье мое
Только восемь часов.
Ногам не даю покоя.
Хоромы мне стали тесными.
Брожу над ночной рекою.
Русалок прельщаю песнями.
У лешего храп могучий.
Лохматому все до лампочки.
Я елкам, сбежавшим с кручи,
Приветливо глажу лапочки.
Под вербой, у кромки берега.
Где ветер жует сенники,
Мне встретился зайчик беленький
С письмом от самой Синильги.
Пойду поскорей, порадую
Красотку зеленоглазую.
Похвастаюсь ей нарядами,
По сосенкам с ней полазаю.
Сокровищам знаю цену я.
Недешево стану спрашивать,
Брусники лукошко целое
Нарву ради счастья нашего.
***
Между нами не пропасть, не горы
Небольшой разговор по душам.
Может, я нехороший, но гордый.
Ты не гордая, но хороша.
Словно лопнули струны гитары,
Рухнул мост меж крутых берегов.
Только кажется мне, что недаром
Заменял я собой бурлаков.
Огибая коварные мели
И садясь отдыхать на пеньки.
Мы немало с тобой одолели
Километров опасной реки.
Неужели у самого устья,
Сердцем чувствуя пенный прибой,
Без улыбки, без слова, без грусти
Мы навек разойдемся с тобой?
***
Вторая молодость пришла,
Когда стучался в дверь « кондратий».
Как ты посмела, как могла
Лишить меня своих объятий?
Я над собою хохочу,
Но ты нужна мне , словно воздух.
Я так мечтаю, так хочу
Лететь с тобой к далёким звёздам.
Давай немного погодим,
Не кони мы, что в скачках быстры.
Чуть поторопимся,- сгорим
От первой настоящей искры.
К столу присядем, помолчим.
Ведь этот мир устроен мудро.
Никто к нам в дверь не постучит,
И будет день, и будет утро.
***
В час прощанья попросим прощенья:
Друг у друга мы оба в долгу.
И какое имеет значенье
То, что я без тебя не могу?
Слишком гордых удача не любит.
Остальное почти ни при чём.
«Мы чужие, мы разные люди», –
Я в глазах твоих строгих прочёл.
Ты рукою махнёшь и уедешь,
Ты уедешь, куда позовут…
А в лесу нашем только медведи,
Да и то неохотно живут.
Обманусь: мол, прошло увлеченье,
Над самим же собой посмеюсь.
И какое имеет значенье
Эта тихая с горечью грусть?..
***
Я не бледный цветок подземелья,
Грело солнце мои лепестки.
Было всё: куражи и похмелье.
Жизнь текла в обрамленьи тоски.
Боль светла. За тоскливые ноты
Не привяжут с позором к столбу.
Не строчат у меня пулемёты.
Я – приятель гнилому грибу.
Слышу голос обиженной мухи,
Комара боевитый сигнал.
Но, друзья, это выдумки-слухи:
Я и мух не особо гонял.
Не гонялся за синею птицей,
Прилетела сама на крыльцо.
Целовал, называя сестрицей,
А она не узнала в лицо.
Слёзы выплакал, глазоньки сухи.
Душу выплеснул в эти стихи.
Но куда её злобные духи
Волокут? За какие грехи?
***
Хочешь знать, как в разлуке я здравствую?
Ты и думать забудь обо мне!..
Заграбастаю щуку зубастую,
Буду жить под корягой на дне.
В речке тинистой скука не водится,
Но сидит завсегда Водяной.
А уж он-то о нас позаботится,
Чтоб любовь проплыла стороной.
Рубашонку сошью полосатую,
Отращу пострашнее усы
Да большую улитку рогатую
Прицеплю на карман для красы.
До чего же работа приятная —
Плавать с хитрым сомом наравне!.
До чего ж без тебя, ненаглядная,
Скрыться в омуте хочется мне.
***
Чем рискую? А ничем.
По-собачьи сплю да ем.
И люблю тебя такую,
Несерьезную совсем.
Не с дровами тянем воз.
Что упало? Вот вопрос.
Непривычен, не приучен
На цепи сидеть барбос.
Мясоедом и постом
Мух ловлю щербатым ртом,
За тобой гоняюсь, дурень,
Как за собственным хвостом.
Ты — горчица, а не мед,
Я — колхозный анекдот.
Несуразного такого
Кто полюбит, кто поймет?
***
Вы напрасно за мной ходили:
Я с нуждой — не разлить водой.
У меня штаны худые,
И карман у меня пустой.
У меня голова дырява,
Даже имя свое забыл.
На окошке цветок деряба,
За окошком — бурьян да пыль.
Все меняется в этом мире,
Не меняюсь лишь я ничуть.
Дохнут мухи в моей квартире,
Не найдя ничего куснуть.
Сам с собой не найду я сладу,
Не могу по-другому жить.
Мне хотя б на штаны заплату,
Мне хотя бы карман зашить…
* * *
Кто сказал, что прозябаю?
Бодр и весел, сыт и пьян!
Девы бегают к бабаю,
Принимаю обезьян.
В хате смородом не пахнет.
Чай смородиновый пью.
Поглядят любой и ахнет,
Зря продукцию мою.
Не игрушки, а конфетки
В ряд на полочке стоят.
Избалованные детки
Мне спасибо говорят.
Оделяю деток щедро,
Словно все — моя родня,
Хоть поболе километра
Деткам ходу до меня.
Чиж поет, и сердце тает.
Мозг без водки во хмелю.
Так чего же не хватает
Молодому бобылю?
***
День от ночи отличу,
Чёрный день от ночи белой.
Сядь поближе к скрипачу,
Над собой усилье сделай.
Поломался мой смычок,
Заменил его лучиной.
Соревнуется сверчок
С озабоченным мужчиной.
Тихо скрипнула кровать,
За окном вздохнула ива.
Чем тебя очаровать,
Если музыка фальшива?
Матом скрипочку покрыл
И смычок погнутый прелый.
Прилетел амур без крыл,
В голый зад вонзает стрелы.
День ли, ночь ли,- всё равно
Бесполезная затейка.
Музыкантишко – говно
И цена ему копейка.
***
Но я не винтик и не гвоздь,
Пусть выгляжу комически.
Я – на земле нежданный гость.
Я – диверсант космический.
* * *
В тихом омуте черти водятся,
А не окуни да лещи.
Сбереги меня, Богородица,
Мимо омута протащи.
Поопутал хмель мои удочки,
Сердце тиною обросло,
А свободной нет ни минуточки:
Совершенствую ремесло.
Топором тешу пни дубовые,
Нет ни краю им, ни конца.
Гей вы, девицы чернобровые,
Иль не видите молодца?
А вода в реке — сажа чёрная,
Отражается в ней беда.
Голова моя непокорная
Да козлиная борода…
***
Пришла ко мне паломница
В соломенный шалаш
Ей что нибудь обломится
Таков характер наш
Советам батьки следую
Любую в дверь впущу
Блудницу исповедую
В святую обращу
Глаза мои не очи ведь
Предательски косят
Ох соблюдайте очередь
Не рвите волося
Да будут приголублены
Смятенные сердца
Все пальчики отрублены
У Сергия отца.
***
Жил, на целый свет окрысясь.
Все едят, а я — говей?..
Вдруг прислали десять тысяч.
Пискнул в брюхе соловей.
Подлетели кверху гирьки
На тарелочке с нуждой.
Накуплю лапши да кильки,
Побегу, как молодой.
Отскребли на сердце кошки,
Не успел я духом пасть.
Разноцветные сапожки
На одну сменяю масть.
Всех врагов оставил с носом
Важен, как архиерей.
Буду пользоваться спросом,
Словно просо у курей.
Навострил Пегас подкову,
Бьет копытом: и-го-го!
Ой, спасибо Базанкову
И компании его!
***
А земля ещё крутится…
Погоди, не грусти.
Мне мешает распутица
До тебя добрести.
Непогожа погодушка,
Хуже – век не была…
Подари мне, лебёдушка,
Хоть перо из крыла.
Кто печалью не делится,
Тот и в радости глух.
Снова под ноги стелется
Серый галочий пух.
От его изобилия
Стали серыми дни.
И тебя, моя милая,
Закружили они.
Но мне, грешнику, верится,
Что придёт к нам тепло!
Ведь земля ещё вертится
Непогоде назло.
* * *
Зима. Хорошая погода.
Сиянье снега. Тишина.
Я на тебя смотрю полгода
Всё из окна да из окна.
Влюблён без памяти? Едва ли,
Никто мне повод не давал.
А на окне цветы завяли –
Давно я их не поливал.
Не скажут мёртвые герани,
Как душу грешную спасти.
Моя зима не за горами.
…Твоей весне ещё цвести.
* * *
Заманила роща жёлтая
И не хочет отпускать.
Позабыл, куда и шёл-то я,
Звать кого, кого искать…
Все находки и подарки
За плечами в узелке.
Точно звёздные огарки
Тлеют листья на песке.
Подниму один, понюхаю.
Попрощаюсь насовсем.
Я последнею краюхою
Поделился бы… А с кем?
* * *
Мне хорошо в моей глуши,
Далёк исход её плачевный.
Для очищения души
Вхожу я в лес, как в храм священный.
Молюсь колодинам да пням,
Иных богов не признавая.
Деревья смотрят на меня,
И в каждом есть душа живая.
Природы славное дитя,
Я, человек, её обидел
И, о потерянном грустя,
Её врагов возненавидел.
Природа – ласковая мать,
Грешно над нею нам смеяться.
Мы научились покорять,
Но разучились поклоняться.
***
Зачерпну из бадейки воды,
Тупоносые сброшу ботинки.
От окошка до ближней звезды
По хрустальной скользну паутинке.
Положу тишину на зубок,
Оторву лепесток у потемок.
Нераспутанных мыслей клубок
До утра прокатает котенок.
На рассвете растает звезда,
Брызнет утро березовым соком,
Заиграет в бадейке вода,
А ботиночки скрипнут с упреком.
***
Кто из нас не терял головы,
Ослепленный таинственным светом?
Но попробуй тот свет улови,
Даже если родился поэтом.
Воссиял, закружил и померк,
Воротились постылые будни.
Замедляется времени бег,
Продолжаются козни и плутни.
Наказаньем становится сон
Для души, воспаленной и ждущей.
Не забудешь, как был потрясен
Дивной музыкой, с неба идущей.
Вдруг проснешься в холодном поту,
Ощутив нестерпимость желанья
Бросить всё и ступить за черту,
В даль, откуда исходит сиянье.
***
Мрачна моя опочивальня,
И мрачен свет в окне ночном.
Но изумительно хрустальна
Печаль о памятном былом.
Еще не справлены поминки
По тем несбыточным мечтам,
Где в каждой капельке-росинке
Построен мною Божий храм,
Где дивный сад, в котором птицы
Поют зарю в жару и стынь,
А родники живой водицы
Поят солодку и полынь.
Пускай душа лакала зелье,
Непотребимое скотом,
Она справляет новоселье
В парящем замке золотом.
Еще трагичней и нелепей
Бывали беды от разрух.
Мечта жива, покуда в склепе
Любви не выветрился дух...
Сергей Александрович Потехин
_________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 05.11.2024, 18:18 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 09.11.2024, 16:51 | Сообщение # 1552 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Среди тишины, покоя,
За самою дальней рекою,
Под вышней охраной небес
Одна деревенька есть.
А в той деревеньке, кроме
Всех прочих домов есть домик,
В котором отца и мать
Учился я понимать.
Для памяти и поклона
От них осталась икона:
Георгий змею поражает,
Змея же ему угрожает.
Лик воина сосредоточен,
Змеюке глядит он в очи.
Копье под его рукою
Полно тишины, покоя.
С такою же тихой властью
Над каждой моей напастью
Мать нитку в иголку вдевала,
Рубаху мне зашивала.
С такой же святой отвагой,
В сиянии слезной влаги,
Отец у военкомата
Меня провожал в солдаты.
…Страну мы сдали без боя,
Не стало в стране покоя,
И тишины не стало.
И жизнь себя – долистала.
Лишь в небе светло да ясно,
Лишь в памяти не напрасно
Мать нитку в иголку вдевает,
Рубаху мне – дошивает,
Отец меня – провожает,
Георгий змею – поражает…
* * *
Все было так: привычно и светло
в тазу ждала согретая вода;
прозрачно пузырился над столом
мой первый крик;
блестели провода;
кружились ласточки,
и на короткий миг
на малую мою ладонь
садилась вдруг одна из них.
А вечером в печи пылал огонь,
и надомною наклонялась мать.
Я слушал только сказки.
Мне
была дана способность понимать
всё то, что не случалось на земле.
* * *
В моем окне
живет пейзаж.
Там ласточки и дети суетятся,
там лето на рассвете
просыпаться любит,
а люди там живут
по замыслу неведомого мне
художника .
***
После дождика в лесу отрада,-
Русский дух берёзовый так сладок!
На берёзках высохли слезинки,
Спрыгнули дождинки с паутинки.
Прошептала капля дождевая:
Не печалься, жребий постигая.
Радуга светилась по-над лесом,
Как прекрасен Божий мир,чудесен!
Расступилась роща величаво,
На опушке музыка звучала:
Жаворонок пел на небе звонко,
Славил он родимую сторонку!
И сказал мне ангел, потихоньку:
Бог тебя прощает, как ребёнка.
***
РЫЛЬСК
На тысячу долгих лет
К горе пришпиленный город
Сначала велик был мне,
Затем стал, как тесный ворот.
Мне так хорошо было в снах
Его запыленных блуждать.
А отряхнув их прах,
Мне вольно было сбежать,
Невольно чтобы узнать,
Что без него в пути
Посеянное – не сжать,
Потерянное – не найти.
***
У бабушки Натальи
Глаза – аквамарины
Колдунья из былины
Как-будто стала явью.
Вещунья и гадалка
Пронизывала взором
И пособляла хворым,
Бабулечка – Наталка
И чувствуя кончину
Со мной она прощалась:
Прости мою усталость,
Прости, что вас покину.
И обещай одно мне –
Попробуй быть счастливым!
И я нетерпеливо
Ищу. Бабулю помню.
* * *
Я одинокий охотник,
Без дома живу охотно,
Сыплю порох под кремень,
И убиваю время.
Так и прошли – во сне –
Детство мое на коне,
Юность в вине и во вне
Того, что должно быть во мне.
Но время тоже не плотник,
Не сеятель и не жнец.
Но время тоже охотник,
У нас с ним один конец.
***
Москва, ты навсегда - мое кочевье,
Где не дрожит от топота трава…
Не спрашивай же, кто я, и зачем я
Не произнес, а преподнес сии слова.
Так повелось: за далью даль, за данью
Чему-то дань. И вот уже настал
Тот день, когда всего себя отдал я
Твоим камням и вековым крестам.
***
Северное счастье -
Дождик да ненастье,
А куда деваться?
Надобно смиряться.
Нищему одеться –
Только подпоясаться,
Голому согреться -
В снеге изваляться.
Царствуют барыги,
Стражники–ярыги,
Каркают вороны,
Пачкают иконы.
Развелося власти
Тучами, до страсти,
Подати - как пытки,
И нажитки житки.
Северное счастье -
Дождик да ненастье
А куда деваться?
Надобно смиряться.
***
О НЕКОТОРЫХ НАШИХ НАПРАСНЫХ СВОЙСТВАХ
Царю тому на верность присягну,
Кто возвратит России Севастополь!
(Валентина Ефимовская)
Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом...
(Николай Рубцов)
С возрастом я начинаю воспринимать всю свою жизнь в виде пространства, поделенного пополам. И если одна половина похожа на мой письменный стол, где каждый клочок бумаги и каждая книжка ждут своего срока, то вторая остается подобной темному чулану, где неприкаянным хранится все, что было однажды обретено, но – вдруг оказалось ненужным.
Например, с тех пор, как лет в семь я сумел с высоты бруствера той канавы, что окаймляла наши огороды, без сторонней помощи усесться на просторную лошадиную спину и, умирая от ужаса и восторга, вроде бы как промчаться аж до дальнего, в небо упирающегося Бугра и обратно, должен был бы я стать на всю жизнь заядлым лошадником. По крайней мере, войдя во вкус, я мастерил из отцовских запасов сыромятной кожи кнуты и уздечки, изукрашивал их алюминиевыми заклепками, плетениями, а также разного веса китецами. Но однажды и кнуты, и уздечки, и самодельный сапожный ножик, и шильце, и мотки смолёной дратвы вместе с запасами толстенной алюминиевой проволоки я подарил племяннику, уже подрастающему, уже на мои богатства жадно поглядывающему.
А случилось это после того, как отец вручил мне самодельный ящик с плотницкими и столярными инструментами.
Но прежде, чем я этот воистину царский подарок от него получил, к нам зашла баба Миланья и попросила моего отца вкопать ей новый присошек для калитки, поскольку старый сгнил и отломился. Отцу же надо было убегать по своим делам, так что пообещал он присошком заняться либо вечером, если возвратится не затемно, либо на следующий день.
А как только он из дома ушел, я отправился к двору бабы Миланьи самолично.
Она уже орудовала тяпкой на своем огороде. Так что без её пригляда я выкопал яму на глубину трухли от присошка старого, затем черенком лопаты утрамбовал землю вокруг присошка нового, найденного в миланьиной куче для дров. Затем, как это делал отец, вытесал и вбил вплотную к присошку основу под пятку самой калитки. Затем калитку поднял и петли её приколотил с помощью проходившего мимо деда Яшки – уже дряхлого и потому с трудом понявшего, что двор бабы Миланьи я не ломаю, а ремонтирую.
Баба Миланья, когда я её позвал принимать работу, заплакала. Отец тоже по возвращению домой сходил к миланьиному двору. Долго сопел носом. Из одной прикрепленной к присошку петли гвозди как бы невзначай вынул и прибил её заново, так чтобы калитка "гуляла свободней". И много народу к нам подошло. При этом мужчины, для пущей важности поплевав на ладони, вроде как пытались вкопанный мной присошек изо всех сил пошатнуть, а женщины, поохав и поахав, стали именовать меня исключительно Иванычем по примеру деда Яшки, который тоже чувствовал себя героем, и во все последующие дни, пока ноги ему позволяли выползать из дома, он, завидев бабу Миланью, охотно кричал ей: "Как там поживает наша с Иванычем калитка?"
Но кроме бабы Миланьи жили на нашей улице другие вдовы. Одни, как Миланья, в войну потеряли и мужей и сыновей, другие – сыновьями обзавестись до войны не успели. Так что в течение лета я все неприкаянные дворы и хатки обошел, все их плетни и садовые загородки выпрямил, всем ихним шатающимся скамейкам и табуреткам распорки к ногам прибил, а бабе Олене даже поставил заплатку в полу сарая, где стояла у нее корова.
Думаю, даже Наполеона после всех его побед над Европой Париж не встречал с таким восторгом, с каким встречала меня моя улица, когда я, важно пошмыгивая, выходил со двора. "Вот, Иваныч идет, всем Иванычам он будет Иваныч!" – доносились до моих ушей со всех дворов и ото всех колодцев восхищенные женские голоса. А мужчины первыми со мною здоровались и приостанавливали даже самые азартные свои разговоры. Так что, если б я попросил у них закурить, то, по первоначалу, они бы наперебой стали предлагать мне свою махорку, и только задним числом бы опамятовались. Даже мой суровый отец, запоздало обнаруживший, что его запасы драгоценной сыромятной кожи почти ополовинены, только-то и спросил: "Неужели ж я тебе отказал бы, если б ты по-человечески спросил у меня разрешения?" И я уже не из страха, а из великодушия не стал ему объяснять, что с его разрешения свои кнуты и уздечки я вынужден был бы изготовлять из самых коротющих и неудобных обрезков. "Ну, ты, слава Богу, из баловства уже вырос", – смирился и отец, твердо уверовавший, что я стану таким же, как он, рукастым.
И на следующий день я получил от него в личное пользование ящик с теми инструментами, которым, конечно же, была у него более достойная замена, но – очень уж для меня драгоценный.
И – вопреки ожиданиям отца, оказавшийся в ящике столярный карандаш с необыкновенно мягким и толстым грифельком пробудил во мне еще и интерес к рисованию. Так что все, что у нас в школе затем появлялось в коридорах в виде стенгазет, досок почета и прочего, было намалевано моей рукой. Однако же, о своем самодеятельном умении рисовать я затем вспомнил в своей жизни лишь пару раз. Когда служил в Армии, то для выполнения оформительских работ меня иногда освобождали от однообразных боевых дежурств на неделю и дольше. И еще я взялся за кисти, чтобы расписать орнаментами храм в винницком городишке Чечельник и тем самым заработать денег перед женитьбой.
Кроме того, очень часто, как самый счастливый сон, я вспоминаю бесконечную морскую гладь – то синюю и легкую, как невесомый воздух, то зеленоватую и изукрашенную белыми рунами пены, то мускулистую и свинцово-серую, а иногда по утрам – молочно-белую, а затем розовую, а затем – ослепительно-золотую, а на закатах – даже не могу сказать, какую. И особенно мне нравилось стоять за штурвалом нашего старенького сухогруза "Мингечаур" ночью, когда по его, оказывается, не такому уж и крупному корпусу пробегали судороги под ударами волн, когда брызги с хрустом впечатывались в стекла рулевой рубки, а я, распахнув рот, выскуливал занемевшим от восторга горлом некую свою полную ярости мелодию, и она полновластно вплеталась своей хоть и утлой, но живою нитью в выдыхаемую морской стихией великанью симфонию.
Четыре часа такой вахты пролетали, как один миг!
Однажды капитан вошел в рубку именно тогда, когда я, удерживая судно против волны, уже не скулил, а вопил, как резаный.
От смущения, я изогнулся над штурвалом в три погибели. И уши мои запылали так, что я даже услышал треск своих волос.
Но – сняв мокрый плащ и озабоченно взглянув на картушку компаса, капитан подивился только тому, что берегового огня с мыса Тарханкут все еще не видно.
– На всякий случай ты градусов на пять влево забери и так удерживай, – велел он. – А то даже не заметишь, как в этот Тарханкут врежемся.
И не без облегчения я понял, что мое свойство впадать во время шторма в обморок звериного пения не такое уж и редкое, что, может быть, даже и он, наш вечно хмурый капитан, такой, как я, созвучный природным вызовам человек.
Три года я был рулевым матросом. Но надо было куда-то девать скопившиеся у меня тетрадки со стихами. И однажды я от моря проснулся, из сердца его навеки вырвал, купил билет на поезд и умчался непонятно куда и с непонятно какою новою жаждою.
И если, например, в Киеве я сразу же стал тяготиться работою на стройке в качестве электромонтажника, то в инструментальном цехе волгоградского завода "Красный Октябрь" я прикипел к токарному станку намертво. Так что мой наставник дядя Миша (так он велел себя называть) уже через месяц на спор с другими токарями вместо нарезания гаек или шайб поручал мне даже свою хоть не трудоемкую, но на доли микрон, работу, а я – благополучно справлялся.
А однажды в вестибюльчике нашей душевой он вдруг остановил меня за локоть и строго велел:
– Ты здесь стой и гляди на вон того человека, пока он не оденется и не уйдет, а потом же мне скажешь, кем он тебе показался…
Решив, что дядя Миша опять с кем-то на мои свойства поспорил, я терпеливо стал наблюдать за невысоким мужчиной лет пятидесяти, не спеша одевавшимся возле своего вещевого шкафчика. Пока был он лишь в трусах и в майке, то от всех прочих токарей нашего цеха отличался он разве что почти подростковой щупловатостью и особой задумчивостью. Другие перешучивались, все время вступали друг с другом в короткие и ничего не значащие разговоры, а он даже мочалку и мыло укладывал в шкафчик с таким видом, словно решал самую ответственную задачу. И лишь когда он сначала одел немыслимо белую рубаху, а затем и дорогущий костюм с галстуком, мне стало ясно, что нашему брату он не чета.
– Ты уже уходишь, Андреич? – заторопился спросить у него такой же пожилой, но еще не успевший одеться токарь.
– Не торопись, Матвеич, я тебя до центра подброшу, – очнулся от своих, конечно же, важных мыслей этот особый человек.
И все, кто в голом виде, а кто в полуголом, затихли, на прощание стали один за другим пожимать ему руку.
– Бывай, Василич, – важно попрощался он и с мужчиной, оказавшимся рядом со мною. Однако, мне тоже была протянута выглядывающая из просторного белого манжета с серебристой запонкой узкая и мягкая кисть его руки.
– До завтра ж, – услышал я его смутный голос, обращенный уже именно ко мне.
Хоть и с перепугу, но все-таки попал я своею ладонью в его ладонь. А опомнился уже в душевой.
Дядя Миша, намыленный с головы до ног, ополоснул лицо и нетерпеливо спросил:
– Ну, как?
– Что ли директор наш здесь переодевается? – предположил я от растерянности даже самое немыслимое.
Эти мои слова были встречены всеобщим хохотом. Словно бы все уже сверх всякой меры натерпелись в ожидании вот этого моего вопроса, и, наконец, себе дали волю.
– Завтра я ж расскажу Андреичу, как ты его уже в директоры записал! – больше других веселился дядя Миша. А затем он же мне сообщил:
– Если хочешь знать, наш Андреич такой же, как и ты, токарюга! Только с его квалификацией зарплата у него в разы больше, чем у любого министра! И, как министр, на работу на черной "Волге" он приезжает! Вот так-то! Ты это понял?!
А насладившись моим недоумением, он оглянулся на токарей, разинувших от восторга рты, и воскликнул:
– Но я готов с кем угодно поспорить, что и мой вот этот рукастый ученичек в скором времени станет таким же мастером, как Андреич!
Разумеется, никто не принял его вызов всерьез.
Но я в этот день до общежития добирался пьяным от открывшейся мне на всю оставшуюся жизнь перспективы. Потому что работа токаря представлялась мне увлекательнейшей забавой. Лишь кнуты и уздечки я когда-то мастерил с таким же увлечением, с каким нарезал теперь даже примитивнейшие болты и гайки.
А когда я уволился, дядя Миша не то что руку не протянул на прощание, а даже и не взглянул на меня.
Я же успел к нему привязаться. И потому цех покинул, страдая от его на меня обиды.
Впрочем, в период своего блуждания по свету я вынужден был приобрести опыт расставания с людьми, к которым в буквальном смысле слова прикипал. Тот же капитан, которого сначала я ненавидел за его строгость и полное равнодушие ко всему, что не входило в круг его и наших обязанностей, вскоре стал казаться мне образцом истинного моряка. Так что, когда мне приходилось участвовать после вахты в тайном распитии кем-то припасенной бутылки или даже в более суровых нарушениях корабельной дисциплины, то чувствовал я себя чуть ли не предателем. И даже делился с товарищами своими переживаниями.
– Кэп наш нормальный мужик, – простодушно утешали они меня. – Но не Родине же мы изменили, а всего лишь, пока судно у берега стоит, пару девах заманили на борт.
– А если портовая милиция просечет? Нам-то ничего, а капитану влетит… – упрямо пытался я своих товарищей образумить.
Все эти мои верноподданнические к капитану настроения на экипаж не действовали. Да и сам я не мог оставаться в стороне от всех наших тайных и потому необыкновенно притягательных приключений.
А может быть, это только теперь мне кажется, что среди всех моих напрасных свойств была и жажда верноподданичества?
Но, в таком случае, отчего, в очередной раз уворовав колхозную лошадь и пустивши её в галоп, я представлял себя кавалеристом, мчащимся навстречу смерти ради чего-то более важного, чем сама моя жизнь? И калитку я не просто некоей бабе Миланье чинил, а вдове и матери героев, погибших в суровой битве с врагом. Да и стихи я стал пописывать только потому, что горло у меня трескалось от суммарного напряжения всех тех высоких смыслов, которые мне мерещились где-то далеко от нашего, как мне казалось, вечно погруженного лишь в работу и дремоту села. То есть, я, видимо, все-таки ощущал себя человеком, которому оставалось лишь во что-то вполне истинное уверовать и за что-то самое драгоценное побороться.
А когда, вдоволь наблуждавшись по свету, я наконец оказался у стен Кремля, то сердце мое заныло, а в голове зашумела кровь, потому что – вот же она, всему миру видимая Спасская башня, вот же воздел к небу свои бессмертные купола и испытующе на меня глядит Василий Блаженный, вот блестит брусчатка, по которой сам Жуков, принимая Парад Победы, процокал копытами своего белого рысака…
Ну, допустим, приехав Москву для поступления в Литературный институт и впервые добредя до главной площади страны, я ни о чем таком не размышлял, но – не менее часа простоял, как вкопанный, исподлобья озирая известные мне наизусть святыни.
И можно лишь сожалеть, что в Кремле в это время сидел старичок более ветхий, чем даже дед Яшка в пору моих плотницких подвигов, с трудом одолевающий своим речевым аппаратом все самые главные державные слова.
Однажды в Центральном доме литераторов писатель Василий Петрович Росляков, с которым я успел подружиться, под рюмку водки вдруг заговорил и о нашем Брежневе.
– Веришь ли ты, Коля, – с ожесточенным своим страданием сознавался он, – если б кто-то на фронте мне сказал, что вынужден буду я еще и плакать возле телевизора вот такими слезищами (Василий Петрович поднес к моим глазам две свои в полную ширину растопыренные горсти), что после Сталина сначала самодур, а затем маразматик будут править моей самой великой в мире страной, что на просторах от Тихого океана до Балтики государство наше уже не выкормит бычка на лишний кусок говядины для магазинных полок, то я бы в это не поверил… Да сроду не поверил бы я когда-то, что буду дожидаться, когда этот мешок с трухой из Кремля вынесут… И ты еще увидишь, какие гниды в Кремле вокруг этой мумии уже завелась... Сейчас они там тихонечко копошатся, а когда они всю власть себе заберут, когда свое мурло тебе покажут, ты их оттуда уже даже дустом не вытравишь!
Но за годы своих благополучных скитаний я нагулял себе столь оптимистический румянец, что все слова о заговорах против моей страны отлетали от моих щек, как горох. Так что хотя Василий Петрович был более чем в два раза старше меня, слушал я его надрывный глас с таким же сочувствием, с каким много чего повидавшие люди сочувствуют юношей, впадающих в уныние при первом крушении своих надежд.
И все-таки после этого нашего разговора заставить себя глядеть в телеэкран на Брежнева я уже не мог. И был я рад каждой встрече с Василием Петровичем прежде всего потому, что у него на виду я вдруг наполнялся, как при первом посещении Красной площади, торжественным предчувствием скорой бури.
А когда появился Горбачев, то росляковский глас: "Ну, повыползали из своих щелей! Повыползали! И что же они творят, что творят!" – уже для меня не оставался гласом вопиющего в пустыне. И газету "Московский литератор", я, едва став её редактором, сам того не осознавая, сразу превратил в первое оппозиционное издание.
Вот только радость великой победы, которую я в своем нетерпение догонял, сначала скача на привычной к любым тяготам колхозной лошади, затем – поправляя калитку бабе Миланье, затем – свирепо удерживая против штормовой волны старенький сухогруз "Мнигечаур", а затем и в качестве восставшего редактора, пережить мне так и не удалось.
Потому, может быть, таким своим теперь уже во всех смыслах напрасным свойством, как верноподданничество, я, едва подвернулся случай, позволил себе насладиться в полной мере.
А дело было так. Должен был я лететь на торжественную церемонию "золотого стыка" в газопроводе "Ямал – Европа". А тогдашний наш вице-спикер Сергей Бабурин, узнавши об этом, заявил мне, что сейчас же позвонит Президенту Белоруссии и договорится, чтобы тот со мною встретился. Не в силах придумать, каким может быть у белорусского Президента повод для такой встречи, я запротестовал.
– Да ты хоть представляешь, что ты, русский писатель, пожмешь руку последнему во всей Европе независимому национальному лидеру! – запротестовал и Сергей Николаевич, у которого с белорусским Президентом сложились свои отношения на почве их единой иллюзии в виде будущего российско-белорусского Союзного государства.
Поскольку к тому времени я прочитал все, что можно было прочесть и о генерале де Голе, изгнанному из Елисеевкого дворца оседланными ЦРУ студенческими волнениями, и о непокорном главе Италии Альдо Моро, расстрелянном управляемыми все тем же ЦРУ "красными бригадами", то возможность вживую увидеть уже действительно последнего политика из этого героического ряда так меня вдруг взволновала, что я отказался от предложения Сергея Николаевича самым решительным образом.
А церемония "золотого стыка" (это когда сварщики, экипированные в новенькую, пока еще не обмякшую спецодежду, под оркестр и аплодисменты сваривают в трубопроводе последний шов) проходила в открытом поле. И у не успевшего покрыться пылью трубопровода возвышалась трибуна, с которой белорусский Президент и московские гости произносили речи, соответствующие столь важному событию, а перед трибуной колыхалось море журналистов и прочих гостей.
Когда услышать с трибуны что-то новое уже не предвиделось, я, дабы насладиться простором чистого поля, решил отойти в сторонку.
Но эта одинокая прогулка оказалась недолгой, потому как вдруг обогнала меня сначала одна группа вооруженных камерами телевизионщиков, потом вторая, потом и третья. Как оказалось, торопились они к небольшой, человек в десять, стайке местных крестьян, подошедших к ограждению и издали за церемонией наблюдающих. Любопытства ради я тоже к ним подошел.
– То-то от вас, полноправных граждан, Президент отгородился… – язвили оробевших перед камерами крестьян московские журналисты. – А все потому, что диктатор он, все потому, что за людей он вас не считает!
Такие их речи подозрительными мне не показались, поскольку в ту пору белорусского Президента все наши телеканалы ненавидели лютой ненавистью и за его дружество к России, и за его упрямое нежелание войти в подчинение мировому гегемону.
– А ваши правители разве ж не огораживаются? Всем им положено вот так огораживаться, не одному нашему, – виновато стала оправдываться самая пожилая крестьянка.
– Да, но у нас демократия, а над вами вся Европа смеется, вы теперь самая отсталая страна из-за своего Лукашенко!
– Какой бы он был, но он наш… – стала оправдываться и женщина помоложе.
– Да в том-то и дело, что он такой же, как и вы, колхозник! Как может он со своими мозгами руководить не колхозом, а целой страной! – возмутилась журналистка с абревиатурой НТВ на микрофоне.
– А потому что честного человека люди нечестные всегда принимают за простого… – скорбно рассудили крестьяне.
– Да неужели вам безразлично, что сделает он с вашей страной и какая у вас будет жизнь? – напирали журналисты.
– А какая у нас должна быть жизнь, если мы как трудились, так и будем трудиться, а другой жизни мы себе не желаем…
– Но все, что он делает, обрекает вас на вечное отставание от Европы! – возмущались журналисты уже не понарошку.
– Зато он наш… – упрямились крестьянки.
А та, что помоложе, вдруг осмелела и пустилась даже в пространные рассуждения:
– Свой человек если и ошибется в чем, то мы поймем и потерпим, потому что не со злого умысла он это сделает… Да пусть ошибается он сколько угодно, потому как до Александра Григорьевича у нас такая же, как у вас, демократия была, а жить было невозможно, почти каждая людыночка наша в Москву на заработки уезжала… А теперь, слава Богу, живем хорошо…
– Хлопчики и девчатки, – наконец вступил в разговор и один из мужчин. – Мы понимаем, что у вас работа такая, потому на вас не обижаемся, но и на нас, таких да сяких, вы тоже не гневайтесь… Мы люди простые, мы что думаем, то и говорим… Мы вот издали и хоть одним глазком своего Президента увидели, и больше ничего нам не надо… А вам если положено внутри загородки стоять, вот и идите на свое место…
И тут крестьяне загомонили уже меж собой. Мол, действительно, откуда им знать, что перед этими телекамерами надо говорить, а чего не надо. Да и демократию эту, "будь она неладна, на хлеб не намажешь"…
Не придумав, как демократию "на хлеб намазать", журналисты огорченно обозвали крестьян кэгэбэшными подосланцами и дружно устремились обратно к трибуне.
А я остался глазеть на белорусских крестьян, оказывается, похожих на моих российских односельчан не только внешне, а и своим разговором. Ну, не больше их речь отличалась от моей, московской, чем в селах Вологодчины или Владимирщины. То есть, получалось, что такие же они русские люди, как и я. Да и когда давным-давно расписывал я храм в центре Украины, то женщины из церковной общины даже обиделись на меня за то, что обозвал я их украинками. "Мы руськы!" – возразили они. "А я в таком случае кто?" "А ты тоже руськый, но только ты из москалив!"
То есть, находясь посредине Белоруссии и глядя на горстку её корневых насельников, никак не мог я поверить, что это уже граждане навсегда чужого для меня государства, и что их местная спокойная вера в своего Президента меня никак не касается, что у Лукашенко нет возможности стать также Президентом и моим. При всем том, что в ту пору в Москве все чаще мне доводилось слышать: "Вот выберем себе Лукашенко, и он в России наведет порядок такой же, как в Белоруссии".
Хотелось с крестьянами самому заговорить. Но желание мое сказать им что-то доброе и хорошее было столь велико, что я бы, дав волю скопившемуся во мне за время их беседы с журналистами пылу и жару, скорее напугал бы их, чем ободрил.
Уныло поплелся я к уже опустевшей трибуне. Даже своему потерянному было товарищу, нетерпеливо встретившему меня сообщением, что все уже занимают места за накрытыми в брезентовом шатре столами, особо я не обрадовался. Потому что истинным чудом в этот день оказался не еще один трубопровод, и не огромный, чуть ли не на полгектара распростертый вот этот шатер, а крестьяне, имеющие возможность жить так, как им хочется, и мудро оберегающие право на свою родную жизнь.
Белорусский президент и тогдашний глава "Газпрома" Рэм Вяхирев в шатре произнесли тосты, а я, досадуя, что не согласился на авантюрное предложение Бабурина, угрюмо слушал.
А что, мог бы теперь спокойно подойти к Лукашенко, сказать: "Я тот самый Дорошенко, о котором вам Сергей Николаевич говорил. И мне просто захотелось от всей души пожать вам руку!" И всё. И ничего необычного в этом нет…
А Лукашенко уже стал пробираться к выходу. И многие даже без помощи Бабурина вставали, руку ему пожимали…
Часть журналистов бросилась вслед за белорусским Президентом, чтобы задать свои последние вопросы. Когда я тоже покинул шатер, они все еще его атаковали. А ко мне вдруг подошел широкоплечий и широколицый мужчина в наглухо застегнутой на молнию куртке, спросил:
– Вы Дорошенко?
– Да… – сознался я почему-то не совсем уверенно.
– Идите за мной.
О том, что Бабурин все-таки посамовольничал, я догадался только тогда, когда Лукашенко, уже от журналистов отгороженный охранниками, вдруг обернулся в мою сторону и пожал мне руку так же запросто, как это умели лишь мои волгоградские токари.
Из всего, о чем мы очень уж кратко и на ходу перемолвились, я ничего не запомнил.
А потом, оглохнув от стремительно вращающегося круга лопастей взлетающего президентского вертолета, я цепенел от страха, что вертолет рухнет на землю.
Ах, как же неуклюже взлетают эти тяжеленные вертолеты!
Я за свою жизнь успел привыкнуть, что они не взмывают стремительно и в единый миг, как самолеты, а от отсутствия начального равновесия рисково покачиваются и как бы даже всем своим корпусом вздрагивают. Но каждое такое же обыкновенное покачивание и вздрагивание лукашенковского вертолета раскаленными иглами почему-то впивалось в меня.
Может быть, я даже по своему обретенному на флоте звериному свойству под президентским вертолетом по-собачьи скулил.
А едва вертолет уверенно устремился вперед, я от верноподданнического восторга стал еще и покашливать.
Но – не зря бодливой корове Бог рогов не дает!
Последний раз я вполне замечательно рыдал в далеком детстве, чтобы перебороть какое-то очередное родительское вето.
А тут я лишь покашливал и постанывал, хотя понимал, что вот так диковато я от восторга плачу.
А верноподданническое чувство, никогда до той поры мной по-настоящему не испытанное, оказалось, к тому же, столь замечательным, что я бы от восторга и умер, если б остатками своего сознания не отдавал себе отчета в том, что Белоруссия все-таки страна не моя…
…Верноподданнический восторг начинает меня душить до сих пор, когда из вагонного окна я сначала угрюмо гляжу на наши смоленские поля, давно не бритые и не стриженные, наглухо заросшие бурьянами и подлеском, а затем, воспрянув, гляжу и на аккуратно возделанные, словно бы отличницами начертанные, белорусские нивы (ну, могут же бывшие советские крестьяне землицу свою принарядить, если их продовольственную заботу воспринимать так, как это делается во Франции или Германии, а не в России и не на просторах Африки!); или когда брожу я по Минску – тихому да мирному, чисто умытому, а главное – для жизни не опасному; или – когда в одном из белорусских колхозов, строениями похожем разве что на новорусскую нашу Рублевку, увидел я и бассейны для плавания, и спортзалы, и клубы для развития у местных детишек разного рода творческих наклонностей. А глава этого колхоза (тоже, кстати, писатель), то жаловался нам на белорусские законы, удерживающие закупочные цены на социально значимом уровне, то вдруг хвастался:
– И, значит, чтобы выкрутиться, завели мы собственное обрабатывающее производство. Так что поставляем на рынок готовые продукты, а не дешевое сырье. И даже мороженное наше за рубежом покупают охотно, и вот еще чипсы придумали мы из яблок не концерогенные…
В тот раз наша писательская организация проехалась аж до Бреста.
Одно за другим представали перед нами села, самые невзрачные из которых в России могли бы нас лишь восхитить. Над многими населенными пунктами возвышались более чем выдающиеся строения, которые, как оказалось, "новые белорусы" все-таки предпочитают возводить там, где выпало им родиться.
– А потому что этим бизнесменам людей бояться незачем, потому что нормальному человеку среди своих жить лучше, чем абы где, – поясняли нам белорусские наши коллеги вполне обыкновенными голосами.
Я вспомнил, как и меня в моем родном селе величали Иванычем только потому, что вдовам плетни я поправил. А уж хозяевам этих дворцов ничего не стоит отщипнуть от себя денежку на то, чтобы свое родное село вымостить плиткою местными мастерами, а не гастербайтерами, как в Москве (между гостиницей "Москва" и Историческим музеем, перед которым я тоже когда-то трепетал, плитка за одну зиму покоробилась такими буграми, каких ни в одном белорусском селе я не увидел!). Или – чтобы не какому-нибудь средиземноморскому городу занавесить всё море своею миллиардною яхтою, а дать немного на жизнь какой-нибудь старухе-землячке и быть собою довольным, и себя ощутить воистину большим Иванычем, чем все Иванычи вместе взятые.
Пытаясь скрыть от всех свое очередное верноподданническое удушье к главе не моего государства, всю дорогу я просидел, отвернувшись к окну, за которым жила-была хоть и не моя, но все ж таки драгоценная для меня Белоруссия.
Только жене я сознался, что являюсь тем редким типом человека, который наивысшим и даже сладостным для себя благом считает возможность стать частью огромной толпы, содрогающей планету приветственными криками в честь своего истинного национального Президента, лидера, вождя, монарха и хоть кого угодно, лишь бы своего, такого, как я сам, только гораздо большего, чем я, более, чем я, настоящего…
Ну, разумеется, не совсем так это было. Жене я всего лишь сказал, что, мол, уже невыносимо ощущать себя частью родной российской толпы, над которой простирается абсолютная нравственная пустота.
И, напомнив обо всех тех известных нам из истории дикостях, в которые впадали народы древние во времена такого же, как ныне у нас в России, нравственного разложения, с воодушевлением процитировал Хаммурапи:
«Тогда-то меня, Хаммурапи, назвали по имени, дабы Справедливость в стране была установлена, дабы погубить беззаконных и злых, дабы сильный не притеснял слабого…».
– То есть, высоких смыслов был не лишен даже этот царь, не знавший Евангелия, не имевший возможности прочить столько книг, сколько мы прочитали! И почему я должен смиряться с этими современными либеральными гусеницами, у которых и душа и мозг являются всего лишь придатками их желудка, почему я должен какому-то ушлому Познеру поверить, что либералы поедают меня не от алчности, а в неких очень уж прогрессивных намерениях?
– Тебе надо было родиться во времена толстовского Пети Ростова, – утешила меня жена.
– Не знаю, как мне, а уж Рослякову точно надо было жить в другое время, – вспомнил я после монаршего Хаммурапи и о простом фронтовике, о блистательном, ныне напрочь забытом писателе Василии Петровиче Рослякове.
Он умер в роковом 1991 году, не в силах расстаться со своей напрасной надеждой на то, что наше Отечество, спасенное его поколением от чумы коричневой, спасется и от чумы и либеральной.
Наверно, я тоже с такою же надеждой до сих пор не расстался. Но только живет она во мне вопреки рассудку, лишь инстинктивно, как та песня, которую когда-то в своем ночном одиночестве я выскуливал, удерживая судно против штормовой волны.
Это Достоевскому суждено было догадаться лишь о том, что если Бога нет, то все позволено.
А нам довелось понять еще и то, что если Бога нет, то напрасным является даже и то, что нам уже самою сутью нового времени не позволено, что, как в темном чулане, таится и теплится в нашей душе вопреки всему.
***
Как проедешь мари, ленту вёрст,
Заприметишь старый лес-погост
Здесь темень, студёна Русь-река
Дремлет истомлённая, горька
Лес уснул, погост отцов без света,
На мосту - подкова и монета
На сосне - картавая ворона,
На рубле двуглавая корона
Лапище дракона на короне.
Капище мамоны вместо трона.
***
НОВОГОДНЕЙ ТОСКИ ПРЕДВКУШЕНИЕ
Детство плачет во сне – искушение...
За окном темнота, запорошенность,
Чёрный снег, бесприютность, заброшенность:
Новогодней тоски предвкушение...
Календарная праздность хотенья
Еле теплится в сердце, мой Боже,
Занеможил как лес без одёжи...
Среди ёлок улягусь как тень я
Звёзды льются из бездны, не счесть,
Утешенье найду ли – Бог весть.
5.11.2024
Николай Дорошенко (16 сентября 1951 - 5 ноября 2024)
______________________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Суббота, 09.11.2024, 17:01 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 12.11.2024, 13:20 | Сообщение # 1553 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| РУССКАЯ ГЕОГРАФИЯ
А в подвале пыльно, много мышей, накурено.
Генератор кряхтит последними оборотами.
Мы контролим дорогу в Селидово из Цукурино.
Поднимаем птицу, наводим арту - работаем.
А грунтовки в полях ржавеют сожжённой техникой,
А поля засеяны минами и снарядами.
Мы вчера у врага отбили Желанное Первое, -
Это значит, еще на шаг подошли к Курахово.
Вот из Карловки с рёвом, сшибая ветки акации,
Беременная парнями из Тулы и Грозного,
Несётся "буханка". Везёт бойцов на ротацию.
Надеется только на РЭБ и на волю Господа.
Где-то в Москве отдыхают, играют в мафию,
Девчонки в клубе вертят красивыми шеями...
А мы изучаем русскую географию
В посадках и лесополках, изрытых траншеями.
И нам бы хотелось к родному порогу - коленями;
Любимых женщин нежно назвать по имени.
Но мы наступаем в западном направлении,
Потому что нас ждут:
В Одессе,
Херсоне,
Киеве.
________________________________________
RUSSIAN GEOGRAPHY
In the dugout, it's dusty, mice scurry in sight,
The air thick with smoke, the generator fights.
We control the road from Tsukuryno to Selydovo,
Launching the bird, targeting with artillery — onward we go.
The fields are rusting with burned-out machines,
Littered with mines and shells, torn by war's means.
Yesterday we seized Zhelannoye One,
Which brings us a step closer to Kurakhovo's sun.
From Karlovka roars, breaking acacia's embrace,
A van full of boys from Tula and Grozny in haste.
Off to rotation, trusting only in God’s grace,
And jamming devices, as they race through this place.
Somewhere in Moscow, they're resting, playing games,
While girls in the clubs turn their beautiful frames.
But we’re learning Russian geography’s name,
In trenches and woods, all ravaged by flames.
How we long to kneel at our own front doors,
To softly whisper the names we adore.
But we march westward, through battle and roar,
For they wait for us still:
In Odessa,
Kherson,
Kiev, evermore.
***
【战壕里的诗歌: 俄国的地理】
战壕里尘土蔽天,鼠群横行,烟雾弥漫,
发电机终鸣,发出嘎吱的绝响。
我们扼守着库库里诺至塞利多沃的要道,
放飞无人机,火炮校正——战斗打响。
田野小径上,废铁残骸锈迹斑驳,
地雷与弹壳,遍布农田的每个角落。
昨日我们自敌手重夺“热望村”的领地,
标志着向库拉霍沃又迈进一步的征程。
自卡尔洛夫卡轰鸣驶来,金合欢枝折叶落,
面包车满载图拉与格罗兹尼的勇士,
驶向轮换之地,
唯愿电子战系统灵验,苍天庇佑你我。
莫斯科一隅,他们正沉醉于“黑帮游戏”的欢愉,
夜店的女孩们轻摆颈项,舞姿曼妙……
而我们,于战壕与林间探寻俄国的地貌,
在这弹坑累累的大地之上。
我们多么渴望跪在家乡的门槛旁,
轻声呼唤心中挚爱女子的芳名,
但我们仍需向西挺进,
因为有人正期盼着我们:
在敖德萨的街头,
在赫尔松的河畔,
在基辅的城心。
Переводчик: Азат Рахманов
_____________________________________
***
В Уманском больше нет жилых домов,
Как нет в России кладбища без флага.
Я награждён медалью «За отвагу» -
В ней поселились души пацанов,
Однажды не вернувшихся с задачи.
Вы знали, что медали тоже плачут?
Я слышу по ночам их тонкий плач.
Ещё они не терпят пошлых песен
И постепенно прибавляют в весе
По мере выполнения задач.
Ещё не виден у войны конец,
Граница не обведена пунктиром.
Вчера на Мавик наскребли всем миром,
А значит, завтра путь лежит в Донецк.
На «Маяке» часов примерно в восемь
Мы купим «птицу» (тушку) и не спросим,
Откуда продавец её достал.
«Купил в Москве», - поверим этой сказке.
И только его масляные глазки
Нам скажут то, чего он не сказал.
Стучится осень. В лесополосе
Рыжеют вязы, головой поникли…
Опять сегодня выживут не все,
Но к этому мы, в общем-то, привыкли.
И будет враг унижен и разбит,
Но отчего же так душа болит,
Вся в шрамах и порезах, и в заплатах?
Нагретые стволы фонят теплом -
Вот так душа орёт с закрытым ртом,
Она ни в чём, ни в чём не виновата.
Мы третий год штурмуем небеса,
И где растёт та лесополоса,
Которая окажется последней, -
Никто не знает. И не в этом суть.
Стихами смерть, увы, не обмануть,
Не убаюкать, песню не пропеть ей.
Но снова надо двигаться вперёд,
Месить ногами ледяную глину,
Надеяться, что РЭБ не подведёт,
В патроннике патрон не встанет клином.
Пусть будет так, как повелит Господь…
Опять разрыв. Осколок ищет плоть
И почему-то пролетает мимо.
Враг человеческий опять стреляет в нас,
Но он ещё не знает в этот час,
Что с нами Бог. Что мы непобедимы.
***
И вот уже не слышно канонады.
В Авдеевке маршрутное такси
Трясется на ухабах, объезжая
Воронки, гильзы, души пацанов,
Что бродят здесь и ищут свою роту, -
Им некого, им некого спросить:
Живые их не видят и не слышат.
Таков удел. Быть воином. Жить вечно.
Под Карловкой мы взяли П..дор-лес
И закрепились. И стремимся дальше
Дойти и обмануть старуху-смерть.
Вчера двоих бойцов на мотоцикле
Догнал случайный/не случайный дрон.
Один на руль упал и свесил руки.
Второй боец запутался в коляске.
Так и сидит. И будет так сидеть
Сто тысяч лет. Уже войдём мы в Киев,
Уже Одесса снова станет мамой,
А тот боец останется сидеть,
Прикованный навек к своей коляске.
Устанет лето, пожелтеют краски,
Я сделаю последний/крайний выстрел,
Но пуля как всегда летит не прямо, -
Ей прямо не положено лететь.
Сто тысяч лет пройдёт на белом свете,
И то, что было Карловкой, Авдосом
Под толщей вод окажется на дне.
И только два бойца на мотоцикле
Останутся, как прежде, на посту.
И снова будет дрон жужжать на небе,
Закольцевав собою ход времён.
И ничего уже не изменить.
***
Осыпаются листья, желтеет привычный пейзаж.
На губах привкус ржавчины, ветра и карамели.
Это осень опять надевает свой камуфляж,
Чтобы скрыть по посадкам стихи, «лепестки» и потери.
Наши мёртвые нас не оставят и смогут помочь,
Даже если мы будем орать, бесноваться и плакать.
У Малого остались жена и красавица дочь,
И зачатый ребёнок, который родится без папы.
Бородатый, улыбчивый, крепкий, как новый блиндаж,
Потрещать по душам ко мне ночью приходит Калина.
Мы с ним снова на промке ныряем в разбитый гараж,
Он опять, не смотря ни на что, закрывает мне спину…
Эта осень косыми дождями мне бьёт по лицу,
С каждым новым ударом всё больше и больше зверея,
И кричит мне живому, забывшему стыд подлецу:
«Никогда. Не вернёшь. Ни Хопеша. Ни Тоху. Ни Змея»
Но дорогу осилит идущий, и надо идти.
То не бурные реки нахлынули по половодью, -
Это строчки, теснясь, разрывают меня изнутри,
Оттого что накормлены потом, землёю и кровью.
Все мы ходим под Богом, не зная, что будет потом,
Но в одном я уверен на этом израненном свете:
Если мой позывной, как и ваши, не станет стихом,
Я клянусь, пацаны, - я вам всем расскажу о Победе!
Дмитрий Филиппов, позывной - Вожак https://t.me/s/vozhak_Z?before=990
_____________________________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 13:59 | Сообщение # 1554 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Было так — легенды говорят —
Миллиарды лет тому назад:
Гром был мальчиком такого-то села,
Молния девчонкою была.
Кто мог знать — когда и почему
Ей сверкать и грохотать ему?
Честь науке — ей дано уменье
Выводить нас из недоуменья.
Гром и Молния назначили свиданье
(Дата встречи — тайна мирозданья).
Мир любви пред ним и перед ней,
Только все значительно крупней.
Грандиозная сияла высь,
У крылечка мамонты паслись,
Рыбаков артель себе на завтрак
Дружно потрошит ихтиозавра.
Грандиозная течет вода,
Грандиозно все, да вот беда:
Соловьи не пели за рекой
(Не было же мелочи такой).
Над влюбленными идут века.
Рановато их женить пока…
Сквозь круговорот времен домчась,
Наступил желанный свадьбы час.
Пили кто знаком и незнаком,
Гости были явно под хмельком.
Даже тихая обычно зорька
Всех шумней кричит фальцетом: —
Горько! Гром сидит задумчиво: как быть?
Может, надо тише говорить?
Молния стесняется — она,
Может, недостаточно скромна? —
Пьем за новобрачных! За и за! -
Так возникла первая гроза.
Молния блестит, грохочет гром.
Миллиарды лет они вдвоем…
Пусть любовь в космическом пространстве
О земном напомнит постоянстве!
Дорогая женщина и мать,
Ты сверкай, я буду грохотать!
***
Четыре пули
Первая пуля
Попала в ногу,
Но я, представьте, не был взволнован, —
Я был совершенно спокоен…
Ей-богу!
Честное слово!..
То ли бог, то ли черт мне помог?
До сих пор
Я понять не могу –
Для меня это тайна.
Пуля вторая
Летела в упор
И в меня не попала
Чисто случайно…
Нам, калекам-бойцам,
Только жрать, только спать,
Только радость одна,
Что друзей вспоминать.
Жаркой кровью своей
Поперхнувшись на миг,
Третьей пулей сражен,
Пал братишка комбриг.
Он стоял, чудачок,
У врага на виду,
Он упал на траву
Головой бесшабашной…
О четвертой пуле
Я речь поведу,
О четвертой —
О самой тяжелой и страшной.
Эта пуля вошла
В мою главную жилу
И бежит,
Отнимая последнюю силу.
Я всю ночь провожу
На бессонной постели, —
Эта пуля без отдыху
Шляется в теле.
Приложи только руку —
И нащупаешь ты
Мгновенную выпуклость быстроты.
Приложи только ухо —
И услышь, недвижим,
Как свистит эта пуля
По жилам моим.
Ты мне жилу разрежь, если нож твой остер,
Чтобы пулю добыть и запрятать в затвор,
Потому что в степях поднимается дым,
И свинец еще будет необходим!
***
Я не знаю, где граница
Между Севером и Югом,
Я не знаю, где граница
Меж товарищем и другом.
Мы с тобою шлялись долго,
Бились дружно, жили наспех.
Отвоевывали Волгу,
Лавой двигались на Каспий.
И, бывало, кашу сваришь.
(Я — знаток горячей пищи),
Пригласишь тебя:
— Товарищ,
Помоги поесть, дружище!
Протекло над нашим домом
Много лет и много дней,
Выросло над нашим домом
Много новых этажей.
Это много, это слишком:
Ты опять передо мной —
И дружище, и братишка,
И товарищ дорогой!..
Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой.
Мы с тобою лишь недавно
Повстречались — и теперь
Закрываем наши ставни,
Запираем нашу дверь.
Сквозь полуночную дрему
Надвигается покой,
Мы вдвоем остались дома,
Мой товарищ дорогой!
Я тебе не для причуды
Стих и молодость мою
Вынимаю из-под спуда,
Не жалея, отдаю.
Люди злым меня прозвали,
Видишь — я совсем другой,
Дорогая моя Валя,
Мой товарищ дорогой!
Есть в районе Шепетовки
Пограничный старый бор —
Только люди
И винтовки,
Только руки
И затвор.
Утро тихо серебрится…
Где, родная, голос твой?
На единственной границе
Я бессменный часовой.
Скоро ль встретимся — не знаю.
В эти злые времена
Ведь любовь, моя родная, -
Только отпуск для меня.
Посмотри:
Сквозь муть ночную
Дым от выстрелов клубится…
Десять дней тебя целую,
Десять лет служу границе…
Собираются отряды…
Эй, друзья!
Смелее, братцы!..
Будь же смелой —
Стань же рядом,
Чтобы нам не расставаться!
***
Я нынешней ночью
Не спал до рассвета,
Я слышал — проснулись
Военные ветры.
Я слышал — с рассветом
Девятая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.
За тонкой стеною
Соседи храпели,
Они не слыхали,
Как ветры скрипели.
Рассвет подымался,
Тяжелый и серый,
Стояли усталые
Милиционеры,
Пятнистые кошки
По каменным зданьям
К хвостатым любовникам
Шли на свиданье.
Над улицей тихой,
Большой и безлюдной,
Вздымался рассвет
Государственных будней.
И, радуясь мирной
Такой обстановке,
На теплых постелях
Проснулись торговки.
Но крепче и крепче
Упрямая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.
Я рад, что, как рота,
Не спал в эту ночь,
Я рад, что хоть песней
Могу ей помочь.
Крепчает обида, молчит,
И внезапно
Походные трубы
Затрубят на Запад.
Крепчает обида.
Товарищ, пора бы,
Чтоб песня взлетела
От штаба до штаба!
Советские пули
Дождутся полета…
Товарищ начальник,
Откройте ворота!
Туда, где бригада
Поставит пикеты, -
Пустите поэта!
И песню поэта!
Знакомые тучи!
Как вы живете?
Кому вы намерены
Нынче грозить?
Сегодня на мой
Пиджачок из шевиота
Упали две капли
Военной грозы.
***
В разведке
Поворачивали дула
В синем холоде штыков,
И звезда на нас взглянула
Из-за дымных облаков.
Наши кони шли понуро,
Слабо чуя повода.
Я сказал ему: — Меркурий
Называется звезда.
Перед боем больно тускло
Свет свой синий звезды льют…
И спросил он:
— А по-русски
Как Меркурия зовут?
Он сурово ждал ответа;
И ушла за облака
Иностранная планета,
Испугавшись мужика.
Тихо, тихо…
Редко, редко
Донесется скрип телег.
Мы с утра ушли в разведку,
Степь и травы — наш ночлег.
Тихо, тихо…
Мелко, мелко
Полночь брызнула свинцом, -
Мы попали в перестрелку,
Мы отсюда не уйдем.
Я сказал ему чуть слышно:
— Нам не выдержать огня.
Поворачивай-ка дышло,
Поворачивай коня.
Как мы шли в ночную сырость,
Как бежали мы сквозь тьму —
Мы не скажем командиру,
Не расскажем никому.
Он взглянул из-под папахи,
Он ответил:
— Наплевать!
Мы не зайцы, чтобы в страхе
От охотника бежать.
Как я встану перед миром,
Как он взглянет на меня,
Как скажу я командиру,
Что бежал из-под огня?
Лучше я, ночной порою
Погибая на седле,
Буду счастлив под землею,
Чем несчастен на земле…
Полночь пулями стучала,
Смерть в полуночи брела,
Пуля в лоб ему попала,
Пуля в грудь мою вошла.
Ночь звенела стременами,
Волочились повода,
И Меркурий плыл над нами —
Иностранная звезда.
***
Двое
Они улеглись у костра своего,
Бессильно раскинув тела,
И пуля, пройдя сквозь висок одного,
В затылок другому вошла.
Их руки, обнявшие пулемет,
Который они стерегли,
Ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед,
Никак оторвать не могли.
Тогда к мертвецам подошел офицер
И грубо их за руки взял,
Он, взглядом своим проверяя прицел,
Отдать пулемет приказал.
Но мертвые лица не сводит испуг,
И радость уснула на них…
И холодно стало третьему вдруг
От жуткого счастья двоих.
***
Пирушка
Пробивается в тучах
Зимы седина,
Опрокинутся скоро
На землю снега, -
Хорошо нам сидеть
За бутылкой вина
И закусывать
Мирным куском пирога.
Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо
Тревогу тая, -
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.
Пей, товарищ Орлов!
Пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони
Отчаянных дней.
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней.
Льется полночь в окно,
Льется песня с вином,
И, десятую рюмку
Беря на прицел,
О веселой теплушке,
О пути боевом
Заместитель заведующего
Запел.Он чуть-чуть захмелел —
Командир в пиджаке:
Потолком, подоконником
Тучи плывут,
Не чернила, а кровь
Запеклась на штыке,
Пулемет застучал —
Боевой «ундервуд»…
Не уздечка звенит
По бокам мундштука,
Не осколки снарядов
По стеклам стучат, —
Это пьют,
Ударяя бокал о бокал,
За здоровье комдива
Комбриг и комбат…
Вдохновенные годы
Знамена несли,
Десять красных пожаров
Горят позади,
Десять лет — десять бомб
Разорвались вдали,
Десять грузных осколков
Застряли в груди…
Расскажи мне, пожалуйста,
Мой дорогой,
Мой застенчивый друг,
Расскажи мне о том,
Как пылала Полтава,
Как трясся Джанкой,
Как Саратов крестился
Последним крестом.
Ты прошел сквозь огонь —
Полководец огня,
Дождь тушил
Воспаленные щеки твои…
Расскажи мне, как падали
Тучи, звеня
О штыки,
О колеса,
О шпоры твои… Если снова
Тифозные ночи придут,
Ты помчишься,
Жестокие шпоры вонзив, -
Ты, кто руки свои
Положил на Бахмут,
Эти темные шахты благословив…
Ну, а ты мне расскажешь,
Товарищ комбриг,
Как гремела «Аврора»
По царским дверям
И ночной Петроград,
Как пылающий бриг,
Проносился с Колумбом
По русским степям;
Как мосты и заставы
Окутывал дым
Полыхающих
Красногвардейских костров,
Как без хлеба сидел,
Как страдал без воды
Разоруженный
Полк юнкеров…
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней…
Выпьем, что ли, друзья,
За семнадцатый год,
За оружие наше,
За наших коней!..
***
Клятва
Вор сорвал с нашей двери запор.
Мы из тех, кто стреляет в упор!
Старожилы победных боев,
Мы — из племени большевиков!..
Всей земли боевая пора!
Встанут древние воды Днепра
И, пока не затопят врага,
Никогда не войдут в берега!
И земля за врагом поползет
Всеми топями Пинских болот,
Всею пылью широких дорог,
Чтоб пути разглядеть он не мог!
Это нашей Республики дом!
Это все мы скопили трудом!
Разве гору с собой унесешь?
Разве русскую землю возьмешь?
В нашем доме врагу — не житье!
Я клянусь, государство мое, —
Ярость воина, тяжесть свинца
Во врага погрузить до конца!
Жизнь моя, пронесись, пролети,
Выполняя приказ, сквозь бои,
Закаляясь в дыму и в огне,
В общей клятве родимой стране!
***
Каленые сибирские морозы,
Балтийская густая синева,
Полтавский тополь, русская береза,
Калмыкии высокая трава.
Донбасса уголь, хлопок белоснежный
Туркмении, Кузбасса черный дым —
Любовью сына, крепкой и надежной
Мы любим вас, мы вас не отдадим.
Безмолвна тишь глухой военной ночи.
Товарищи построились в ряды,
За ними Север льдинами грохочет
И шелестят грузинские сады.
Свирепствует свинцовая погода,
Над армией знамена шелестят,
За армией советские народы,
Как родственники близкие, стоят.
Мы для себя трудились, не для немца
И мы встаем на рубежах войны,
Чтобы ударить в сердце чужеземца
Развернутою яростью страны.
***
Шестнадцать месяцев путем уже знакомым
Сожженных сел, обугленных берез
Проходим мы, сроднившиеся с громом
И порохом пропахшие насквозь.
Привычным стало то, что было страшным,
Мы научились подвиги ценить
Не для того, чтоб рассказать вчерашний,
А для того, чтоб новый совершить.
«Назад ни шагу!» — лозунг над полками.
Пусть сто смертей нам встанут поперек!
Как Ловать — Ильменю, как Волге — Кама,
Так наша Стойкость — Мужеству приток!
Пусть будет страх в бою тебе неведом.
Запомни, друг: таков закон войны —
Лицом вперед — услышишь гром победы,
Лицом назад — проклятие страны!
Рассказ о нас — о преданных отчизне —
Ты сыну, как былину, передашь,
Чтоб помнил он, как, присягая жизни,
Стояли насмерть — в этом подвиг наш!
***
Здесь мы на родину завоевали право,
Здесь в Октябре ударил первый гром,
Здесь преданность,
Здесь мужество и слава
Живут, как в общежитии одном.
Мы стали снова в боевой тревоге,
И молодость знамена пронесет,
Чтоб сквозь туман победные дороги
Опять увидеть c пулковских высот.
Мы нашу клятву повторяем снова!
Нет! В этот город не войдут враги.
Здесь не замолкнет ленинское слово,
Здесь не затихнут Кирова шаги!
Звучит приказ — и все пришло в движенье.
И пушек строй, и четкий бег бойца,
И корабли, идущие в сраженье,
И к испытаниям готовые сердца.
В одном строю идут отец и брат твой,
И ленинградец принимает бой
И боевою нерушимой клятвой
Советский город дышит пред тобой!
***
Отечество героев
Я в детстве читывал: перед врагов ордою
Герой меча не выпускал из рук...
Мне незачем искать в истории героя,
Когда он рядом, здесь, товарищ мой и друг.
Я хочу, товарищ Харитонов,
Товарищ Здоровцев, товарищ Жуков, я
Хочу сказать, что в гуще миллионов
Героев увеличилась семья.
Пришла пора не стрелам, а снарядам,
Не племена — народы восстают,
Не в мифологии, а близко, близко, рядом
Герои и товарищи живут.
Не из истории, не из легенды древней —
Героя шлет советская деревня.
Скажи такому: «Отврати беду!»
Он скромно произносит: «Есть — иду!».
Героям древности придется потесниться!
Любой наш день, любой наш фронт возьми.
Ведь каждая истории страница
Заполнена советскими людьми.
Они живут легендой боевою
Вот здесь, вот рядом, близко, на яву.
Да здравствует отечество героев,
Эпоха Сталина, в которой я живу!
Михаил Светлов (1903 - 1964)
__________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 20.11.2024, 14:49 | Сообщение # 1555 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Не рассказывай мне больше сказок, мама,
Про Добрыню да Ивана-дурака.
Всё смешалось нынче. Посреди бедлама
Не отыщется зелёного ростка.
Ничего они теперь-то и не знают,
И не помнят, да и помнить не хотят.
Сказку «россказней» с презреньем называют
И детей своих в беспамятстве растят.
Жизнь теперь другое тесто замесила,
Стали лишними средь злата-серебра
Сказки русские, где побеждает сила –
Сила духа, здравомыслья и добра.
И в равненье на морального урода,
Для кого весь наш уклад – наоборот,
Как-то стыдно стало «выйти из народа»,
Словно стадо мы людей, а не народ.
Чем сильней любовь, тем злее ненавидишь
Всё, что жаждет нами чтимое убить.
А без этих сказок в люди-то не выйдешь,
Чтобы Змея да Кощея победить.
***
Живём почти что на вокзале:
Гудит-свистит со всех сторон!
Зато мы столько слов узнали –
Прилёт, растяжка, броник, дрон...
Пусть тучи хмурые нависли,
Но рано вражье торжество:
Там новые родятся смыслы,
Где лупит наша ПВО!
И хоть не занимать азарта
Врагу, хоть глаз его остёр,
Но бьёт по цели наша арта,
Чтоб взять противника в котёл.
Пусть враг бандеровщину славит,
Ждут перемогу главари, –
Им шансов точно не оставит
Команда «триста тридцать три!»
Я света истин не нарушу –
Вот главный времени мотив:
Война вернула людям душу,
От плевел зёрна отделив.
Да, тяжко жить на стыке, то есть
На сломе, через страх и грусть...
Но к нам вернулось слово «совесть»
И вновь согрело слово «Русь».
***
ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Есть в памяти сквозная рана
(Придумать кто б такое мог?):
Ещё я помню ветерана
С колёсиками вместо ног.
Он с наслажденьем папироску
Крутил оставшейся рукой,
А под себя приладил доску,
Чтобы срастись с людской рекой...
Я вижу, чуть прикрою веки:
Бежит-спешит нарядный люд,
А у церквей сидят калеки,
Да им не шибко подают.
В те дни, когда пришла на свет я,
В объятья праздничной страны,
Всего лишь два десятилетья
Нас отделяло от войны!
По меркам разбитного века –
Всего каких-то два шажка
До улиц, где полчеловека
Катила на себе доска...
Придавлены эпохой снулой,
В скупой её вписавшись слог,
Обглоданы войны акулой,
Шли сквозь толпу – без рук, без ног...
Шли сквозь счастливых и не слишком,
Всё строивших незнамо что,
Приставленных к своим делишкам,
Приверченных к своим авто…
И мы не понимали сдуру,
Что тем обрубкам нет цены,
Собой закрывшим амбразуру –
Дымящуюся пасть войны.
Куда бы притулиться вздоху,
Вплетённому в судьбы мотив?..
А ведь они спасли эпоху,
За мир собою заплатив.
***
Диванной критике-забаве
Ругать и хаять всё с руки.
Но управлять войной не вправе
Глубокие тыловики.
Ты, у кого весь день нирвана,
В саду – цветочки, в баньке – пар,
Чем всех критиковать с дивана,
Сменил бы, что ль, репертуар!
Те, с кем в сети легко бодаться,
Кого так сладко поучать,
Имеют право ошибаться,
И отступать, и огорчать
Тебя – по сути, нулевую
Не единицу даже, так –
Простую крысу тыловую.
Ты не у дел, пойми, чудак!
Там, в пекле, все как на пружинах,
И сбой возможен, и просчёт,
Поскольку в человечьих жилах
Не морс, а кровушка течёт.
В штабах случаются авралы:
Кто – струсит, кто – недопоймёт...
Глупят, бывает, генералы
И руководство устаёт...
Кто склонен к лени, кто – к наживе,
Что ж, на войне как на войне,
Но мы живём в одном порыве,
На нас ответственность вдвойне.
И ты пойми, диванный гений,
Любимец кошаков и вдов:
На фронте нет простых решений
И однозначных нет ходов.
Там всё меняется в мгновенье,
В душе порой такой раздрай!..
А ты, отбросив все сомненья,
Чем можешь, лучше помогай.
Велись так все на свете войны:
То крот, то плут, то дезертир...
А если все вокруг довольны,
То это не война, а мир.
И где ты будешь – на обеде
Иль обнесёшь с корзиной лес,
Мы всё равно придём к победе –
С твоим диваном или без.
***
Мучительно жалею свой народ.
Кромсает бомж батон. Крещу вослед.
Тьма нравственный сжигает кислород.
«Да будет свет… – шепчу. – Да будет свет!..»
Бесплотный морок заполняет грудь,
Скребёт в гортани, путает слова…
Я верю, что народ мой не согнуть –
Сто тысяч раз история права!
Мы терпим. На груди рубах не рвём.
И воздух напоён пыльцой планет.
Мы выстоим. Мы мрак переживём.
«Да будет свет! – твержу. – Да будет свет!»
Мы не алкаем мести и войны,
И угрожать безумцам нам претит.
Мы не жадны, не злы, не голодны.
Но вдруг да нагуляем аппетит?!
Мы печь седлаем. Мы не ищем брод.
Мы долго запрягаем – тыщу лет…
Несокрушимо верю в свой народ:
Он одолеет тьму. Добудет свет.
* * *
Чего хочу? Всего лишь быть,
А слыть – не мой формат,
Сквозь зной и стужу тихо плыть
Без курса, наугад.
Всё это, чтоб понять успеть,
В чём сущий смысл пути:
Себя в себе преодолеть,
Себя в себе найти.
Жить-поживать от «А» до «Ять»
Без зла и похвальбы
И душу гнутую спрямлять
Ударами судьбы.
* * *
Жизнь такая долгая была,
Что пора бы жить её обратно,
Уходя в порталы многократно,
Где душа снегов белым-бела...
Где чисты молитвы и листы,
Где одно лишь будущее смутно,
Где душа болит ежеминутно
От любви, добра и красоты...
Через всех событий бурелом,
Сквозь ожог имён и нумераций,
Колоском топорщась, продираться,
Застревать болезненным углом.
Ходуном заходят времена,
Перемешанные с именами...
Белые шары воспоминаний
Улетучатся, как пелена...
...Где-то там, забытый до поры,
Вешний птах старательно затенькал.
Прошлого щербатые ступеньки,
Всполошённой памяти порыв...
Видеть всё, не размыкая вежд,
Дальше и пронзительнее взгляда.
Только не заглядывай, не надо
В окна заколоченных надежд...
* * *
Пришёл – и не разгадывай, не надо,
Прими как вечной тайны торжество
Растрёпанную повесть листопада,
Дождя и снега светлое родство.
Читай, броди, пролистывай аллеи,
Всё впитывай, запоминай, любя,
Как, вспыхнув, зори жарко заалели –
И не отторгли, приняли тебя
Частицей плазмы в сеть своих артерий –
И растворили в светотенях дня...
Ты часть земли. Не стань её потерей,
Ты этим зорям и снегам родня.
Учись у них любви в своём смещенье
Основ, понятий, смыслов наконец.
У мира сущего проси прощенья,
Поскольку он – творения венец.
«Забей», что банкомат закрылся в восемь,
Что нет «бабла» на дорогой айпад...
Куда важней – когда наступит осень
И как пройдёт ближайший снегопад.
Нет ничего главней на самом деле
Весенних луж, осенних паутин...
И вечная душа в невечном теле
Слиянна с Тем, Кто вечен и един.
Объятья распахнув, продли паренье,
Хотя б мгновенье никуда не мчась...
Ты – человек. Ты – не венец творенья,
А только плазмы крохотная часть.
***
Тихо празднуем. Снег – в окно,
Растворённый, как сахар, в дожде.
Абсолютно ведь всё равно,
Кто ты, друг мой незримый, и где.
Нераскрытой колодой карт
Боль уснёт в потайном уголке…
Прикоснётся холодный март
К запылавшей внезапно щеке.
Это разве не волшебство –
Быть расслышанным в сонмище звёзд?
Тихо празднуем душ родство
Друг от друга за тысячи вёрст.
***
Мы вернёмся к себе из крутых виражей,
Из запутанных подлых времён,
Нам поставит мелодию ветер-диджей
В час, когда понесётся со всех этажей:
– Старый мир навсегда упразднён!
И на улицах смех колокольца свои
Вновь рассыплет на три стороны...
А с четвёртой взлетит (гласу правды внемли!):
Вновь Добрыней на страшном распутье земли
Побеждён Змей Горыныч войны!
Будет осень, а может, весны соловьи
Слёзы выжмут из сомкнутых вежд.
Жизнь без счастья мертва, как душой ни криви...
Мы вернёмся к себе по дорогам любви
Коридорами добрых надежд.
Валерия Салтанова https://stihi.ru/2020/09/06/8753
___________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 28.11.2024, 06:20 | Сообщение # 1556 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Есть в белом тумане осенних ночей
Какая-то скрытая тайна.
Хранится она на изломе лучей,
Упавших с созвездий случайно.
Есть странная песня печальной поры
В разлитой неясности зыбкой,
Её стережёт по законам игры
Заснувшая в травах улитка.
***
За окном моим – замок
из
красного кирпича.
Острая башня взламывает
гжель
небесную.
Из луча
Крупными махровыми крошками
сыплется
первый
снег.
Вечер крадётся кошкою,
и в следах
застывает
свет.
Час ещё и немножечко –
и повсюду
взойдёт
Зима.
Даже я ювелирной ложечкой
буду Зиму
черпать
в слова.
***
Искусство – лепить,
Искусство – писать,
Искусство – любить,
Искусство – страдать.
Учи и учись –
Ответы просты.
Что время? Лишь кисть.
Пространство? Холсты.
***
Мы всего лишь – эскизы.
Мы всего лишь – наброски.
Мы бежим по карнизу
Жизни узкой полоски.
Мы не знаем системы
И основ мирозданья.
Мы всего лишь – дилеммы,
Мы всего лишь – желанья.
Для кого-то – надежды,
Для кого-то – утраты.
Мы, снимая одежды,
Улетаем крылато.
Наш портрет не напишешь,
Нам не крикнешь: «До встречи!».
Голос наш не услышишь,
Нам не ведомы речи.
Но мы – рядом, мы – всюду.
Мы – частицы, мы – звенья,
Мы – всего лишь этюды
Своего поколенья…
***
Зло замешкалось, запнулось –
И на миг один
В мире всё перевернулось,
Каждый – побратим.
Человек, аул, Отчизна,
Целый континент –
Все живут во имя Жизни,
Но лишь на момент…
Ни обид, ни сожалений,
Ни грехов, ни бед!
Всё сияет вдохновеньем,
Но лишь на момент.
На короткое мгновенье
Замер метроном,
И Земля, как в день Творенья,
Вспыхнула Огнём,
Чистым, Светлым, Животворным
Осветив глаза,
Всех счастливых, всех влюблённых.
Лица – образа!
Но вернулось Зло из тени –
И потух очаг.
Всюду – смрад и преступленья
Брат – не друг, а враг.
И нет сил спасти Планету
И спасти людей.
Зло и Время – две приметы
Тщетности идей.
Бесполезности концепций,
Глупости надежд.
Зло и Время – чаша бедствий
Для дурных невежд.
Никогда никто не сможет
Их перебороть.
Старость нудно душу гложет,
Боль увечит плоть.
Неминуема кончина.
Неизбежен тлен.
Почему ж во имя Жизни
Все встают с колен?
Все цепляются до криков
Ссадин, гематом
За один лишь миг великий?
Лишь бы метроном
Совершал своё движенье,
Измеряя век,
Чтобы корчился в мученьях
Каждый человек?
Нет ответа… Плачет где-то,
Пальчик занозив,
Мальчик…
И проходит лето…
Ухожу в отрыв…
***
Он умер на ступенях Эрмитажа.
Лежал один, не признанный никем,
Талантливый художник – дядя Саша…
На фоне изумрудно-серых стен
Летели хлопья новогодней грусти,
Нева белела, багровела даль.
Но навсегда затихло пламя пульса,
В глазах застыла вечности печаль.
Где вы, друзья из добрых побуждений?
Где вы, враги из подлости и лжи?
Сегодня умер одинокий гений!
Поставьте свечку на помин души…
Но тишина вокруг гнетёт и давит,
Как будто город отчего-то пуст...
Лишь на холсте, что руки обнимают,
Дрожит от слёз черёмуховый куст.
***
Странного вечера голос продлён.
Поздно, а ночь не кончается.
Видимо, кто-то на грани времён
С кем-то навечно прощается.
Сложно принять, что окончен маршрут
Избранной жизненной миссии.
Ты уже там, но чуть-чуть ещё тут,
Ни от кого не зависимый…
Только от этих признаний вослед,
Только от взглядов страдания.
Ты ещё здесь, но тебя уже нет,
Как же найти оправдание
Множеству быстрых мгновений и лет –
Тех, что в минувшее гонятся?
Всем, кто уйдёт, и кого уже нет,
Эти эпохи не вспомнятся!
Память нужна лишь для тех, кто живёт, –
Славя судьбы траектории.
Время лишь здесь совершает полёт,
В муках рождая историю.
***
Люди теряют память –
Словно теряют лица…
И собирать им камни
Навык не пригодится.
Чисто в душе и свято –
Нет ни обид, ни грусти…
Белая тишь палаты
Времени зов не впустит.
И не нахлынут слёзы
Воспоминаний тщетных…
Тонкая ветвь берёзы
В стёкла стучится ветром…
Где-то в дали закатной
Катится мячик солнца,
Завтра взойдёт обратно…
Будут смотреть в оконца
Выцветшим, странным взглядом
Люди в больничных робах.
Им ничего не надо.
Их ни тоска, ни злоба
Не тяготит, не давит
И не терзает душу…
Снег за окном мерцает
Тихий такой, послушный…
Хочется им укрыться,
Хочется с ним растаять…
Кто-то в окно стучится…
Может быть, это Память?…
***
В интернате тишина. Выходной.
Разобрали до утра всех домой.
Лишь расправлена кровать у окна,
Где тихонько Ритка плачет одна.
Да и, может быть, не плачет – молчит,
Просто сердце очень громко стучит,
Словно хочет от обиды кричать,
Но девчонка заставляет молчать.
И томится недосказанность фраз…
Да и нужно ль выставлять напоказ
Сокровенные желанья свои,
Откровенные признанья в любви
Той, которая забылась в вине,
Той, которая виновна вдвойне
В одиночестве, в болезнях, в тоске
Дочки Ритки… У неё на виске –
Та же родинка, в глазах – тот же блеск,
На груди – такой же в точности крест.
«Мама, мамочка, приди, я молю!
Я тебя все так же очень люблю,
Подойди ко мне, присядь на кровать,
Мне тебе так много надо сказать…
Или, может быть, давай помолчим,
Просто так в тиши давай посидим.
Обними меня, от горя укрой.
Мама, мамочка, хочу быть с тобой!»
За окном грустила зимняя ночь
И, увы, не знала, как ей помочь,
Этой девочке со взглядом беды,
Никому не нужной, лишней судьбы.
Только плюшевый безглазый верблюд,
Тот, с которым её взяли в приют,
Улыбался облупившимся ртом:
Что, мол, плачешь? Здесь твой мир, здесь твой дом.
И заснула детка, друга обняв,
В этой жизни ничего не поняв.
И закончился опять выходной…
А во сне – и Ритку взяли домой.
***
Мне снишься ты. Зачем? Не знаю.
Мир бессознательного свят.
Я, словно ландыш, расцветаю
В системе трёх координат.
Мечтаю быть в потоке светлом
Бутоном с капелькой дождя
И наслаждаться страстью ветра
В упругих ритмах бытия.
Час пробуждения тревожит,
И полдень солнцем напоён.
Но там, во сне, ещё, быть может,
В лучах дождя дрожит бутон.
***
В «Бродячей собаке» сидим целый вечер,
И пьём капучино под музыку бардов.
А чувства и мысли сбежались навстречу,
И трудно понять, кто из них в авангарде.
Смотрю на тебя и терзаюсь вопросом.
Каким – не скажу, лучше буду лишь зритель.
А ты – в диалоге с Камю, с Леви-Строссом,
И трудно сказать, кто из вас – победитель.
В сиреневой вазе свеча догорает,
И я отвечаю – с Декартом, с Фалесом…
Но смотришь ты так, как тот Первый из Рая,
С таким же конкретным земным интересом.
***
Я была водой во сне.
Я струилась по долинам,
Я сверкала в вышине
Водопадом-исполином,
Утром капала росой,
Ночью таяла туманом,
А теперь бегу слезой
По твоим губам упрямым.
***
Твои глаза – всесильно-карие.
Мои глаза – бессильно-светлые.
Всё, ухожу! Нет, утекаю я…
Расслабленная, незаметная…
Тепло дышать листвой невечною,
Безумно-жёлтой и неистовой.
Бесчувственная, бессердечная,
В накидке сдержанно-батистовой.
Хочу понять хотя бы чуточку,
Хотя б осколочек из памяти.
Остановиться б на минуточку
В твоих глазах бесстыже-праведных.
***
Лишь в твоих глазах нашла
То, что так давно искала,
А, привыкнув, поняла: мало!
Лишь в твоей душе нашла
То, к чему давно стремилась,
А, достигнув, поняла: скрылось!
Лишь в твоей любви нашла
То, за чем пришла с рассветом,
А, проникнув, поняла: тщетно!
И чего теперь искать?
Жизнь прошла наполовину…
Буду мужу шарф вязать, свитер – сыну.
***
Часы на Спасской башне
Пробили новый век.
И где-то бесшабашный
Родился человек,
Смешной и безмятежный,
Не знающий обид,
Как пух лебяжий, нежный,
Подуй – и улетит...
Но мать его укроет
От бед и от тревог,
Она лихую долю
Не пустит на порог.
«Ещё успеешь, милый,
Пройти стезёй судьбы,
Копи пока что силы,
Смотри благие сны.
Пусть дым войны жестокой
Тебя не обожжёт.
Пусть свет любви глубокой
От зла и лжи спасёт.
Пусть честь и справедливость
Скрепят твои дела.
Пусть будет жизнь красивой
От правды и добра...»
Так пела мать ребёнку,
А мир вокруг молчал...
Быть может, в песне звонкой –
Начало всех начал?..
***
Ты сегодня позвонил и сказал: «Живой!»
Я обрушилась без сил: «Миленький ты мой!»
Ты сурово приказал: «Мать, не кипишуй!
Все живые, всё путём! Ну, пока, спешу!»
Я рассыпалась от слёз. Голос твой – как меч –
Сердце матери разбил… Как же уберечь
Мне тебя от бед и зла на краю земли?
Я себя бы отдала, только ты живи!
И послышится опять голос строгий твой
Через сотни тысяч верст: «Мама, я живой!»
***
Я тебя жду, ты не смей умирать!
Белого снега покров не тревожь.
Я не сестра, не жена и не мать…
Просто мой сын на тебя так похож.
Русский солдат, через сотни дорог
С просьбой к тебе я опять обращусь,
Чтобы врагов уничтожить ты смог
И возвратился… А я помолюсь…
Я помолюсь о здоровье твоём,
Чтобы спасала молитва от бед.
Ты побеждай! Ну а мы подождём…
Скоро весна – это время Побед!
***
Ты играешь роль блестяще,
Есть в тебе особый дар:
В сером сонном настоящем
Разжигать лихой пожар.
Всё меняется мгновенно
От желаний до речей
В этом городе степенном,
Где никто нигде ничей.
Маски яркие кружатся,
Лицемерие тая…
Жизнь полна инсинуаций.
В них – вся сущность бытия.
***
Я Бога чувствую во всем.
И странно мне смотреть из окон
На то, как плачет под дождём
Уставший путник одиноко.
Зачем? Куда бежит вода,
Системы, кажется, не зная?
А я-то верую, что – да,
Сосчитана слеза земная.
На небо, путник, посмотри
Сквозь ткань текучего пространства.
Пусть это будет миг один,
Но в нём – величье постоянства.
Мы просто не умеем жить
Планетной целостной судьбою,
Ведь если здесь слеза дрожит,
То ТАМ она крупнее вдвое.
Мы просто не хотим принять
В свои сердца земную тайну,
Мы просто не умеем ждать
Того, что кажется случайным.
***
Я о любви говорю по-французски,
Я на иврите читаю псалмы.
Только о вечном пою я по-русски,
Только по-русски я плачу. А Вы?
***
Всё распалось, лишь Усталость
У окна стоит одна.
Не красива, не спесива –
Молчалива и скромна.
Руки тонкие сжимают
Мокрый лист последних слов.
Ветер косы расплетает,
За окном уже – Покров.
Что осталось? Только малость:
Слёзы прожитого дня.
Я пойму тебя, Усталость:
Ты похожа на меня.
***
Оранжевый вечер рябин
Дрожит у меня за окном.
Сегодня фатально один
Сижу за тенистым столом.
Разбросаны клочья стихов.
Но я их уже не спасу.
И спелые ягоды слов
Тебе я во сне принесу…
А утром белее седин
Повсюду снега заметут.
И яркие гроздья с рябин,
Как капельки крови, спадут.
Наталия Евгеньевна Мусинова
________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 15:13 | Сообщение # 1557 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Эту лёгкую строчку волною прибило,
а вот этой, тяжёлой, — ударило в ставню...
ах, махну-ка рукой, расскажу всё как было
и ни тайны себе за душой не оставлю.
Но смешны мои тайны, просты мои тайны:
этот трепетный образ был пойман на рынке,
а вот этот — когда я, по небу летая,
обнаружил две розно порхавших пылинки.
Я из этой вот лужи пил воду святую,
из вот этой тюрьмы любовался рассветом,
а вот в этой траве я нашел запятую,
после ставшую точкой, но дело не в этом.
Я на этих гвоздях танцевал под сурдинку
и, от боли крича, объяснял, что ликую,
а сюда, до угла, провожал Эвридику
— может, даже и ту... я не помню какую.
А вот тут я простился с одною страною,
обменяв у таможника шило на мыло,
но и это неправда, как всё остальное,
потому что всё было не так — а как было.
(Евгений Клюев)
***
Как верёвочка вилась
Это будет непросто: рассказать, как Верёвочка вилась, — больно уж замысловато она вилась… Честно говоря, я и сам не видел никогда, чтобы та или иная верёвочка вилась так замысловато! Большинство верёвочек ведь как вьётся: виток вправо — остановка, виток влево — остановка, виток вокруг — остановка… и никаких тебе перемен. А эта Верёвочка вилась просто как Бог на душу положит. И не признавала она ни вправо, ни влево, ни вокруг: начнёт, стало быть, виток вправо, а уйдёт влево — и поминай как звали! А уж об остановках и говорить нечего: не было никаких остановок.
— Так верёвочки не вьются, — строго замечал Дедушка, наблюдавший за тем, как Верёвочка вилась. Уж кто-кто, а Дедушка-то всё про верёвочки знал: он таких верёвочек на своём веку сотни, а может быть, и тысячи перевидал.
Потому-то Дедушке и верили: раз говорит, что верёвочки так не вьются, значит, не вьются!..
А Верёвочка — вилась! И возникало впечатление, что дедушкины слова для неё ничего не значат. И ещё возникало впечатление, что ей было всё равно, как верёвочки вьются….
— Дедушка, — говорили все вокруг, — да что ж у нас тут получается? Ты говоришь, верёвочки так не вьются, а она вьётся и вьётся!
В ответ на это Дедушка только пожимал плечами и бормотал себе под нос:
— Просто чепуха какая-то получается! А больше ничего не получается…
Сказать по совести, Верёвочка иногда на минутку останавливалась и говорила себе: «Скорее всего, это чистая правда, что так верёвочки не вьются. Скорее всего, мне давно пора перестать так виться, а то прямо даже и неловко…» И она уже было совсем начинала переставать, и она уже было почти переставала, но в конце концов забывала переставать — и опять вилась как Бог на душу положит, потому что замечательное это было занятие — виться как Бог на душу положит!..
— Простите, Вы где учились виться? — спросил вдруг у Верёвочки некто… некто в белом.
— С кем имею честь? — растерялась Верёвочка: она никак не могла разглядеть говорившего.
— Мотылёк, — представился крохотный собеседник. — Мотылёк из породы однодневок.
— Рада познакомиться, — сказала Верёвочка и тоже представилась: — Верёвочка. Верёвочка из породы… — Тут она хорошенько подумала и исправилась: — Беспородная. А виться… виться я нигде не училась: у меня оно как-то само — вьётся.
— А у меня как-то само не вьётся, — вздохнул Мотылёк. — Нет, конечно, у меня тоже как-то вьётся… но только не так здорово, как у Вас.
Тогда Верёвочка смутилась и сказала по секрету:
— Самой-то мне иногда кажется, что не так уж и здорово… Дедушка вон всё время недоволен: говорит, так верёвочки не вьются. Уж кто-кто, а Дедушка-то всё про верёвочки знает!
— Это точно, — согласился Мотылёк. — Дедушка знает.
— Он потому знает, что уже очень много лет на свете живёт, — подхватила Верёвочка. — И верёвочек таких на своём веку сотни, а может быть, и тысячи перевидал.
— А я вот ни одной не перевидал, — сознался Мотылёк. — И даже больше скажу: я, кроме Вас, ни одной верёвочки в жизни не встречал. — Он основательно вздохнул и вдруг с решительностью закончил: — Но вьётесь Вы всё равно здорово. Мне почему-то даже кажется, что Вы лучше всех на свете вьётесь. Вейтесь так, пожалуйста, всегда!
— Всегда она не сможет, — заметил случившийся поблизости Дедушка. — Потому что… потому что сколько верёвочке ни виться — конец будет. — Нельзя сказать, что он произнёс это с радостью… но и огорчения особенного в его голосе тоже не было.
— Вот видите? — шепнула Верёвочка Мотыльку и с грустью повторила: — Конец будет. Уж кто-то, а Дедушка-то про верёвочки всё знает!
— Дедушка знает… — опять согласился Мотылёк, а потом опустился около Верёвочки и совсем тихо — так, чтобы Дедушка не слышал, — сказал: — Но для Дедушки Вы просто одна из верёвочек… из тех самых верёвочек, которых он на своём веку сотни, а может быть, и тысячи перевидал. Для меня же Вы единственная в мире верёвочка, первая и… и последняя. Вы вились, когда я появился на свет, и будете виться, когда я исчезну… а мне уже скоро исчезать: я же из породы однодневок! И вот что я Вам скажу: для меня Вы так и будете — виться и виться, и Вам никогда не будет конца. Для меня Вы вечная Верёвочка… даже не так: для меня Вы — вечность.
С этими словами он действительно исчез, а Верёвочка, горько вздохнув, продолжала виться. Она вилась под наблюдением Дедушки, который время от времени качал головой и строго повторял: «Так верёвочки не вьются». Впрочем, теперь уже Верёвочка и вовсе не слышала дедушкиных слов: она вилась, вилась, вилась — и всё не было и не было ей конца.
***
Два зонтика
Два зонтика познакомились в липовой аллее. Они шли навстречу друг другу — и прямо-таки обмерли, когда их хозяева остановились и заговорили.
— Здравствуйте, — сказал хозяин Чёрного Зонтика голосом низким и мягким. — Какими судьбами в наш район?
— Здравствуйте, — сказала хозяйка Пёстрого Зонтика голосом светлым и лёгким. — Проездом.
Разговор продолжался, но зонтики не слышали его. Да если бы и слышали — разве могут зонтики понимать человеческий язык! А если бы и понимали — разве могут зонтики разобраться в человеческой жизни! Впрочем, зонтикам было не до этого: они смотрели друг на друга.
— Вы так красивы, — хрипло произнёс Чёрный Зонтик, — что у меня даже болят глаза. Как называются Ваши цветы?
— Ромашки, — прошелестел Пёстрый Зонтик.
— Ромашки, — повторил Чёрный. — Никогда не видел таких цветов у других. А ведь объездил весь мир. Наверное, Вы из какой-нибудь далёкой страны?
— Ах, нет, — рассмеялся Пёстрый Зонтик. — И даже не из другого города. Что же касается моих ромашек… Посмотрите, какие красивые японские цветы на зонтиках вокруг Вас!
— Мне до них дела нет. А Ваши ромашки напомнили мне детство. Моя деревянная ручка родом из леса. В том лесу был один замечательный лужок. Может быть, на нём росли такие цветы, как Ваши, только я уже точно не помню. Это было давно.
Зонтики даже не замечали, что давно движутся в одном направлении.
— А я, — смущённо сказал вдруг Чёрный Зонтик, — наверное, кажусь Вам таким, как все.
— О нет! — с поспешностью воскликнул Пёстрый Зонтик и очень смутился от своей поспешности. — Вы совсем не похожи на всех. Вы такой большой и печальный… Наверное, от того, что Вы такой большой, в Вас так много печали.
Чёрный Зонтик усмехнулся:
— Просто я старый. Когда я был молод и у меня были ещё целы все спицы, я, кажется, действительно, выглядел… гм, бравым. Я раскрывался, с таким, знаете ли, треском: крррах! Многие прохожие даже шарахались. А теперь меня трудно раскрыть — и спицы мои скрипят. Ну и потом, я, конечно, изрядно пообносился. Видите ли, меня уже несколько раз латали. И чехол давно потерялся — где-то при переездах. И ручка вся в царапинах, — Чёрный Зонтик улыбнулся и стал от этого ещё печальней.
— Я люблю Вас, — неожиданно сказал Пёстрый Зонтик. — Вы самый лучший зонтик на свете!
— Я? — оторопел Чёрный Зонтик. — Да Вы только посмотрите, какой роскошный зонт шагает справа от Вас. Он даже весь напрягся и смотрит на Вас — как… как влюблённый!
— Он не влюблённый, — едва скользнув взглядом направо, сказал Пёстрый Зонтик. — Он — самовлюблённый.
— Боже мой! — рассмеялся Чёрный Зонтик. — Вы так молоды и так прекрасны…
Внезапно оба зонтика закрыли и сдали на вешалку. Их хозяева вошли в кафе. Зонтики оказались совсем рядом — на соседних крючках.
— О чём Вы думаете? — спросил Пёстрый Зонтик, чтобы не молчать.
— Я думаю о том, — тщательно подбирая слова, отвечал Чёрный Зонтик, — что, если бы я был немного моложе, то попросил бы разрешения поцеловать Вас.
В ответ Пёстрый Зонтик прильнул к Чёрному — они поцеловались и улыбнулись друг другу в темноте.
— Скажите, а Вы часто целовали другие зонтики? — спросил вдруг Пёстрый Зонтик.
— К сожалению, часто, — отвечал Чёрный, — но разве это имеет значение?
— Нет, — просто ответил Пёстрый Зонтик.
— Мы будем жить вместе! — Чёрный Зонтик заговорил взволнованным шёпотом. — Я никогда не буду пускать Вас под дождь, чтобы не поблёкли Ваши ромашки. Я один буду ходить под дождь: смотрите, какой я большой! Подо мной хватит места не только двоим, но и четверым, если каждый возьмёт соседей под руки. Я буду держать Вас в чехле — красивом чехле с ромашками. И только очень редко стану открывать чехол, чтобы полюбоваться Вами.
— Нет-нет, — протестовал Пёстрый Зонтик, — это я буду ходить под дождь! Вас нужно беречь: ведь таких, как Вы, нет больше.
Они говорили — и, часто-часто ударяясь об пол, с них капали слёзы.
— Всё мне тут намочили! — проворчал старенький гардеробщик, доставая из кармана клетчатый носовой платок и прикладывая его к глазам. Старенький гардеробщик всю жизнь проработал на вешалке: он хорошо понимал язык зонтиков.
Зонтики долго гуляли в тот день по улицам и строили планы. Внезапно они зацепились друг за друга — и…
— Вы куда? — вскрикнул Чёрный Зонтик и почувствовал укол спицы в самое сердце.
— Я не знаю! — пролепетал Пёстрый Зонтик и вывернулся наизнанку.
Хозяйка Пёстрого Зонтика что-то ещё сказала хозяину Чёрного — зонтики не слышали ни хозяйки, ни хозяина. Да если бы и слышали — разве могут зонтики понимать человеческий язык! А если бы и понимали — разве могут зонтики разобраться в человеческой жизни!
— Вы найдёте меня? — издалека кричал Пёстрый Зонтик.
— Обязательно! — отчаянно хрипел Чёрный.
И, совсем уже потеряв его из виду, Пёстрый Зонтик, расталкивая другие пёстрые и чёрные зонтики и взлетая над ними, прозвенел на самой высокой и чистой ноте:
— Я напишу Вам письмо-о-о!
Евгений Клюев
____________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 06.12.2024, 22:15 | Сообщение # 1558 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| МОТОР-РОЛЛЕР - Опоздавший герой рок-н-ролла https://rutube.ru/video/7ffe3a5531bdca10bc2ff93660634f95/
Дядя Боря подарил
Парню старую гитару
Что за выпивку купил
У бомжа в токийском баре,
Сам играть не научился,
Знал корявых три аккорда
Это был какой-то фендер 58-го года...
***
Песня про советское детство https://vk.com/motorro....2812909
Ты помнишь, брат, как это было?
Стояла во дворе кобыла,
С повозки дед, плюясь насваем,
Кричал: «Бутилька пырнимаем!».
Был пух на тополях взъерошен,
Портфель подальше в шкаф заброшен,
И пело лето, выезжая
На пыльной «Каме» из сарая.
К нему запрыгнув на багажник,
Мы по делам спешили важным:
Нас с нетерпеньем ожидала
Игра забористая «Сало»,
Секретный спуск в подвал со свечкой,
Полет на тросе через речку,
Костер с печёною картошкой,
Где можно покурить немножко.
Ждал квас (по три копейки кружка)
И не китайские игрушки,
Огни аттракционов ярких
В чехословацком луна-парке,
Шашлычных палок алюминий
И слезы на индийском фильме, -
Так искренне теперь не плачут.
Ах, Джимми, Джимми, ача, ача!…
В воротах «Спартака» Дасаев,
Но у «Кайрата» - Сегизбаев!
Он классный тренер, с крепкой хваткой.
И, значит, будет все в порядке.
Но как бы матч ни завершился,
Никто ни на кого не злился,
Не дрались и витрин не били,
А шли и вместе пиво пили.
Ждала веселая скамейка,
Где в ГДР-овских наклейках
Гитары пели вечерами
Так, что девчонки замирали.
И, Боже мой, как нас пьянила
«Мишель» с болгарского винила!
И через «Doors» нам было видно
Все то, что не увидишь в «Windows».
Где эта жизнь через край,
Слегка похожая на рай?
Где все друзья еще худые
И папа с мамой молодые.
Хотел бы я туда вернуться
И в ту же реку окунуться?
Не знаю, брат, а вдруг все это –
Лишь выдуманная планета;
Вдруг мир был просто разукрашен
Вруном, чье имя – детство наше?
Свет, льющийся из глаз детей,
И черта сделает светлей.
Об Интернете не слыхали,
По три недели писем ждали,
Был телефон к шнуру привязан,
Тяжелый телек лупоглазый
Раз в день показывал мультфильмы,
Заумные снимали фильмы.
Книг было мало, скуки много,
Гоняли в школе слишком строго.
Троллейбусы подолгу ждали,
Хотя повсюду успевали.
Эстрада с грустью волоокой
Нам пела о любви высокой.
Непредприимчивые люди
Наивно грезили о чуде,
Всю жизнь в облаках витали,
О деньгах думать забывали…
Ты помнишь, брат, как это было?
Ты помнишь, брат, как это было?
Ты помнишь, брат, ты помнишь, брат.
Ты помнишь, брат, ты помнишь, брат,
Ты помнишь…
***
Брестские крепости https://rutube.ru/video/02afbd01fdab37de4177b0a036694a3d/
Нас никто штурмом не брал,
Все ворота мы сами открыли, -
Даже тем, кто до крови кусал,
Без враждебности жить предложили.
Они были поражены
Тем, что мы безрассудно беспечны,
Что придуманный комплекс вины
Так покорно взвалили на плечи.
А вины насчитали нам лес
Эталоны надменной Европы:
Это наш азиатский замес
И масштабища наши циклопьи...
Продолжая к нам в дом проникать,
Многоопытная заграница
Стала нас у корней подгрызать –
Без корней легче договориться.
Она сгрызла ученых, врачей,
Придушила кинематограф,
Обглодала учителей,
И свой глобус пропил географ.
Прогрызала дыры в мозгах,
Чтобы тряпки туда вконопатить.
Наша воля лопалась в швах,
И совсем продырявилась память.
И когда уже стали в глаза
Называть нас «тупая нелепость»,
Я, решив, что так дальше нельзя,
Превратился в Брестскую крепость.
На клочке материнской земли
Я твердел в круговой обороне,
Чтоб хотя бы его не смогли
Оккупантов вытоптать кони,
Чтоб хотя бы детей не отдать
В рабство их содомитской культуре.
Мне бы раньше пойти воевать!
Но нас очень хитро надули.
Мир плясал вокруг дудки врага,
И предатели всласть жировали,
У нацистов окрепли рога,
Им юродивые подпевали.
И казалось - до пропасти шаг.
И когда эта пропасть разверзлась,
В небо взвился вдруг Родины флаг -
Это билась еще одна крепость!
И другие бились вдали -
Все в дыму, но полные жизни.
Значит, всех подкосить не смогли
«Благодетели» нашей отчизны!
И я понял: дайте нам срок,
Мы сметем этой нечисти ворох!
Наш народ не сотрешь в порошок,
Его можно стереть только в порох.
Не дай Бог вам с огнем лезть к нему,
Проверять того пороха силу!
Он врагов не бьет по одному,
Он их рейхами валит в могилу.
Но урок давний впрок не пошел,
И спустя всего два поколенья
Новый рейх у порога расцвел, -
Хочет дани и повиновенья.
Сколько раз объяснять дуракам,
Наших дедов слова повторяя:
Мы все выплаты вам по счетам
Совершаем 9 Мая!
Что ж, опять объясним дуракам,
Наших дедов слова повторяя:
Мы всегда, по любым вам заплатим счетам,
Каждый раз – 9 Мая!
9 Мая!
Ждите 9 Мая!
***
ПЕСНЯ О ВОЙНЕ
Проснулись все, кому спалось,
На небе что-то взорвалось,
Я распахнул своё окно и глянул вверх,
И тут мне сзади говорят:
«Ты посмотри, опять бомбят!» --
А я в ответ: «Да это ж просто фейерверк!».
Кому ответ?! Кто говорил?!
Ведь я один в квартире был!
Жена у матери -- давно, наверно, спит.
Я обернулся: что за бред!
Передо мной стоял мой дед,
Мой дед, который в 45-м был убит.
Шинель, пилотка, ППШ…
А я стоял, едва дыша,
И головой своей мотал,
Чтоб сон прогнать.
Но дед не думал уходить,
Он попросил воды испить,
Потом сказал: «Присядем, внук, чего стоять?:
Напротив деда я сидел
И, словно в зеркало, глядел.
И дым махорки, незнакомый мне, вдыхал.
А он курил и говорил
Про то, где воевал, где был,
И как на Одере в него снаряд попал.
Тут его взгляд задумчив стал,
И дед надолго замолчал…
Потом вздохнул и произнес:
«Скажи мне, внук,
Ты отчего же так живешь,
Как будто свой башмак жуешь,
Как будто жизнь для тебя —
Сплошной недуг?»
Я растерялся, но потом
Ему все выпалил гуртом:
Что современный человек — такая дрянь,
Что я ишачу на козла,
Что в людях совесть умерла,
И что отмыться им не хватит в мире бань.
Я что-то там еще кричал,
Но тут кулак на стол упал.
Горящим, страшным взглядом
Дед меня сверлил:
«Тебе б со стороны взглянуть,
Мой внук, на жизни своей суть,
И ты б тогда совсем не так заговорил.
Ты был талантлив, всех любил,
Но все в деньгах похоронил,
Искал разгадку смысла жизни, а теперь
Ты ищешь баб на стороне,
Забыл о сыне и жене,
И между миром и тобой — стальная дверь.
Неужто ради ваших склок,
За хлеб и зрелища мешок,
Мы погибали под огнем фашистских крыс?!
Эх, нету Гитлера на вас,
Тогда б вы поняли за час
Всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл…»
Уже рассвет входил в мой дом,
И птицы пели за окном,
Солдат исчез, и я вдруг начал понимать:
В любом из нас сидит война, —
Не знаю, чья в этом вина, —
нам нельзя на ней, ребята, погибать.
В любом из нас сидит война, —
Не знаю, чья в этом вина, —
И нам нельзя на ней, ребята, погибать.
***
Я написал бы на Рейхстаге
В машине времени назад я дал бы тягу,
В Май 45-го, в дымящийся Берлин,
Сквозь ликования пробился, встал к Рейстагу,
И долго-долго, мел ломая, выводил
Большими буквами: "Товарищи, родные!
Прочтите - это ваш потомок говорит.
У нас тут, в будущем, дела совсем худые...
Как будто мир у рва расстрельного стоит.
Чтоб этот мир спасти, вы столько заплатили,
Как никогда и никому не заплатить.
И как бесценный дар вы нам его вручили
С наказом бдительно и бережно хранить.
Но то, что даром достается, очень редко
Умеем мы ценить, тем более - беречь.
Что испытали корни, знать не хочет ветка.
Зачем весной вести о прошлых зимах речь?
И мы, не знавшие блокадных зим, брюзжали
В тепле и сытости и делались нежней.
Секрет святой закалки вашей утеряли,
И с каждым годом становились все ржавей.
Не изготовишь молота из чушки ржавой.
Щит из нее не выйдет, и подавно - меч.
Вот потому, когда давала крен Держава,
Кто ее смог бы от паденья уберечь?
Все то, что вы в боях смертельных добывали,
Мы, испугавшись, что покоя нас лишат,
Продали, отдали, попрятались и сдали
Без боя Киев, Ленинград и Сталинград.
Заводы, воды, пашни, знания, культуру,
Как под гипнозом, поднесли в одном клубке
Владыкам новым. И почудилось, что фюрер
Нас поощрительно похлопал по щеке.
За страх, за то, что мы так с вами поступили,
Нас обрекли с тех пор все время жить, дрожа,
Утратив главное, трястись над мелочами
И бегать даже от картонного ножа.
Нас наказали тем, что мы теперь не знаем,
Как уберечь детей от мерзости и лжи;
Как рассказать им, что мы Родину теряем,
Что счастье - это не количество маржи.
Нам в наказание вернули полицаев,
Но мы им трусим даже в морду дать.
Они: "Хайль, Гитлер!" - мы их только порицаем.
Но их так много, что им попросту плевать.
Они про ту войну нам фильмов наснимали.
И в документах "подтверждения" нашли -
Что перед боем вас в НКВД пытали,
И вы поэтому на смерть без страха шли".
Зачем я это написал бы на Рейхстаге?
Хотел поплакаться. А может попросить,
Чтоб наши там подняли боевые флаги -
И мир насилья до конца пошли громить.
Чтоб у нас в будущем сложилось все, как надо...
Но сам себе ответил: "Не беги к отцам!
Бери их меч, и путь к победному параду,
Как и они тогда, сумей проделать сам.
Бери их меч, и путь к победному параду,
Как и они тогда, сумей проделать сам".
Ильяс Аутов + Мотор-Роллер
________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 11.12.2024, 15:26 | Сообщение # 1559 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Я хоронил кошку,
В пять утра, на рассвете.
В коробке из-под ботинок,
С лопатой, наспех одетый.
Она умерла вот только
И на руках остывала.
Я проверял коробку
От чувства живого жара.
Плачу и не стесняюсь,
Кому и какое дело?
Я – человек несчастный.
Прячу родное тело.
***
Певчая птица
Уткины уезжали в отпуск. За три дня до отъезда позвонили мне.
— Ингвар, спасай.
Вообще-то, я Игорь, но звучание экзотического «Ингвар» мне так нравится, что я не возражаю.
— Чего ещё стряслось?
— Не с кем птицу оставить, — сказала мне Уткина.
— Возьмите с собой.
— Ты с ума сошёл? У него клетка размером с Букингемский дворец.
— Купите поменьше, с Виндзорский.
— Нет, я серьёзно.
— Я тоже серьёзен, как висельник.
— Ну, юмор-то у тебя точно как у висельника, — сказала Уткина, мрачнея.
— Что, кроме меня, никто во всей огромной Вселенной не может прийти позаботиться о вашей птице?
— Никто. Мама в деревне, Корниловы в Турцию уехали…
— Ладно, я понял. Вы надолго сваливаете?
— На две недели. Но там раза три всего и надо будет прийти.
Я вздохнул, пожал плечами, пусть Уткина этого даже и не видела.
— Хорошо.
Клетка и в самом деле оказалась огромной. С меня в высоту, да и по остальным параметрам тоже смотрелась весьма могуче.
— Тут ещё такое дело… — замялась Уткина. — Надо будет цветы поливать.
Цветов было много.
— А… — махнул я рукой. — Сгорел сарай, гори и хата.
Я стоял и смотрел на маленького, в полтора спичечных коробка, кенара.
— Это же кенар?
— Девочки выглядят совсем по-другому.
— Поёт?
— Нет. Уже три года у нас живёт, ни разу не слышала, чтобы пел.
— Странно.
— Да. Я по всем птичьим форумам лазила, чего только не перепробовала, не поёт.
— Я слышал, с ними нужно разговаривать, тогда будут петь.
— Мы разговариваем. И я, и муж, и дети. Бесполезно.
— Может, он немой?
— Может.
Уткина отдала мне ключи, показала, где хранится корм для птицы, как отсоединяется поилка, где стоит лейка, из которой надлежит поливать цветы.
Я пришёл через три дня после их отъезда. Встал, положив руки на клетку, долго смотрел на жёлто-чёрную, с несоразмерно огромными когтями птицу.
— Что ж мы не говорим, братец? — спросил я.
Кенар смотрел на меня чёрным, как маковое зерно, глазом и молчал.
— Слово — серебро, молчание — золото.
Кенар перебрался с жёрдочки на жёрдочку и молчал, словно признавая справедливость моих слов.
Он мне нравился, этот пёстрый комочек жизни, весёлый и беззаботный, как клочок тополиного пуха, который ветер несёт по земле.
На следующий день я пришёл, и в моём рюкзаке лежали два газовых баллончика.
— Понимаешь, дружище, от хорошей жизни не поют. Я это точно знаю, — говорил я ему, прикручивая на баллоны насадки с пьезозажигалками. — Я, если ты не знал — а откуда бы тебе знать? — пою и сочиняю песни. Хорошие ли, плохие, пусть другие судят. Но я-то знаю, что хорошие. Такие, каким равных, может, и нет на современной сцене.
Я нажал на курок баллончика, из носика вырвалось гудящее синее пламя. Я покрутил вентиль, выбирая размер огненного языка. Зажёг второй факел, повторил процедуру. Птица следила за мной с искрой интереса в зёрнышках глаз.
— У меня было прекрасное детство, но это не значит, что там нечему ужаснуться.
Я оглядел домик кенара. Белые крашеные досточки по углам, крыша двускатная. Прямо под углом крыши выжжены изображения двух птичек, похожих на задумчиво замершего на жёрдочке кенара.
— Там было много интересного. Однажды я чуть не сгорел. Меня, младенца, в одеяле вынесли из горящего барака. Потом я имел несчастье утонуть. Почти утонул. Нахлебался воды, лёг на дно без сознания. Спасибо добрым людям, спасли, откачали. Потом, позже, мы с матерью едва не отравились угарным газом, чуть не угорели, если по-простому. Мама слишком рано задвинула вьюшку. Дрова и уголь ещё не прогорели, стали выделять угарный газ. Мать случайно проснулась, инстинкт крестьянский сработал. Вышла на улицу, меня вывела. А так в деревнях ещё лет пятьдесят назад одна из самых распространённых смертей была смерть от угара.
Я посмотрел на птицу. Нет, она, вернее, он, мне положительно нравился. Такое красивое сочетание цветов.
— Знаешь, мне отчего-то нравится запах жжёных перьев. Ещё с детства… Бабушка палила кур над газом, запах на всю избу. Он какой-то очень насыщенный, этот запах.
Я, будто ковбой, изготовившийся к стрельбе, зажёг сначала одну горелку, потом другую.
— Насыщенный… Я помню тушки этих куриц.
Я поднёс горелку к решётке, за которой притаилась птица. Стальная проволока раскалилась и засияла красным.
— Они были какие-то очень голые, раздутые. Такие, знаешь, наполненные жаром, соком и калориями. Такое огромное самомнение. Мне кажется, так должно выглядеть самомнение. Раздутые. Распираемые внутренними соками, которые, на самом деле, всего лишь наша пища.
Я водил горелками по прутьям решёток. Вверх-вниз, вправо-влево, и прутья раскалялись, словно я красил их киноварью.
Птица металась по клетке, стукаясь о прутья и потолок.
— Да… С тех пор я люблю запах жжёного пера. Ты видел, как горят перья? Хотя… Глупый вопрос. Так вот, пёрышки, яркие, невзрачные — любые, — сворачиваются коричневыми комочками, насаженными на ость пера. Если потом пропустить стержень пера меж пальцев, комочки осыпаются с сухим хрустящим звуком.
Прутья раскалялись, полыхали багровым, напоминая решётку, возле которой жарится мясо в шаурмяшной.
Пёрышки от мечущейся птицы летели во все стороны, сгорая в хищном пламени газовых горелок, распространяя так любимый мной запах.
Зёрнышки глаз кенара оставались всё так же бессмысленно блестящи и красивы.
— Я слышал, для того, чтобы кенар пел, с ним надо разговаривать. Уткина сказала, что они много с тобой говорили, но ты не захотел им отвечать. Знаешь, я, возможно, даже понимаю тебя. Всё дело в темпераменте, да? Просто ты интроверт, и песнопения на людях для тебя неорганичны. Так? Я интроверт, ты интроверт, мы всегда сможем понять друг друга. Но это при условии, что ты действительно интроверт, а не какая-то самолюбивая, самоуглублённая тварь, игнорирующая окружающих и своё предназначение.
Птица выкрикнула что-то диким голосом, звук которого, наверное, мог бы довести до инфаркта его мать. Впрочем, я не уверен, что у канареек так развиты материнские инстинкты. Но я творческая натура, люблю перехлёсты.
— Однажды в детстве меня били трое, и я думал, убьют. Не убили. Даже одежду порвали не так уж сильно. Матушке сказал, что с ребятами в «конный бой» играли. Конный бой как раз такая игра, когда карманы отрываются, воротники трещат, даже рукава отрывались. А уж о синяках и ссадинах говорить не стоит. Весёлое было время…
Кенар забился в угол клетки и закрыл глаза.
— У меня отец умер, когда мне одиннадцать лет было. Мотоциклист сбил. Представляешь, шёл человек домой с работы, а тут навстречу пьяный инородец на мотоцикле. Насмерть. Ещё до приезда «скорой». Как я перенёс? Да никак. Сам не знаю как. Мать рыдала не переставая недели две. А я… Да ничего, собственно. Книжки читал. Телевизор смотрел. С мамой сидел.
Я подул на раскалённые прутья. Сталь охотно потемнела под моим дыханием.
— Потом у нас ещё крыша у бабушкиного дома сгорела, когда мне лет двенадцать было. Сидим, знаешь, в доме, телевизор смотрим, и вдруг чувствуем лёгкий запах дыма. Смотрим в окна, а там белые клубы. И, знаешь, даже непонятно, что происходит. Бабушка подумала, что соседка горит, закричала: «Ой-ой, кума Верка горит!» А то не Верка, то мы горели. Вот так.
Мне нравилось, как наливается красным проволока решётки, как из серой и тусклой она превращается в карнавально-яркую, с лёгкими искрами, мечущимися по поверхности, как дрожит воздух возле раскалённых прутьев.
— Я не знаю, почему я стал писать песни. Может, нипочему, потому, что так положено, а может, потому, что сумма страданий в какой-то момент, достигнув критической массы, перевоплотила меня в нечто иное. Разве не может быть такого? Нет-нет, только так быть и может. Количество переходит в качество. Количество страданий переходит в качество музыки. Или текста. Ведь логично же?
За две недели баллоны с газом опустели. Уткины вернулись домой.
— Ты цветы вообще, что ли, не поливал? — завопила в трубку Уткина.
Я спокойно отношусь ко лжи. И своей, и чужой.
— Поливал, — соврал я уверенно.
— Гибискус половину листьев сбросил, остальные висят как тряпки. Смотреть страшно.
— Не знаю. Может, заболел чем.
— Ты точно его поливал?
— Поливал, — честно сказал я, вспомнив, как один раз плюнул в горшок.
— Остальные цветы в порядке, только гибискус…
— Поливал, — снова твёрдо соврал я.
Через три дня Уткина позвонила снова.
— Что, гибискус приказал долго жить? — спросил я.
— Нет, гибискус в полном порядке. Дал за время нашего отсутствия четыре бутона. Один уже почти распустился.
Голос её был глух и задумчив.
— Кенар поёт…
— Прекрасно, поздравляю.
У меня и самого внутри что-то восторженно дрогнуло.
— Он не пел три года.
— Но вы же разговаривали с ним.
— Да.
— Вот. Количество перешло в качество.
— Похоже, — голос звучал неуверенно. — Там ещё на решётке какие-то разводы.
Я по образованию инженер-металлург и знаю, что эти разводы называются «цветами побежалости», и возникают они, как правило, именно из-за термообработки.
— А, вот ты о чём… Мне показалось, что клетка, прутья, грязные, и я их помыл. Взял какое-то чистящее средство и помыл. Наверное, оно дало такую реакцию.
— Оказалось, он очень красиво поёт.
— Кенар?
— Да. Только, бывает, начинает петь часа в четыре утра. Или в пять.
Я промолчал.
— Он у вас очень красивый, — сказал я. — Я с ним тоже разговаривал.
Я вспомнил, как жёг над раковиной газовой горелкой выпавшие из крошечного тельца кенара перья. Они хорошо пахли. Как тогда, в детстве, в деревне.
***
В Москве не пишется.
Не знаю, почему!
Столичный дух не кажется пьянящим.
Я вижу здесь убогую страну,
Живущую убогим настоящим.
Век Золотой осел на куполах,
Серебряный – растаскан по музеям;
Век нынешний – от двух минувших прах,
Покрытый политическим елеем.
На улицах великих москвичей –
Чужая речь, неузнанные лица.
Не пишется в Москве.
Ну, хоть убей!
Не пишется, любимая столица!
Я лучше – в глушь, где воздух по утрам
Так густ и прян, что с рук напиться можно.
И дышится, и пишется мне там.
В Москве – не то.
Неискренно.
Тревожно.
***
Резные ставенки, крылечки,
Густые заросли травы,
И всюду печки, печки, печки –
В ста километрах от Москвы.
У изб – размашистые ели,
Беседки, лавки… Но, увы,
Пустуют детские качели
В ста километрах от Москвы.
А что сказать, когда за тыщу,
А как стерпеть, когда за две –
В остывших трубах ветер свищет,
Накувыркавшись по траве?
В горах теряются закаты,
В озёрах – отблески зари.
И в рыхлый мох врастают хаты
В трёх километрах от Твери.
***
Туман над тихою водой,
А в камышах – как будто всплески.
Сопит сынишка за спиной,
Впотьмах распутывая лески.
Над ним ещё воркует сон,
И он позёвывает сладко…
– А есть такая рыба-слон?
А рыба-клоун? А зубатка?
Молчим минуту, может, две…
Вода под нами розовеет.
Коряги ивовой правей
Мой поплавок дрожит, как веер.
– А червяку не больно, пап,
Когда его крючком – по пузу?
– А что всех больше любит карп?
Перловку или кукурузу?
– А что…? А если…? А когда…?
Болтает – пусть себе, не жалко.
И чёрт с ней, с рыбой. Ерунда!
Ведь это сынова рыбалка!
***
Не рыбацким было утро,
На воде лежал туман,
В сизых складках перламутра
Зябко ёжился бурьян.
Митрич шамкал: не по делу
В рань такую поднялись…
И прогнав озноб по телу,
Долго сетовал на «жисть».
– Нет, не будет клёва ноне,
Зря разматываешь снасть.
… Через час в моей ладони
Бился кряжистый карась!
– Ты гляди, споймал, однако!
Взял на хлеб, аль на червя?
А увесистый, собака…
Ладно, брат, взяла твоя!
И ободренный почином,
Митрич скрылся в камыше…
Больше не было причины
Старика ругать в душе.
***
Не о том печалимся, мужики!
Тянет вольным воздухом от реки,
Над костром качается котелок,
Тлеет, разгорается уголёк…
Снасти позаброшены, не до них –
Разливаем «горькую» на троих,
После «первой» втянемся в разговор –
Пусть кому-то кажется: экий вздор…
Только нет осмысленней и важней
Разговора честного меж друзей.
Двадцать три пропущенных: все – жена.
А беседа тянется до темна…
По мосточку ветхому через ров
Гонит бабка с руганью двух коров.
Провожаем взглядом их и молчим.
Хорошо, что выбрались – посидим.
Сколько ж мы не виделись? Года три?
А на небе россыпью – янтари!
А под этой россыпью – рыбаки…
Хорошо, что встретились, мужики!
***
Старые москвички в стареньком трамвае
О своём, о бабьем, тянут разговор:
– Дочь вчера звонила…
– Ишь, не забывает. Где она?
– В Тюмени.
– Что ты! До сих пор?!
– Да, уже лет десять. Говорит, неплохо.
Вкалывает, правда, до ночи с утра.
– А мои – в Самаре. Тоже – слава Богу.
Не Тюмень, конечно, но и не дыра…
Помолчали. Тряско в стареньком трамвае.
Взвизгнула сирена где-то в стороне.
– Ты скажи мне, Соня, я не понимаю,
Что там обещает Прохоров стране?
– Сашенька, ну что он может дать народу?
Всё, что сохранили, разметелит в прах.
Посмотри на эту новую породу –
Где ты видишь совесть? Он же олигарх…
– Да, совсем забыла: заходила Мила,
Говорит, что будто Зойка померла.
Ну, ты помнишь, та, что в «котике» ходила,
А потом напротив Зотовых жила…
Замолчали снова. Может, из-за Зойки,
Может, потому что просто вышел пар.
Двадцать третий номер шёл по рельсам бойко,
Хоть и был, пожалуй, как москвички, стар.
***
– Как мы живём? Живём неплохо.
Оно, конечно… как сказать.
Но в целом ежели, Антоха,
Жить можно, можно. Правда, мать?
Вот дали к пенсии прибавку,
Рублей сто семьдесят, поди…
Министра – слыхивал? – в отставку!
Жизнь лучше станет, погоди.
Нам хлеб возили раз в неделю,
Теперь, пожалились, так – два!
При церкви сделали купелю,
А-то ведь старая – в дрова!
С «собеса», ента… Валька ходит.
Мы с ней, как водится, – чайку!
Как шефство к нам у ей, навроде,
А мне приятно, старику.
Да! Фельдшерицу отыскали!
А то уж год как никого.
Ей при медпункте угол дали –
С району ездить далеко.
Жить можно, можно…
Мы со старой
Уж отложили, почитай, –
Когда ребятам на подарок,
Когда себе на самый край.
Вот только знаешь что, Антоха,
Уж больно жалко молодёжь.
Работы нету, вот что плохо,
Отсюда – пьют, ядрёна вошь…
Замолк старик – припомнил были,
Хоть и придумать был мастак!
– А знаешь что, и мы ведь пили,
Да как-то, кажется, не так.
***
Мы смотрим с тобой на степи,
На голую плоть земли.
Колышется точкой стрепет
В колышущейся дали.
Колышется пол вагона
И выдувший чай сосед.
Буфетчица, как Мадонна,
Плывёт за тележкой вслед.
В Черниговке будут раки,
Вареники – в Пологах,
За Юрьевкой вспыхнут маки
На тонких своих ногах.
И было бы всё так просто –
Буфетчица, раки, зной…
Так нет же, нам мало роста
В обыденности такой!
Мы будем с тобой копаться
В природе простых вещей,
А я бы непрочь остаться
Профессором кислых щей.
***
Человек что-то вроде двух лет,
Что не знает ни дня, ни ночи,
На дорогу глядит, там отец
И в руках его белый бидончик.
В том бидончике спит молоко,
И его через день покупает
Лейтенант артиллерийских войск.
Мой отец, мой папа, батяня.
Человек сорока с чем-то лет
Отчего-то теперь вспоминает,
Как идет по дороге отец
И как белый бидончик мелькает.
***
Ничего не исчезнет. Все здесь.
Мы капли. Вышли из океана и уйдем в океан.
Там мой отец, моя кошка,
И лошадь, которой правил дед Иван.
Дед Иван, он возил воду и не умел материться.
Там пруд, что давно пересох, и сожженные книги, все до последней страницы.
Там стихи, что я сочинил, но забыл, и все снеговики растаявшие.
Времени нет. Все здесь. Даже умершие и отчаявшиеся.
***
Галина Бениславская смотрит на пистолет, сидит у могилы Есенина,
Пишет записку, что все потеряно, и все дорогое теперь в могиле, на дне ее.
Ночь холодна, и она продрогла, сухи глаза ее, сухо горло.
Могила еще тепла, она ходит сюда каждый вечер.
Память не отпускает ее, время не лечит.
Есть такие истории в мире, которым не помочь, как ни жалуйся.
Полугрузинка-полуфранцуженка, теперь на Ваганьково. Вся.
***
1613
Что, пан, хороши костромские леса?
Как смерть красна и как ночь ясна.
Что думает пан, скоро ль будет весна?
Что вам сквозь ребра лучше, береза иль сосна?
Выглянет весна незабудкой из ваших глаз.
Наша земля всех любит, полюбит и вас.
Всему свое время, пан, всему свой час.
Отпою вас прямо сейчас на первый глас.
Все одно не поймете, басурмане, скопцы и воры.
Не увидеть весны вам нашей, хоть лес и полон коры.
Разводите костры, пейте кровь друг у друга, как псы.
Не увидеть весны вам нашей! Не видеть весны.
А я прорасту опятами, мхом, можжевельником.
Полечу прямо на небо пыльцой от ельника.
Того самого, что из ваших ребер пророс.
Вот и сама глушь. Добралися. Спаси Христос.
ИГОРЬ МАЛЫШЕВ
______________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 12.12.2024, 16:52 | Сообщение # 1560 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Чудная Родина моя,
не существующая ныне...
греховных мыслей колыбель
и света ангельский приют...
души хозяйские края,
поля, бескрайние пустыни...
Там всем давалось по судьбе —
и богачам, и голытьбе,
в которой Мир был, Май и Труд.
Святая Родина моя —
твердыня разума и веры...
Теряя голову сама,
ты отдавала всё другим...
Добыв бессмертие в боях,
ты умерла довольно скверно,
зайдя, как лучшая из мам,
в тот беловежский растуман
на упырёвские торги.
Ночь рыдала,
когда нечистые тебя держали руки,
в печку бросив все обещанья матерям.
Пьяный выстрел —
на пол легла ничком без звука
неживая Родина моя.
Я не сумею обойти
журчанье ручейков мелодий...
ни невский берег, ни Днепра
широкий полноводный вал...
ни горный Терек, никого
из их высокоблагородий,
которые позли бегом
в некомфортабельный вагон, —
и эту Родину я знал.
Как модно нынче поминать
тебя в кончины годовщину...
гордиться не своей судьбой,
хулить чужие времена...
Не все смогли тебя понять,
у них на то свои причины,
но те, кто дорожил тобой,
хранят в сердцах своих любовь
к тебе, погибшая страна!
***
ЭТО БЫЛО ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ
Это было хорошее время,
хоть и мало платили врачам.
Я, к несчастью, родился евреем,
но, к счастью, этого не замечал.
Не по блату я рос, не задаром,
вырастал из советских штиблет.
Попросил раз, и папа гитару
прикупил аж за девять рублей!
Сушки с маком — весь кайф до копейки,
никаких там «колёс» и шприцов.
Подросли — оттянулись портвейном,
участкового знали в лицо.
Улетал рано утром Гагарин,
чтоб к обеду легендою стать.
Он подтвердил, что Земля наша — шарик,
и рассказал, что не видел Христа!
Холод лёд ковал,
тепло рожало рыжики,
строил города
один большой завод.
Всё подмётки рвал,
куражился да пыжился,
только вот не знаю, для чего.
Шелестели под окнами липы —
там пятно под застройку теперь.
Ни тебе сериалов, ни клипов,
домофон не уродовал дверь.
Ключ под ковриком — милости просим,
все воры были наперечёт.
Маньяков останавливал «Мосин»,
а дураков — комсомольский значок!
На каникулы ездил в столицу —
прогуляться по ВДНХ.
Перья чистили разные «птицы»,
но в брюках — ни одного «петуха»!
Тёлки сено жевали в загонах,
а у быков цепи были в ноздрях —
всесоюзных лугов чемпионы
вас кормили, поили, но зря!
За железной большой занавеской
мы сидели за общим столом,
было мало свободного места,
но было много толковых голов!
Устный счёт — это так примитивно,
ну по-любому, с любой стороны,
но калькуляторам альтернативы
нет сегодня на рынках страны!
В джинсы мир, как в доспехи, закован,
ими бредил нормальный пацан,
Levi Strauss — волшебных два слова
открывали девчонок сердца!
И, я так думаю, это неплохо —
слушать Lady Madonna ремикс,
ведь битломания — это эпоха...
а перестройка — истории миг.
Перестроили всё, что возможно,
а заодно — всё, что было нельзя.
Меч вложили мы в ржавые ножны —
и кулаками нам нынче грозят!
Руки мастерски чистят креветки,
разучившись держать булаву,
но покуда есть Саня Поветкин,
я с надеждой на счастье живу!
***
ОДНАЖДЫ НА ЛИГОВКЕ
Это было однажды на Лиговке...
лет за двадцать до фильма Копполы...
с толстым Костей и тощим Игорем
пирожки у лоточницы «двигали»
и за обе щеки их лопали!
На другой половине «шарика»...
в подворотне напротив Бруклина...
первым солнцем весны ошпарены,
точно так же под юбками шарили
у девчонок с кудрями-буклями!
Сколько лет, сколько зим —
сообразим!
Это наш магазин,
не знал я невообразимей места!
Гастроном со страной
жил общим днём,
главной звучал струной
в разноголосии больших оркестров!
В выходной на Елагином острове...
отдыхали на списанном катере...
на костре щи варили постные
и накрывали на старой простыни,
ну точь-в-точь, как взросляк на скатерти!
Это было однажды на Лиговке...
где не пахло еврейской мафией!..
Несидевшее поколение,
мы смотрели кино про Ленина,
и остались лишь фотографии!
***
Воскресенье
Ах, как хлеб стоял,
Раболепствуя,
Перед ветром, рвущим колосья ржи.
Озерцо цвело,
И лицом в село
Я уткнулся возле сырой межи.
Где-то конь заржал,
Поплыла баржа
По реке, что от мамки в пяти верстах.
А я на той барже
Был тогда блажен,
Да и жизнь была, как цветок, проста.
Но разросся куст,
Ягода в соку -
Потекла через пальцы чужим вином.
Бессеребреник,
По поребрикам
Я в обнимку ходил со своей виной.
Город гнал в листву,
Барабанов стук
Отзывался жалейкой в груди легко,
Свежим воздухом,
Ливнем, грозами
И дурманом навозным, и молоком.
Шинелькой серою
С Надеждой, Верою
Мы укрывались летним сном.
Хватало неба нам,
Любови не было -
Она крутила не со мной.
И как-то просто так
Вдруг стали взрослыми,
А старики нашли заветный ключ
В поля печальные,
Куда отчаянно
Я каждой осенью стремлюсь.
Канитель моя
В грандотель "Хайат"
Покатилась клубком под Витька баян.
Раскачалась высь,
Закричала выпь,
И очнулся я в белой палате пьян.
Санитар-"качок",
Раззудись плечо,
И сестричка - с ума от неё сойти.
И пуста уха,
И черёмуха
Мне шептала в окно: "Это сердца тиф".
А я и знать не знал,
Что это добрый знак,
И зарывался глубже в снег
Прохладной простыни.
На сердце оспины,
Хотелось спрятаться от всех.
А я и знать не знал,
Что это добрый знак,
И всё смотрел на купола
Златоголовые.
Чума еловая
Меня опять к себе звала.
Ел укромно я
Всё скоромное
И хоромов не знал, и душил свой смех,
Но прицепной вагон,
Как со дна багор,
Подхватил, потащил мою душу вверх.
И полез кормить
Перелесками
Малых пташек и зайцев, как дед Мазай.
И на меня опять
Сошла благодать,
И опять заблестели мои глаза.
И снова серою
Шинелькой с Верою
Мы укрываемся в ночи.
Надежда-молодость,
Нам с ней не холодно.
Любовь на выселках кричит.
Пусть подождёт та дверь,
Куда уйду навек,
Однажды взяв заветный ключ
В поля печальные,
Куда отчаянно
Теперь я больше не стремлюсь.
Александр Розенбаум
__________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 14.12.2024, 19:32 | Сообщение # 1561 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Сгущается ночь, стонут рельсы издалека —
заблудший состав ткнулся носом в ладонь вокзала —
и тянется, тянется запах хлеба и молока
и трав луговых над землёй из конца в начало.
Лежишь на траве, дышишь: — Господи, я живой!
Вот совесть моя — не грызёт, а мурчит котёнком.
И тянется, тянется только небо над головой
и тянет запеть — под гармошку бы да негромко,
чтоб каждою нотой лелеять свою печаль,
ведь вряд ли уже повторится подобный вечер…
Состав в луговину ворвался, конём фырча,
и скрылся вдали, где трава прорастает в вечность.
***
Ржавое с чёрным – осень.
Меркнущий тихий свет.
Трактор, клюющий носом –
трассы в помине нет.
Жмутся избушек десять,
дальше овраг и лес.
Кто не уехал к детям,
тот выживает здесь.
Щурится баба Паша,
хлопоты всё в дому,
жизнь непростую нашу
клясть – это ни к чему.
Сев, опершись на руку,
ловит короткий сон,
вздрагивая от стука –
хода стенных часов.
Волнами раскачало
прежних времён уклад –
дочь городская стала,
вот бы старик был рад.
В людях теперь, при муже,
стало быть, жизнь права.
...Стынет нехитрый ужин,
клонится голова.
Ветер шумит по саду,
словно обретший плоть.
Всё будет так, как надо,
будет – как даст Господь.
***
Так тихо здесь – куда ни погляди:
лесок вдали, заброшенное поле,
неясные надежды впереди
и пониманье – это всё пустое.
Не отмолить рождённым во грехе
грехов своих в травой заросшем храме.
Что было – солнцем катится к реке,
чтоб сгинуть в ней мгновенно, словно камень.
И никого ни скли́кать, ни сыскать –
здесь небо избам продавило крыши.
Листает ветер травы, как тетрадь,
в которой слов вовек не разобрать
и голоса родного не услышать.
***
Вспоминается так беспросветной осенней порой:
по автобусу ржавому лазили мы детворой.
Он, по самые оси ушедший в родной чернозём,
нам казался спокойным и ласковым рыжим конём.
Лопухи и крапива вовсю бушевали вокруг –
это был первозданный его, неизведанный луг.
Мы по этому лугу летели легко и светло
и упёрлись в забор... До свидания, детство прошло.
Я и сам не заметил, как к буре житейской привык,
а коня навсегда на буксире увёл грузовик.
...Только грезится вдруг посреди суматошного дня:
он стоит в лопухах, приглашая в поездку меня.
***
Девчушка-цыганка, от силы тринадцать на вид,
гадала для всех, в остановке от шума укрывшись,
и в море людском, что волнуясь куда-то спешит,
казалась нездешней, как будто ниспосланной свыше.
Сквозь лёгкую дымку виднеется издалека
то странное время, в котором прошло моё детство.
Девчонку зарезали вечером возле ларька,
и некуда было от этой жестокости деться.
Тогда было так – отпылало недавно в Чечне,
но гибли повсюду от водки и жажды наживы.
Смешная девчонка на счастье гадала стране,
и, может быть, мы до сих пор лишь поэтому живы.
***
Уехал прочь автобус в темпе вальса,
проспект Победы блещет как Бродвей.
Девчонка с сигаретой в тонких пальцах,
ты грусть мою случайную развей.
Пускай мужик глазеет на балконе,
мы не тревожим уличный покой.
Ночь впереди, и нас никто не гонит,
и на такси надежды никакой.
Ты не явилась горькою виною
за сгубленные без толку года,
не рвёшься стать случайною женою –
и потому красива и горда.
Я не искал карьеру в униженьях,
не лобызался дружески с врагом,
а потому не надо утешений –
поговорим о чём-нибудь другом.
В неоново-фонарном белом свете,
в пространстве между «здравствуй» и «прощай»
смеёмся мы, наивные как дети,
над случаем, что свёл нас невзначай.
***
В память краткосрочные визиты,
как с самим собою прежним связь.
...Улица была незнаменитой,
ведь она Заречной не звалась.
Хоть весны бумажный самолётик,
лёгонький, метался тут и там,
лучше помню осень на излёте
и ватагу нашу по дворам,
по скамейкам в многолюдных скверах,
в чёрном «адидасе», на ветру,
не к словам привыкшие, а к делу,
большинство – студенты ПТУ.
Обретая голос, слух и зренье,
я себе всё чаще повторял:
только труд достоин уваженья,
пусть он даже для кого-то мал.
Потому к успехам не ревную –
по заслугам каждому дано.
В люди шёл не через проходную,
только суть не в этом всё равно.
***
Весёлый день – почти уже весна,
и кажется, не к месту вспоминать нам –
два слова есть: «Россия» и «война»,
сплетённые в смертельные объятья.
Так повелось, не разберёшь, когда,
и тянется, и после повторится...
На всю страну единая беда,
вот в чём оно – народное единство.
Почти весенний день. И жизнь кипит,
и тает снег, и всё яснее дали...
Склонясь к гитаре, плачет инвалид
о пацанах, погибших на заданье.
***
На меня, не видевшего боя,
через непролазный русский мрак
смотрят те, кто лёг в бескрайнем поле –
не смогли их вытащить никак.
Солнце, что всегда проходит мимо,
им как пламя Вечного огня.
Сколько шрамов на лице без грима
у страны, что смотрит на меня.
Раз не всем, кто пал, нашлось местечко
под надгробьем звёздно-фронтовым,
значит, звёзды в небе каждый вечер
до единой все – во славу им.
Им ветра весной играют марши
или вальсы довоенных лет –
мальчикам и девочкам, пропавшим
без вести в своей родной земле.
***
С нечёсаной, немытой головой,
в запёкшейся крови, под старой ивой
он улыбался: главное – живой,
и отводил глаза свои стыдливо.
Футболила щебёнку пацанва
в него, как злобный рой вокруг кружила...
Он голову руками закрывал
в смирении, уму непостижимом.
Когда народ со смены шёл домой,
его сгоняли матом с остановки.
Он улыбался: главное – живой,
и уходил смущённо и неловко.
Я не припомню, был ли он алкаш,
а имени его не знаю вовсе.
Он просто был. Обычный, как пейзаж.
Как солнца свет, как, предположим, осень.
Он в Лету канул сколько лет тому
назад, а всё осталось тем же самым:
автобус, небо в заводском дыму,
девчонка, в сад идущая за мамой...
...Но если вдруг я не в ладах с собой,
кривится путь и ничего не мило,
подскажет память: главное – живой.
И я живу. И всё преодолимо.
***
Я прихожу всё чаще и молчу
к тем памятникам – часто возле церкви,
где алфавитный строй плечом к плечу
ребят, не возвратившихся к родным.
И суета житейской чепухи
мельчает сразу, затихает, меркнет.
Чтоб я сейчас мог клясть свои грехи,
они остались на полях войны.
Они нашли последний свой приют
под Вязьмой, под Ельцом, под Ленинградом,
не ведая, что Гитлеру капут,
что внуки носят их над головой.
До мутно-влажной пелены в глазах,
до боли в сердце прошибает правда –
уж если без иронии сказать,
то только им: «Спасибо, что живой».
***
Не берегли нас ни кресты,
ни материнские молитвы.
Чтоб с жизнью перейти «на ты»,
свои проигрывали битвы.
Без сожаленья всё пожгло
бедой и горем вперемешку,
и поздней осени тепло –
как неуместная усмешка.
Удачных сторонясь дорог,
брели, не разбирая брода...
Стоим, застигнуты врасплох
любовью, словно непогодой.
***
Вот оно – завершение всех сует:
фотографии строго в ряд.
Я всё чаще сюда ухожу от бед
и гуляю среди оград.
Что кому мне ответить? Слова не те,
значит, песню не ту спою.
А тянусь я к загадкам чужих смертей,
чтоб верней угадать свою.
***
Есть тишина первоначальная,
которая стократ горчей
всех пафосных минут молчания
и триколоровых речей.
Слова совсем неповоротливы,
тяжёлые, как валуны,
здесь, где ребята похоронены,
сил на свершения полны.
Из-под Москвы и из-под Грозного,
из-под Донецка в свой черёд
они, намучившись, отозваны,
их больше ничего не ждёт.
Хоть с детства не грешил молитвами,
а шепчешь: «Боже сохрани
всех, кто теперь лежит убитыми
за то, что русские они».
***
Говоря помимо прочего,
в самом главном счастлив я:
в том, что с города рабочего
началась судьба моя,
и Россия не смазливая –
деревенька, купола, –
а тревожно-молчаливая
мне дарована была.
Ведь недавно по окрестностям
смерть свистела там и тут –
я из той явился местности,
где своё не отдадут.
Как бы нас ни гнуло – выстоим,
не согнёмся никогда.
Тихо плещется над Липецком
синих сумерек вода.
Александр
ЛОШКАРЁВ
_________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 16.12.2024, 15:43 | Сообщение # 1562 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Август
Пахнет горькой сладостью, светится янтарём
Август в бокале треснутом, выпьем его вдвоём.
Венка на лбу пульсирует, вязкая кровь как мёд,
Клён на ветру вальсирует, клёну одежда жмёт.
Солнце кусает яблоки, прячет их между трав,
Месяц в своём кораблике тонет, корму задрав.
В храмах кресты украшены, вышли из алтаря.
Путь у него не спрашивай, верь в то, что мы не зря
***
Смейся.
Смейся в голос.
Показывай зубы не только в драке.
Если любить - то с преданностью собаки,
Если быть преданным - то так, чтобы боли хватило на десять песен.
В полном безветрии океан и тесен, и пресен.
Пой.
Пой и рви, пожалуйста, струны и связки.
Мы уже обо всём помолчали. Молчание стало вязким.
Молчание загустело, засахарилось и липнет.
Не надо себя жалеть, надо - как Жанис Липке.
Береги.
Береги... только, господи, не меня. А зарядку на телефоне и маму.
И не жди от меня ни мудрости, ни гармонии. Не Далай-лама.
И напейся уже, наконец, как ни разу не напивался,
Кто кому в этой маленькой кухне сдался. И кто кому сдался...
***
Меня пугают лысые манекены.
Они как сломанные, заблудшие души.
Девушка с волосами цвета «тухлый хомяк ест суши».
Он ей что-то про курс доллара в уши.
Пережевывать надо лучше.
Дорогие часы. Скучный. Тучный.
Между ними явно не хватает васаби.
Статусная складка на шее сзади.
Девочка лет пяти забавы ради
Лапает двери стеклянные, оставляя жирные пятна.
После локдауна смотреть на людей занятно.
Приятно.
Но лысые манекены мне непонятны.
***
Мы грустили,
купали Луну в бокалах.
Ты рассказывал об Австралии и коалах.
Как ты брал их на руки, сразу двух,
И что они переносят болезнь, о которой не надо вслух.
И что по берегу океана прыгают кенгуру.
«Если ты меня не поцелуешь, то я умру…»
Кенгуру просят лакомства, совершают прыжок в закат.
Ты так много сказал мне, но забыл сказать, что женат.
***
У меня — полбутылки шираза и полвторого.
У тебя — полголовы яда и жена, которая ждёт второго.
У меня — окровавленный рот, окровавленные глаза и руки.
Отвези жену в поликлинику, ляг с ней вместе на ультразвуке.
Пусть покажут, что там у тебя от меня осталось.
Волк смешной под ключицей и платье, что от касаний мялось.
Мои книги, просекко и в голосе горький хрип.
Оставляй всё себе и приклей этикетку R.I.P.
Пусть в муку́ превратится всё, перемелется, перетрётся.
Напеку из неё пирожков, что же мне ещё остаётся.
Пирожки со стеклом — это новое блюдо дня.
Угощу им того, кто придёт навестить меня.
***
Обещаю переживать о температуре морской воды,
И придавать значение теням больших стрекоз,
Если ждать — то появления первой звезды,
Если слёзы — то слёзы утренних рос.
Что тебе обо мне говорит твой Бог?
Может быть, у него есть советы и для меня?
Может быть, мне он объяснить бы смог,
Как теперь прожить без тебя полдня?
Сердце ухает, будто в ночи сова,
И медведи из тира хотят в семью,
У тебя пересохли во рту слова,
А меня греет только холодный брют.
Стрёкот мыслей под вечер как рой цикад,
И так жалобно ноет в горах шакал
Я бы рада сейчас всё на новый лад,
Только как? Ты мне так и не подсказал.
***
Хочешь знать, с кем я сплю?
С окном,
Раскрытым в новую зиму.
Она прячет под тонны грима
Полусонной Москвы морщины.
Пол-луны просят аспирина,
Дремлет ёлка на крестовине,
Словно старая балерина,
Жизнь которой промчалась мимо,
Так легко и непоправимо
Сохнет.
***
Не пишите, не надо - «она так мечтала стать»
Она стала, она балерина, у неё есть полёт и стать.
Млечный путь дал бинты, а Луна - чуть-чуть мази Вишневского, и залечили ранку.
И кто-то строгий, но очень родной напомнил: «здесь надо держать осанку»
И Чайковский за пианино вдруг засмеялся, что его пытаются отменить, и начал новый балет,
А Захарченко в гардеробе театра оставил бронежилет.
Корса в платье, неузнаваема и прекрасна, задумалась во втором ряду,
И Моторола в буфете с чаем: «да сейчас я, иду-иду»
Как танцует она? - удивится кто-то из вновь пришедших, - она без ног!
Но балерины здесь не танцуют, они парят. Наверное, так видит Бог.
***
Какие здесь новости?
Мальчик двух лет не узнаёт маму,
Она, чтоб его не пугать, надевает смешную панаму.
Она облысела – химиотерапия...
Да, та высокая, что живёт у реки, помнишь её, Мария.
А что здесь ещё обсуждать, здесь, на периферии.
Ещё не Кавказ, уже не совсем Россия.
В заказнике в праздники семь косуль застрелили.
Косули были беременные, ручные,
А те, что стреляли, или не знали или
Пьяные просто были.
И егерь даже заплакал,
Сказал, что успели покрыться шерстью нерождённые оленята...
А больше и нет новостей, пусто место – не свято.
Уехали, родила, спивается, ушла в иеговисты.
Зато какой воздух чистый, какой же здесь воздух чистый.
***
«Москвичка Оля
помоет окна»
Висит листок на
двери подъездной.
Москвичка Оля,
какого чёрта…
Москвички окна
не мыли прежде
Точнее — мыли,
конечно, мыли,
Но не за деньги
и не по найму.
Вы не москвичка
на самом деле?
Москвичка Оля,
откройте тайну!
А, может, Оля
глотнула боли,
Влюбилась в сволочь,
всё потеряла.
А, может, Оле —
лишь хер без соли
И сон в прокуренном
одеяле.
А, может, Оля
играет роли
В рекламе или
телесериале,
И ей для роли
узнать о доле
Провинциалок
заданье дали
А, может, Оля
из госконтроля
Ведёт охоту
на нелегалов.
А, может, Оля
нас просто троллит
И объявление —
такая шалость.
“Москвичка Оля
помоет окна”
А я стою под
твоим подъездом.
Зачем пришла я,
какого чёрта?
Я ни к кому не
ходила прежде.
***
День рождения
Пусть это будет моё личное прощёное воскресенье
Да, это манипуляция - просить прощения в день рождения
Да, это грустно, но моя совесть теперь в позиции off
Что ваши женщины от меня хотят, может, марку моих духов?
Мои духи пахнут лаймом и базиликом
Пахнут горьким хохотом и беззвучным криком
Пахнут дымом вишнёвым того, кто курить и любить не умел взатяг
Пахнут мехом шотландских котов и носами худых дворняг
Пахнут матом рюмочной, книгами Бродского и Гюго
Пахнут небом цвета сиротского, что не обещает нам ничего
Пахнут питерскими мостами и мостом, что сгорел дотла
Пусть сегодня моё прощёное, прости за то, что была.
Олька плелась по пустой проселочной дороге. Под огромными побитыми молью валенками хрустел основательный февральский снег, в зубах хрустела корка от ещё тёплого выглядывающего уголком из пакета-майки хлебного кирпичика. Вокруг было темно и тихо. Так тихо, как бывает только во время снегопада. Старый приземистый домик с облупившимися ставнями пыхтел и дымил трубой. Олька остановилась у забора. Из-за лысых кустов выскочила Лада - серо-коричневая нескладная соседская собака. Её хозяин - дядя Петя - любил рассказывать Ольке, что у Лады очень серьезная родословная. Об этом, по мнению дяди Пети, свидетельствовали чёрные точки-родинки на морде собаки. Правда, он так говорил, только когда был выпивший. Трезвый дядя Петя ходил важный и с соседями не разговаривал. Олька потрепала собаку за ухо. Та, обрадованная неожиданным вниманием, подскочила на задние лапы и повалила девочку в снег. Старательно вылизав ей щеки, Лада принялась ловить пастью белых холодных мух. Стало зябко. От валяния в снегу и от мысли, что Мама отругает за зацепки на пальто - следы собачьих когтей. Не понравится ей и покусанность хлебного кирпичика. Мама считала, что Олька, которой через две недели исполнялось десять, для своего возраста была недостаточно стройной. Да чего уж там церемониться… "Ты жирная!" - говорила Мама и за шиворот тянула на скрипучие весы, подтверждающие красной стрелкой постыдный приговор. Домой идти не хотелось. Заранее расстроенная Олька оторвала ещё кусочек белого мякиша и толкнула калитку. Боялась зря. Маме было не до её аппетита и даже не до её пальто. Сидя прямо на полу, она замешивала в небольшом белом ведёрке густую с резким запахом жижу. Рядом лежали бумажные розовые рулоны. - Десять - это юбилей! Будем праздновать! По-настоящему! Юбилярша не знала, как на это заявление реагировать. День рождения, гости, подарки и новые розовые обои…? На смену несмелой радости образовалась где-то в горле и спустилась в живот комком обойного клея тревога. Лучше бы всё как всегда. И чем меньше времени оставалось до дня рождения, тем больше рос этот вязкий противный комок. Мама психовала. Из-за того, что у них нет приличной скатерти; из-за того, что обойный клей не взялся; из-за того, что Олькин "папаша" - молоко на плите - сбежал, оставив только грязные следы… Олька смотрела на вспузырившиеся, как спортивные штаны на коленках дяди Пети, обои и понимала, что она во всём-во всём виновата. Двадцатого февраля мело так, будто зима боялась не успеть высыпать всё до прихода весны. В печке трещали дрова. На столе уже ждал гостей оливье и блестел рубиновыми зёрнами салат с напоминающим об уроках истории названием "Шапка Мономаха". Олька праздника не ощущала. Ей не нравился новогодний оливье; не нравилось, что в комнате слишком жарко; не нравился туго затянутый пучок на макушке, скреплённый больно впивающимися в кожу шпильками. Перед самым приходом гостей Олька повытаскивала все шпильки и разбросала по плечам кудри. Маму, которая без того была вся на нервах, это взбесило, и она дала "лохудре" пощёчину. По лицу красными горячими пятнами поползла жуткая обида. От злости захотелось плакать. Но тут на веранде застучали двери и затопали отряхивающие снег ботинки. Мамины подруги с детьми, кое-кто из олькиных одноклассников, плюшевые медведи, книги, примороженные розы. Мама улыбалась, рассаживала гостей, принимала поздравления с днём рождения дочки и комплименты за прекрасный стол, гладила именинницу по кудрявой голове. У Ольки внутри всё кипело и булькало. Она успокаивала себя воображаемой картиной того, как сдёргивает со стола кружевную скатерть "аж за 300 рублей" и выгоняет всех вон. Кульминацией устроенного мамой праздника обещал стать торт. Кремовый, в несколько ярусов, он был заказан у лучшего в посёлке кондитера, и дожидался своего часа на веранде - из-за своих размеров в холодильник просто не поместился. Ровно в восемь пятнадцать - именно в это время Олька десять лет назад родилась - Мама и ещё несколько её подруг, вооружившись свечками, отправились на веранду. Прошло несколько минут, а сладкий приз всё никак не выносили. Олька вместе с остальными гостями пошла посмотреть, в чём же дело. Двери на веранду были распахнуты, у буфета стояла растерянная и не понимающая, почему на неё все смотрят, Лада. Шерстяная грудь и морда её была вся в креме, на носу выросли съедобные цветы, на дощатом полу валялся разрушенный и униженный торт. Мамино лицо приобрело цвет взбитых сливок, кто-то охнул, кто-то выругался матом, самый юный из гостей - трехлетний карапуз - зарыдал. А Олька… Олька почувствовала, что это у неё, у неё сегодня праздник, почувствовала радость впервые в свои десять лет. И ей, как и Ладе, за эту радость было ни капельки не стыдно.
***
Май тянет в форточку сиренью и табаком
Мы сидим в ноутбуках. Я на сайте - tydostalmenya.com
Ты на сайте - какжитьсистеричкою.ru
«Я не буду жарить тебе картошку», «а я за тебя не умру»
Возле подъезда сосед, пальцы желтые, серый кент.
Трудную воду любит, бывший интеллигент.
Как он мне двери придерживает, как хрипит «мадмуазель»...
Молния на чемодане расходится, вызови мне газель.
Вызови мне дух Рыжего, очень надо спросить.
Как так бывает, что в мае хочется уходить.
***
Ворона ест голубя. Голубь ещё живой.
Дворник метлой скребется по мостовой.
Голубь шевелит крыльями, летит в голубиный рай.
Сизая тварь, ускоряйся и умирай.
Десять шагов назад я боялась пустых людей,
Теперь я боюсь умирающих голубей.
Десять шагов назад я хотела из-за тебя с моста,
Но со мною случились голубь, ворона и тошнота
***
Дворник кричит: «Мы русские, с нами Бог!».
Дворник из Средней Азии.
Дворник скучает по той стране,
Что предали эвтаназии.
Что-то плетёт об Узбекской об ССР
Что он был ракетчиком,
Что Собянин хороший мэр,
Что не может поехать к себе
Из-за антиковидных мер,
И окурков опять набросал здесь какой-то хер.
Зюзино.
Здесь даже дворники в зюзю, но
Снова китайской гирляндой горит окно,
В рюмочной льётся в гранёный стакан вино,
Здесь всё убито и всё здесь воскрешено,
И даже природа, как в песне той из кино,
Детские открывает свои секреты.
День прибывает, а значит наступит лето.
Стаи хрущёвок Собянину шлют приветы,
Дворнику снятся аисты и ракеты.
Светлана Чмыхало
_______________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 18.12.2024, 13:40 | Сообщение # 1563 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Мало кто знает, 18 декабря 1833 года (06.12.1833 по c/с), в
Большом театре прошло первое публичное исполнение
Государственного гимна.
Россия которую "мы" потеряли, этот день отмечают словами:
"Боже, Царя храни!". И Боже упаси вспоминать, что в первом
изводе гимна в качестве музыки использовалась мелодия
английского национального гимна поэта и композитора
Генри Кэри (1687-1743) «Боже, храни короля!» («God Save
the king»).
Но, спасибо батюшке Государю Александру Павловичу, который I,
приобщил нас к британской культуре. "Битлз" наше всё!
Так длилось до 1833 года. Император Николай I совершал турне
по Пруссии и Австрии, где повсюду встречали его мелодией
английского гимна. А Николай Павлович, в отличие от его
старшего брата, Европу недолюбливал… А потому поручил
сопровождавшему Его Императорское Величество в этой поездке
А. Ф. Львову сочинить новую музыку, более соответствующую
русскому духу.
Через две недели «Молитва Русского народа» на музыку Львова
была утверждена в качестве Русского национального гимна и
просуществовала в этом качестве до Февраля 1917 года…
Ко Дню лицея в 1816 году Пушкин, взяв первую строфу у Жуковского,
дописал две собственных, и таким образом сложился «лицейский»
вариант национального гимна. Ну, а потом, прости Господи, и
началось до самого "Идёт война народная".
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю
Всё ниспошли!
Там громкой славою
Сильной Державою
Мир он покрыл;
Здесь безмятежною
Сенью надежною,
Благостью нежною
Нас осенил.
Брани в ужасный час
Мощно хранила нас
Верная длань –
Глас умиления
Благодарения,
Сердца стремления –
Вот наша дань!
1816
***
Сказки Noel
Ура! в Россию скачет
Кочующий деспо́т.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, суда́рь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:
«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен.
Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».
От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».
***
Вольность (ода)
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру…
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.
Открой мне благородный след
Того возвышенного Галла
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит
И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавных
Сложивший царскую главу.
Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира…
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.
Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —
И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной…
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары…
Погиб увенчанный злодей.
И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой
1817 г.
***
К Чаадаеву
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
1818 г.
***
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
Наше всё, А.С. Пушкин
___________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 21.12.2024, 19:13 | Сообщение # 1564 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы.
***
Ночь, полная созвездий.
Какой судьбы, каких известий
Ты широко сияешь, книга?
Свободы или ига?
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе?
***
Я всматриваюсь в вас, о, числа,
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете единство между змееобразным
движением
Хребта вселенной и пляской коромысла,
Вы позволяете понимать века, как быстрого
хохота зубы.
Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы
Узнать, что будет Я, когда делимое его — единица.
***
Святче божий!
Старец бородой сед!
Ты скажи, кто ты?
Человек ли еси,
Ли бес?
И что — имя тебе?
И холмы отвечали:
Человек ли еси
Ли бес?
И что — имя тебе?
Молчал.
Только нес он белую книгу
Перед собой
И отражался в синей воде.
И стояла на ней глаголица старая,
И ветер волнуя бороду,
Мешал итти
И несть книгу.
А стояло в ней:
«Бойтесь трех ног у коня
Бойтесь трех ног у людей!»
Старче божий!
Зачем идешь?
И холмы — отвечали:
Зачем идешь!
И какого ты роду — племени
И откуда-ты?
Я оттуда, где двое тянут соху,
А третий сохою пашет
Только три мужика в черном поле!
Да тьма воронов.
Вот пастух с бичом
В узлах чертики —
От дождя спрятались.
Загонять коров помогать ему они будут.
***
Тайной вечери глаз
Знает много Нева.
Здесь спасителей кровь
Причастилась вчера
С телом севера в черном булыжнике.
На ней пеплом любовь
И рабочих и умного книжника.
Тайной вечери глаз
Знает много Нева
У чугунных коней
У суровых камней
Дворца Строгонова.
Из засохших морей
Берега у реки
И к могилам царей
Ведут нить пауки
Лишь зажжется трояк
На вечерних мостах
Льется красным струя
Поцелуй на устах.
***
Гонимый — кем, почем я знаю?
Вопросом: поцелуев в жизни сколько?
Румынкой, дочерью Дуная,
Иль песнью лет про прелесть польки, —
Бегу в леса, ущелья, пропасти
И там живу сквозь птичий гам,
Как снежный сноп, сияют лопасти
Крыла, сверкавшего врагам.
Судеб виднеются колеса,
С ужасным сонным людям свистом
И я, как камень неба, несся
Путем не нашим и огнистым.
Люди изумленно изменяли лица,
Когда я падал у зари.
Одни просили удалиться,
А те молили: озари.
Над юга степью, где волы
Качают черные рога,
Туда, на север, где стволы
Поют, как с струнами дуга,
С венком из молний белый чорт
Летел, крутя власы бородки:
Он слышит вой власатых морд
И слышит бой в сковородки.
Он говорил: «Я белый ворон, я одинок,
Но всё — и черную сомнений ношу
И белой молнии венок —
Я за один лишь призрак брошу
Взлететь в страну из серебра,
Стать звонким вестником добра».
У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.
Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица
Убегать и расходиться,
Чтоб, ценой работы добыты,
Зеленее стали чёботы,
Черноглазыя, ея.
Шопот, ропот, неги стон,
Краска темная стыда.
Окна, избы с трех сторон,
Воют сытые стада.
В коромысле есть цветочек,
А на речке синей челн.
«На, возьми другой платочек,
Кошелек мой туго полн».—
«Кто он, кто он, что он хочет?
Руки дики и грубы!
Надо мною ли хохочет
Близко тятькиной избы?
Или? или я отвечу
Чернооку молодцу,
О сомнений быстрых вече,
Что пожалуюсь отцу?»
Ах, юдоль моя гореть!
Но зачем устами ищем
Пыль, гонимую кладбищем,
Знойным пламенем стереть?
И в этот миг к пределам горшим
Летел я, сумрачный, как коршун.
Воззреньем старческим глядя на вид земных шумих,
Тогда в тот миг увидел их.
***
Могилы вольности — Каргебиль и Гуниб*
Были соразделителями со мной единых зрелищ,
И, за столом присутствуя, они б
Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?»
Боец, боровшийся, не поборов чуму,
Пал около дороги круторогий бык,
Чтобы невопрошающих — к чему?
Узнать дух с радостью владык.
Когда наших коней то бег, то рысь вспугнули их,
Пару рассеянно-гордых орлов,
Ветер, неосязуемый для нас и тих,
Вздымал их царственно на гордый лов.
Вселенной повинуяся указу,
Вздымался гор ряд долгий.
Я путешествовал по Кавказу
И думал о далекой Волге.
Конь, закинув резво шею,
Скакал по легкой складке бездны.
С ужасом, в борьбе невольной хорошея,
Я думал, что заниматься числами над бездною полезно.
Невольно числа я слагал,
Как бы возвратясь ко дням творенья,
И вычислял, когда последний галл
Умрет, не получив удовлетворенья.
Далёко в пропасти шумит река,
К ней бело-красные просыпались мела,
Я думал о природе, что дика
И страшной прелестью мила.
Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей
Похожа на один божественно звучащий стих,
И в это время воздух освободился от цепей
И смолк, погас и стих.
И вдруг на веселой площадке,
Которая, на городскую торговку цветами похожа,
Зная, как городские люди к цвету падки,
Весело предлагала цвет свой прохожим, -
Увидел я камень, камню подобный, под коим пророк
Похоронен: скошен он над плитой и увенчан чалмой.
И мощи старинной раковины, изогнуты в козлиный рог,
На камне выступали; казалось, образ бога камень увенчал мой.
Среди гольцов, на одинокой поляне,
Где дикий жертвенник дикому богу готов,
Я как бы присутствовал на моляне
Священному камню священных цветов.
Свершался предо мной таинственный обряд.
Склоняли голову цветы,
Закат был пламенем объят,
С раздумьем вечером свиты…
Какой, какой тысячекост,
Грознокрылат, полуморской,
Над морем островом подъемлет хвост,
Полунеземной объят тоской?
Тогда живая и быстроглазая ракушка была его свидетель,
Ныне — уже умерший, но, как и раньше, зоркий камень,
Цветы обступили его, как учителя дети,
Его — взиравшего веками.
И ныне он, как с новгородичами, беседует о водяном
И, как Садко, берет на руки ветхогусли —
Теперь, когда Кавказом, моря ощеренным дном,
В нем жизни сны давно потускли.
Так, среди «Записки кушетки» и «Нежный Иосиф»,
«Подвиги Александра» ваяете чудесными руками —
Как среди цветов колосьев
С рогом чудесным виден камень.
То было более чем случай:
Цветы молилися, казалось, пред времен давно прошедших слом
О доле нежной, о доле лучшей:
Луга топтались их ослом.
Здесь лег войною меч Искандров,
Здесь юноша загнал народы в медь,
Здесь истребил победителя леса ндрав
И уловил народы в сеть.
* Каргебиль (Гергебиль) и Гуниб — аулы в Дагестане; в конце Кавказской войны (40 — 50-е гг. XIX в.) в Гунибе сдался Шамиль.
***
Усадьба ночью, чингисхань!
Шумите, синие березы.
Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть!
И, сумрак облака, будь Гойя!
Ты ночью, облако, роопсь!
Но смерч улыбок пролетел лишь,
Когтями криков хохоча,
Тогда я видел палача
И озирал ночную, смел, тишь.
И вас я вызвал, смелоликих,
Вернул утопленниц из рек.
«Их незабудка громче крика», -
Ночному парусу изрек.
Еще плеснула сутки ось,
Идет вечерняя громада.
Мне снилась девушка-лосось
В волнах ночного водопада.
Пусть сосны бурей омамаены
И тучи движутся Батыя,
Идут слова, молчаний Каины, —
И эти падают святые.
И тяжкой походкой на каменный бал
С дружиною шел голубой Газдрубал.
***
Гол и наг лежит строй трупов,
Песни смертные прочли.
Полк стоит, глаза потупив,
Тень от летчиков в пыли.
И когда легла дубрава
На конце глухом села,
Мы сказали: «Небу слава!»—
И сожгли своих тела.
Люди мы иль копья рока
Все в одной и той руке?
Нет, ниц вемы; нет урока,
А окопы вдалеке.
Тех, кто мертв, собрал кто жив,
Кудри мертвых вились русо.
На леса тела сложив,
Мы свершали тризну русса.
Черный дым восходит к небу,
Черный, мощный и густой.
Мы стоим, свершая требу,
Как обряд велит простой.
У холмов, у ста озер
Много пало тех, кто жили.
На суровый, дубовый костер
Мы руссов тела положили.
И от строгих мертвых тел
Дон восходит и Иртыш.
Сизый дым, клубясь, летел.
Мы стоим, хранили тишь.
И когда веков дубрава
Озарила черный дым,
Стукнув ружьями, направо
Повернули сразу мы.
***
Мы желаем звездам тыкать
Мы устали звездам выкать
Мы узнали сладость рыкать
Будьте грозны, как Остраница,
Платов и Бакланов,
Полно вам кланяться
Роже бусурманов.
Пусть кричат вожаки,
Плюньте им в зенки!
Будьте в вере крепки
Как Морозенки.
О уподобьтесь Святославу —
Врагам сказал: «Иду на вы!»
Померкнувшую славу
Творите, северные львы.
С толпою прадедов за нами
Ермак и Ослабя.
Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через суши и через хляби!
Туда, где дух отчизны вымер
И где неверия пустыня,
Идите грозно, как Владимир
Или с дружиною Добрыня.
***
Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!
***
Не шалить!
Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове!
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве!
Не затем высока
Воля правды у нас,
В соболях — рысаках
Чтоб катались, глумясь.
Не затем у врага
Кровь лилась по дешевке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки.
Не зубами — скрипеть
Ночью долгою —
Буду плыть, буду петь
Доном-Волгою!
Я пошлю вперед
Вечеровые уструги.
Кто со мною — в полет?
А со мной — мои други!
***
Вы, поставившие ваше брюхо на пару
толстых свай,
Вышедшие, шатаясь, из столовой советской,
Знаете ли, что целый великий край,
Может быть, станет мертвецкой?
Я знаю, кожа ушей ваших, точно у буйволов
мощных, туга,
И ее можно лишь палкой растрогать.
Но неужели от "Голодной недели" вы
ударитесь рысаками в бега,
Когда над целой страной
Повис смерти коготь?
Это будут трупы, трупы и трупики
Смотреть на звездное небо,
А вы пойдете и купите
На вечер — кусище белого хлеба.
Вы думаете, что голод — докучливая муха
И ее можно легко отогнать,
Но знайте — на Волге засуха:
Единственный повод, чтобы не взять, а — дать!
Несите большие караваи
На сборы "Голодной недели",
Ломоть еды отдавая,
Спасайте тех, кто поседели!
Волга всегда была вашей кормилицей,
Теперь она в полугробу.
Что бедствие грозно и может усилиться -
Кричите, кричите, к устам взяв трубу!
***
Когда казак с высокой вышки
Увидит дальнего врага,
Чей иск — казацкие кубышки,
А сабля — острая дуга, -
Он сбегает, развивая кудрями, с высокой вышки,
На коня он лихого садится
И летит без передышки
В говором поющие станицы.
Так я, задолго до того мига,
Когда признание станет всеобщим,
Говорю: "Над нами иноземцев иго,
Возропщем, русские, возропщем!
Поймите, что угнетенные и мы — те ж!
Учитесь доле внуков на рабах
И, гордости подняв мятеж,
Наденьте брони поверх рубах!"
***
Все за свободой — туда.
Люди с крылом лебединым
Знамя проносят труда.
Жгучи свободы глаза,
Пламя в сравнении — холод,
Пусть на земле образа!
Новых напишет их голод…
Двинемся вместе к огненным песням,
Все за свободу — вперед!
Если погибнем — воскреснем!
Каждый потом оживет.
Двинемся в путь очарованный,
Гулким внимая шагам.
Если же боги закованы,
Волю дадим и богам…
***
Если я обращу человечество в часы
И покажу, как стрелка столетия движется,
Неужели из нашей времен полосы
Не вылетит война, как ненужная ижица?
Там, где род людей себе нажил почечуй,
Сидя тысячелетьями в креслах пружинной войны,
Я вам расскажу, что я из будущего чую
Мои зачеловеческие сны.
Я знаю, что вы — правоверные волки,
пятеркой ваших выстрелов пожимаю свои,
Но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки,
Этой чудесной швеи?
Я затоплю моей силой, мысли потопом
Постройки существующих правительств,
Сказочно выросший Китеж
Открою глупости старой холопам.
И, когда председателей земного шара шайка
Будет брошена страшному голоду зеленою коркой,
Каждого правительства существующего гайка
Будет послушна нашей отвертке.
И, когда девушка с бородой
Бросит обещанный камень,
Вы скажете: «Это то,
Что мы ждали веками».
Часы человечества, тикая,
Стрелкой моей мысли двигайте!
Пусть эти вырастут самоубийством правительств и книгой — те.
Будет земля бесповеликая!
Предземшарвеликая!
Будь ей песнь повеликою:
Я расскажу, что вселенная — с копотью спичка
На лице счета.
И моя мысль — точно отмычка
Для двери, за ней застрелившийся кто-то…
***
Когда над полем зеленеет
Стеклянный вечер, след зари,
И небо, бледное вдали,
Вблизи задумчиво синеет,
Когда широкая зола
Угасшего кострища
Над входом в звездное кладбище
Огня ворота возвела,
Тогда на белую свечу,
Мчась по текучему лучу,
Летит без воли мотылек.
Он грудью пламени коснется,
В волне огнистой окунется,
Гляди, гляди, и мертвый лег.
***
Русские мальчики, львами
Три года охранявшие народный улей,
Знайте, я любовался вами,
Когда вы затыкали дыры труда
Или бросались туда,
Где львиная голая грудь —
Заслон от свистящей пули.
Всюду веселы и молоды,
Белокурые, засыпая на пушках,
Вы искали холода и голода,
Забыв о постели и о подушках.
Юные львы, вы походили на моряка,
Среди ядер свирепо — свинцовых,
Что дыру на котле
Паров, улететь готовых,
Вместо чугунных втул
Локтем своего тела смело заткнул.
Шипит и дымится рука
И нам море пахнет жарким — каким?
Редкое жаркое, мясо человека.
Но пар телом заперт,
Пары не летят,
И судно послало свистящей снаряд.
Вам, юношам, не раз кричавшим
«Прочь» мировой сове,
Совет:
Смело вскочите на плечи старших поколений,
То, что они сделали, — только ступени.
Оттуда видней!
Много далеко
Увидит ваше око,
Высеченное плеткой меньшего числа дней.
***
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
Пусть девы споют у оконца,
Меж песен о древнем походе,
О верноподданном Солнца —
Самодержавном народе.
***
Породе русской вернуть язык
Такой,
Чтоб соловьиный свист и мык
Текли там полною рекой.
***
Сетуй, утёс!
Утро чорту!
Мы, низари, летели Разиным.
Течёт и нежен, нежен и течёт,
Волгу див несёт, тесен вид углов…
"Часовщик человечества", "Председатель Земного Шара" - Велимир Хлебников (1885-1922)
____________________________________________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 25.12.2024, 19:48 | Сообщение # 1565 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Солнышко – пО-небу,
Солнышко – рядом...
Ну его к лешему
Всё, что не ладом...
Жизнь, говорят,
Суета до упада,
Это же выдумки
Сытого ряда...
Жизнь – это голод
Любовного сада,
Жизнь – это рай
На околице ада...
***
Глухие заросли потёмок
Тебя не слышат,
Но лучик – дымчатый котёнок
Живёт на крыше.
И сумрак памятью освечен
До перламутра,
Как будто я гляжу на вечер
Глазами утра...
***
То ли древо, то ли куст,
То ли отзвук, то ли шум:
Ходят мысли рощей чувств,
Ходят чувства рощей дум...
И ворона на суку,
И затейник-соловей –
Всё от века на веку,
Будто солнце меж ветвей...
Можно ветви изрубить,
Можно солнце отенить,
Но влекущий голос рощ –
Как шаляпинская мощь...
***
На миру жила обнова,
Как в строке живое слово,
Но заря своё отпела
И обнова постарела...
Ах весна – моя обнова,
Пусть ветшаю я... Но снова
Месяц в небе – как подкова
Нестареющего слова...
***
Похожу... Стихов насочиняю,
Будто птицу зА руку поймаю,
А она забьётся тяжело:
«Ты не руку держишь, а крыло...»
И пока душа моя не с краю,
Отпущу крыло в угоду маю,
Где крылу напомнится светло,
Как родня забытая, – весло,
Где столетний берег, как Иваныч,
Прячет вёсла молодости нА ночь...
***
Закатил глаза – и строчка...
Закатил глаза – другая...
Закатил глаза – и точка:
Дай-то, Боже, возле рая...
***
«Там, где люди, там и тёрки» –
Говорил Василий Тёркин...
Говорил-не говорил,
Да махорочкой дымил...
Но какая благодать
«тёрки» с «Тёркин» рифмовать...
***
Меня пленяли рифма и строка...
Мне вслед крутили пальцем у виска...
Но грянет час: на общем сквозняке
Забьётся песня жилкой на виске
И, словно перст любви, земная ось
Пронзит планету-радугу насквозь...
Кружит она, цепляя облака...
И дьявол крутит пальцем у виска...
***
День, протяжённостью
В целую жизнь,
Выдохнет другом старинным –
«Держись...»
Вскину глаза к поднебесью,
А там
Сложится нАвожно
Облако-храм...
Станет на сердце любви
Горячо,
Словно подставило небо
Плечо...
***
Я стал бояться новостей –
Моих непрошенных гостей,
Как будто шалые ветра
Стучатся в окна до утра...
Иль, скажем, бес уводит в лес
Стихи доверчевых небес...
Душа моя, не прогневи
Заглавной новости – любви...
***
Спросил у рифмы
«Кровь-Любовь» –
Отчего она бессмертна…
Услышал –
Как открыл берег:
В мире пролито
Столько же крови,
Сколько и любви…
Задумался…
Но рифмовать кровь
С любовью
Не поднялась
Душа…
***
Он клич и зов, он правый суд –
Старинный лозунг «наших бьют...»
Под этим лозунгом отец
Шёл в сорок первом на свинец...
Под этим лозунгом призвали
Меня служить в чужие дали...
И даже эту рифмопрозу
Я сохраню, как свет-берёзу,
Пока фанфары – «наших бьют»
Спать мирозданью не дают.
***
Весна. Война. И я не фронтовик –
Моя войнообязанность почила.
И пусть моё призванье – тыловик,
Я фронтовик разбуженного тыла.
Моя строка не порох и свинец,
Моя строка не сеятель и жнец,
Она всего лишь утренняя почка
На древе многоточия... И точка.
***
Минуя строгий взгляд границы,
У кромки родины и дня
Ещё не знал я, что в станице
Молилась мама за меня.
Когда, фуражку лихо сдвинув,
Я шёл, заветное храня,
По главной улице Берлина,
Молилась мама за меня.
Когда, бессонницы отведав,
Чужой столице – не родня,
Встречал я утро Дня Победы,
Молилась мама за меня.
Пусть ветры мечутся у храма,
Но за отца, войну кляня,
В сороковых молилась мама,
В восьмидесятых – за меня.
Она не скажет, что ей снилось.
Она, по сути мир ценя,
За человечество молилась,
Когда молилась за меня.
***
Речь – не о буднях фронта,
Речь – о другом:
Вышел я к поднебесью
Вслед за отцом...
Годы, минуя пашни
И молотьбу,
Тянут мои обжитки,
Словно арбу…
Чуть постою на взгорье
Перед судьбой,
Всё понимая сердцем
И головой…
А колокольцы – птахи
Утренних снов…
А колокольцы – дети
Колоколов…
А колокольня – ростом
До облаков…
А колокольня – просто
Песенный зов…
***
Я доживаю четвёртое время…
Первое было – как лёгкое семя,
Время второе – летящее стремя,
Третье – на сердце упавшее бремя,
Время четвёртое – лунное время,
Пятое – горечь дыхания в темя.
***
Жизнь, увы, короткая обедня:
Отстоял – и канул навсегда…
Из ночного порванного бредня
Уплывают звёзды в Никуда…
***
Пускай торопится вода
Туда, где юная страда –
Не напоказ…
Забросить – что ли – невода
Туда, где старость молода,
Где наши мысли иногда
Умнее нас…
***
Я заметил в скитаньях разлуки
И в страдании собственных рук,
Что любовь безответная – мука,
Но взаимная – тысячи мук.
От любви уходила невинность
С горькой думой наедине.
И, как мумия, остановилось
Время в сердце и тишине.
Но пронзительно сгинет в вечность
Задохнувшийся в чувствах день.
Я плечом обопрусь о вечер –
Над садами нагнется тень.
И глаза, словно лунные камни,
Болью высветят темноту.
Наши тени сегодня с нами
Думы думают на мосту.
И не спрашивай шёпотом боли,
Каждый взгляд мой взглядом казня,
Что же будет завтра с тобою
Без обыденного меня.
На лицо мне струится лето,
А в глазах – поволокой мороз.
Видишь, я стою у рассвета,
Как ответ на этот вопрос.
***
Я молча перед осенью стою.
Мои просторы в легком запустенье.
Полуогонь, как исповедь, таю,
И на траву ложатся полутени.
Иной порог – иное бытиё.
Мне нынче открывать иные двери.
Забуду малодушное враньё,
Как барабан-игрушку в детском сквере.
Мой возраст, предначертанно земной,
Забудь, что ты мятежно-невеселый.
Мы погорельцы прошлого с тобой,
Но в ледяном грядущем – новоселы.
А дома вишня тычется в лицо
И на любовь родни везёт чертовски.
Скрипит тысячелетнее крыльцо,
Как воронёный хром сапог отцовских.
Напрасно звезды меркнут – не усну.
Я выйду за железные ворота
И оглянусь на чёрную весну,
Где ты стоишь
В слезах
У поворота.
***
Пока еще робко-условно
Наметился легкий обман...
Так тихо и траурно, словно
Распахнуты окна в туман.
И ты на себя не похожа—
Слова окружные взахлёб,
А с ними – на сердце и коже
Горячий до стона озноб.
Я верю не веря... Но лучше
Сегодня от боли уйти,
Чтоб завтра серебряный ключик
К бесчувственной маске найти.
А выйду нечаянно к саду–
Забуду, что был молодым:
Мне прожитых вёсен не надо,
Достаточно прожитых зим.
Душа не пойдет на попятный,
Душа не пойдет за тобой...
На солнце угарные пятна
Смахну возмущенной рукой.
***
Не осень, а залетье
Приляжет у дверей,
Пока томятся в клети
Серебряные плети
Отчаянных дождей.
Услышу недословье
Багряной тишины,
Что наше залюбовье –
Не память изголовья,
А долгое зимовье
С окошками весны.
***
Я пережил земные дни отца…
Теперь стою у звёздного крыльца…
Ступени вверх летят навстречу мгле,
За мною пыль кружится – не пыльца,
И нет ступеням – Господи – конца,
И поручни, как вербы на столе,
Оставлены отеческой Земле.
***
Сердце хочет справедливости
И под солнцем, и во мгле.
Сердце хочет этой милости,
Как горбушки на столе.
Я же к памяти иду,
Я – у детства на виду,
Там нарядно и пригожисто,
Там парадно и гармошисто,
Там станица не замаяна,
Там душа опервомаяна,
Там несёт меня торжественно
Легкоутреннее шествие,
И в руке моей сопливости –
Красный шарик справедливости.
***
Далеко, не далеко, https://malezhik.ru/static/audio/0/05_vecher_may_z97imkt0.mp3
Высоко, не высоко,
На виду у птичьих стай
Поселился вечер-май,
На виду у птичьих стай
Поселился вечер-май.
И хотя кругом светло,
Будто пуха намело,
Сердцу сердца не найти,
Я забыл тебя в пути,
Сердцу сердца не найти,
Я забыл тебя в пути.
Вечер-май, вечер-май,
Вечер-май,
Ничего, ничего, не меняй.
Вечер-май, вечер-май,
Вечер-май,
Ничего, ничего, не меняй.
Хорошо бы налегке
Искупаться в май-реке,
И дорожные грехи
Переделать на стихи,
И дорожные грехи
Переделать на стихи.
А стихи сложить в букет,
И оставить ранний след,
Где с тобою невзначай
Проглядел я вечер-май,
Где с тобою невзначай
Проглядел я вечер-май.
Вечер-май, вечер-май,
Вечер-май,
Ничего, ничего, не меняй.
Вечер-май, вечер-май,
Вечер-май,
Ничего, ничего, не меняй.
Вечер-май, вечер-май,
Вечер-май,
Ничего, ничего, не меняй.
***
До утра не усну в камышовой хате. https://malezhik.ru/static/audio/7/05_Ya_vishni_rvu_x8n88kra.mp3
Потихоньку скользну из твоих объятий.
Ни беда лебеда, ни беда осока.
Ни беда, что вода, холодна протока.
Омыт июль росой,
А я во двор босой,
Плевать каким слыву,
Я вишни рву.
Омыт июль росой,
А я во двор босой,
Плевать каким слыву,
Я вишни рву.
Справа чайка кричит,
Ты хохочешь слева,
Лебедино слепит одеянье Евы,
Не укрыться любви
От молвы крылатой,
Пахнут зори мои
Камышовой хатой.
Омыт июль росой,
А я во двор босой,
Плевать каким слыву,
Я вишни рву.
Омыт июль росой,
А я во двор босой,
Плевать каким слыву,
Я вишни рву.
***
И… https://malezhik.ru/video/FT6Php-zJP
Снежный затеяв пляс,
Ночь за окном кружится,
В комнате свет погас,
Высветив наши лица.
Рядом глаза твои
Цвета умытой вишни,
Даже свеча любви
Будет сегодня лишней.
Даже свеча любви
Будет сегодня лишней.
Хочешь, скажу "люблю",
Хочешь, уйду некстати,
Хочешь, вину пролью
Словно вино на скатерть.
Гляну позёмке вслед –
Края земли не видно.
Небо включает свет,
Господи, как обидно.
Небо включает свет,
Господи, как обидно.
Это свеченье лиц
Ты не спугни, как птиц.
Это свеченье душ
Ты сохрани от стуж.
Это свеченье душ
Ты сохрани от стуж.
Рядом глаза твои
Цвета умытой вишни,
Даже свеча любви
Будет сегодня лишней.
Даже свеча любви
Будет сегодня лишней.
***
Я перед зеркалом стою,
Я двойника не узнаю,
Где на лице морщины-складки,
Как в нашей повести закладки.
Я двойника, увы, боюсь,
Я двойнику в отцы гожусь...
Сменить бы жизнь, весну трубя,
Как будто выйти из себя...
***
Мир текуч. Мир изменчивый сам по себе.
Нить от лета до лета – паутинка в судьбе.
А моя паутинка на миру, на ветру
Станет признаком лёта журавлей поутру.
Мир – такая громада, что заря, что дымы,
Паутинка же сада – как соперница тьмы...
***
Руки в боки, глаза в потолоки
Толковый словарь
В.И. Даля
«Отчего мы старые» – сказала,
Будто оступилась у причала,
Где речные лайнеры стократ
На вопросы донные молчат.
Рифмовал когда-то слово «юность»
С «лунность», «рунность», «струнность»,
«неразумность»...
А теперь рифмую слово «старость»
С «малость», «шалость», «жалость» и
«усталость»...
Господи, такие наши сроки –
На закате вечные уроки,
Будто нрав у жизни – руки в боки,
Руки в боки, очи в потолоки...
***
Я поэт без эпитета – просто поэт,
Как лоза под горой иль дорожный кювет,
Или, может, из песни походной куплет
Да строкой омальчишенный дед-непосед...
***
Не ходил я с песней на расстрел –
Просто пел гитарный самодел...
Не ходил я с нищею сумой –
Просто жил зимою, как весной...
Не ходил я пО воду за край –
Просто шёл, как «дождик невзначай»,
Где навстречу Божеская нить
Вышивает утреннюю гладь...
Мне от жизни нечего таить,
Мне от смерти нечего скрывать...
***
Итак, я Землю посетил...
Ну что ж? Останусь в ней, сердечной,
Лежать в могиле средь могил,
Хотя душа тропою вечной
Уйдёт на Божий зов... А там
Меня причислят к небесам,
Где я с любовью бесконечной
Землянам Землю передам...
***
Прости меня, детство,
Прости меня, юность,
Прости меня, зрелость,
За старость мою,
Что речкой впадает,
Как принято, в детство,
Что млечкой впадает,
Коль принято, в юность,
Что просто впадает,
Так принято, в зрелость,
Где я разноречные
Песни пою...
А песня, а песня, а песня –
Одна,
Как мама,
Глядящая вслед из окна...
***
ДЕКАБРь
А.А.Кондакову
Ветка зимы, удержись,
Там, за окном лиховерть…
Дело житейское – жизнь,
Дело житейское – смерть.
Мне хорошо на земле,
Мне хорошо в небесах…
Ветка зимы на столе –
Будто стихи при свечах…
***
Бежало время под рукой, –
Остановил его строкой.
Игорь Николаевич Кудрявцев (род. 23 декабря 1944)
_____________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 01.01.2025, 13:04 | Сообщение # 1566 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Из проводов – из тёмных линий,
Из веток, серых и кривых,
Вдруг сотворил такое иней –
Не наглядеться мне на них!
Наверно, так из эха чувства,
К листу притронувшись слегка,
Произведение искусства
Рождает мастера рука…
Смотрю – и вновь дышу неровно,
Как будто я попал сюда
Из древних лет: не знаю словно,
Что иней, в сущности, – вода.
Нет! Иней – чудо! И какое!
И потому само собой,
Что я весьма обеспокоен
Его дальнейшею судьбой:
Да не проявит ветер рвенье,
Да не встряхнёт земля корней –
Пусть это дивное цветенье
Продлится радостью моей!
***
Под вечер иней – синий-синий!
А засияют небеса –
Глаза обколются об иней,
И тихо скатится слеза.
О светлость – зимнее цветенье!
Ты в стороне лесостепной
Спокойно споришь и с осенней,
И даже с майской красотой.
И чем покладистей морозы,
Тем дольше мир похож на сад.
Стоят ракиты – что берёзы!
В убранстве свадебном стоят.
Но кружевной убор так лёгок,
Так склонен шёлком соскользнуть,
Что на заснеженных дорогах
Я лишний раз боюсь дыхнуть.
И тишина вокруг такая!
И удивительней вдвойне;
Как мог он, блёстками играя,
Спорхнуть в подобной тишине?
И обмираю в изумленье –
Природы махонькая часть:
Уж не моё ль сердцебиенье
Его заставило опасть?!
***
Только-только расчистил дорогу,
Снег опять повалил – будто в смех.
Я гребу его и понемногу
Продолжаю поругивать снег.
А зачем? Разве он понимает?
Ведь устроил он тут кутерьму,
И дороги-пути заметает, –
Потому что так надо ему;
Потому что, сегодня не лето,
Потому что, сегодня – зима,
Потому что, родная планета
Не сошла ещё с нами с ума…
***
Вот «эти» – вожжи отпустили,
«Те» - заправляли «нокая»…
Как будто по полям России
Война прошлась жестокая.
Такая боль – не обезболить,
И не послать в болотину,
Но эта боль мне не позволит
Любить чужую родину.
***
Без дверей, без окон все избушки,
Саваном их укрывает снег.
Словно это – позапрошлый век:
Словно тут хозяйничает Плюшкин.
Всех селян,
Всё мастерить умевших,
Он извёл – он затиранил их…
Может, нынче платят за умерших
Больше, чем когда-то за живых?..
Слышу:
- Не надейся уж на милость –
Ты себя подставил под статью…
- Что ж! Зато проверю я на вшивость
Эту демократию твою!
И пускай считает кто-то слабой,
И пускай ей суждено пропасть –
Лира не должна распутной бабой
Падать и подшмыгивать под власть…
Нет, я не в восторге от былого,
Только ведь и в настоящем – тут
Не сумели самого простого:
Не сумели не озлобить люд.
И страна ещё сильней похожа
На избу – без окон, без дверей:
Посреди эпохи непогожей
Холодно, тревожно стало в ней.
***
Бабка шлёпает в ненастье.
Тянет руку.
Торможу.
- Ох, уж целый час машу, -
Милай, дай Бог тебе счастья.
Я и свечечку поставлю,
И в молитве помяну,
Дам на курево...
- Да ну!
Брось ты, мать, и так доставлю...
Коль забудет - не убудет,
Только думать я хочу,
Что старушка не забудет
Про молитву, про свечу;
Что - с высот своих взирая,
Свет свечи той помня, - Бог,
Придержав у двери рая,
Будет всё ж не слишком строг.
***
Изогнулась в левый бок рябина,
Покосилась хата в правый бок…
«Как там дышит бабка Катерина?» –
Поднимаюсь я на бугорок.
Видно, дров немало съела печка:
У калитки – горкою зола.
Вот старушка вышла на крылечко,
Прослезилась, в гости зазвала.
Отвела почётное мне место,
Чем богата – то и на столе.
- Как там город?.. Дочь, поди, невеста?..
Мы тут все – в навозе да в земле…
- У меня – сыны, – я уточняю, –
Младшенькому подбивает к двум…
- Извини, что память я теряю –
Тут совсем не потерять бы ум.
Все обходят и зовут колдовкой,
Попрошу, хоть ты не откажи:
Сыновьям моим – Ивану с Вовкой –
По письму, соколик, напиши…
Я пишу диктант в Москву и Киев:
Что к престолу будет ожидать,
Что, они такие-растакие,
Позабыли родину и мать;
Что зимою ночь – длиннее года,
Что болезни, как собаки, злы,
Что в селе почти уж нет народа,
Что тоской грызут её углы;
Что не знает, кто её схоронит,
Что хозяйство – тягость-кабала,
Что на нужды самогонку гонит,
Чтоб хоть кем-то ладились дела…
Провожая, как родного сына,
Переждав мой переход пруда,
Машет вслед мне Бабка Катерина,
Может быть, прощаясь навсегда.
***
Забился я в свою родную глушь,
Где мой старинный дом в любую стужу,
В любую вьюгу и в любую сушь
Мне раскрывает двери, словно душу.
И вновь пишу неведомо кому
Стихи о том, что в жизни приключилось,
Что тьма в стране сменила полутьму
И что опять на гнев сменили милость…
А дом глядит в своей немой тоске
И силится спросить, – да силы нету:
«Иль вправду веришь ты, что землю эту
Спасут стихи – на русском языке?..»
***
Ни ребятишек нет, ни певней…
И спел поэт в большой тоске:
«Поставьте памятник деревне
На Красной Площади в Москве».
Другой поэт под шум деревьев
Спел несогласие своё:
«Не ставьте памятник деревне –
Поставьте на ноги её!»…
Они талантливей, душевней –
Я так вовеки не спою,
Но, коротая жизнь в деревне,
Я умереть ей не даю.
***
Я баловался с сыном.
Замучил лоботряс;
И вдруг толкнула в спину
Слезливость чьих-то глаз.
С ножовкою и с палкой,
Как лилипутик-дед,
Смотрел на нас Виталька –
Наш маленький сосед.
Взгляд что-то мне напомнил,
Взгляд что-то рассказал…
Я сына крепко обнял,
Как в жизнь не обнимал.
Вон там вон – за годами –
Смотрел не раз мальцом
Такими же глазами
Я на чужих отцов…
***
Не боясь вечерней порки,
Позабыв про суп и лень,
Детвора штаны на горке
Протирает целый день.
Пар кудрявый из-под шапок.
Визготня и тарарам.
Мчит на санках резвый папа
Пятилетнюю мадам.
Мальчуган хохочет рыжий
Надо мной, сощуря глаз,
Потому что я на лыжи
Становлюсь в сто лет лишь раз.
Кочка, ямка – и в итоге
Кувыркаюсь я опять:
Завязались мои ноги –
Не могу на лыжи встать.
Смейтесь, Мишки и Егорки,
Но пройдёт немного лет –
Понесутся годы с горки!
Устоите или нет?..
***
Сосны в снежных рукавичках.
Ночь пушиста и светла.
Здесь, у чёрта на куличках,
Раскрасавица жила.
Дом её в годах затерян.
В нём, нетрезвый от весны,
Закрывал частенько двери
Я с заветной стороны.
Но зимой неумолимой,
С заоконным плачем ив,
Разругался я с любимой,
Льдистых слов наговорив.
Те слова мои – уверен –
Были тут же прощены,
Но захлопнул всё же двери
Я с обратной стороны.
Нет нелепиц несуразней
Той нелепицы в судьбе:
Я сказал: «Прощай!», – но разве,
Разве верил я себе?
Разве милой я не верил?
Разве был я без вины?
Но навек захлопнул двери
С невозвратной стороны…
Сосны в снежных рукавичках.
Ночь пушиста и светла.
Здесь, у чёрта на куличках,
Раскрасавица жила.
***
Шёл снег, неслышно – как во сне,
Шёл снег весь день и вечер целый.
Стал вправду белым свет наш белый,
Благодаря тому, что – снег.
Я – в белый свет! Друзья – за мной,
Но разгадали с полувзгляда,
Что околдован я зимой,
Что мне попутчиков не надо...
Как нежно землю обнял снег!
И за рекой, за лесом – в поле
Мне показалось поневоле,
Что я попал в давнишний век.
Вокруг - светлынь! Но я грущу:
Вокруг светлынь, а я такого –
Ей подобающего – слова
Ищу, никак не отыщу.
Искал везде, где только мог,
Для своего стихотворенья:
Так в детстве обрывал сирень я,
Чтоб звёздный отыскать цветок.
Пусть обдурил меня туман,
Туман сирени, пусть – безбожно,
Но той влюблённости дурман
Считать несчастьем невозможно...
Благодаря тому, что – снег,
Душа согрелась и распелась,
И ни домой, ни в новый век
Мне возвращаться не хотелось.
***
Человек человеку…
Я достал старинную двустволку,
Чтоб почистить смазать и опять,
В шутку погрозив лисе и волку,
До другого случая прибрать.
Но ружьё учуяла собака,
От меня она не отошла.
Я её одёргивал, однако
Лаяла – охотиться звала,
Как бы говоря: не сомневайся, -
Мы с тобою в поле иль в лесу,
Как-нибудь добыть сумеем зайца,
Иль огнёвку ценную – лису.
Я же думал: Радуется ишь как!
И как горько будет ей узнать,
Что достал я старое ружьишко,
Чтоб почистить, смазать и прибрать.
Но и мне, в плену ночного мрака,
Стало грустно и тревожно вдруг:
Показалось зыбким всё вокруг
Оттого, что на земле – собака
Человеку самый верный друг.
Усыпана звёздами ночь!
И месяц сияет под ними!
И снег рассиялся…
Точь-в-точь,
Как раньше – при старом режиме.
О Мир, где так мучила грусть,
Где думалось с глупою болью,
Что я со стихами ношусь,
Как с первой – несчастной любовью.
Но россыпи звёзд! И зима!
И с месяцем ясным соседство! –
Ведь всё это нам – задарма,
Всё! Каждому сердцу – от сердца.
Поэтому я и пою,
Что с Миром не стали чужими,
Что землю родную люблю,
Как раньше – при старом режиме.
***
Наш праздник отшумел, но мне о нём,
Как будто о прочитанном рассказе,
Напоминают новым хмурым днём
Улыбчивые розы в старой вазе.
Ещё они напоминают мне
О том, что жили мы в большой стране:
Была весна! И ты цвела, как роза!
И я шутил: «О, роза! – Из колхоза!»...
Теперь зима: в стране, в душе – зима,
Мороз трескуч, но ждём похолоданья.
Прости – не от любви схожу с ума,
А от печалей и негодованья.
Идёт война, ползучая война.
Простые люди на переднем крае.
Да чтоб вам ни покрышки и ни дна:
Всем вам, по чьей вине мы вымираем!
Не потому ль – и я, и даже ты,
Во времена искусственно взрывные,
Ещё сильней похожи на цветы:
На эти розы – вроде бы живые?..
***
Праздник был… Теперь – простые дни.
Праздник долгий, и такой – недолгий.
И горят последний раз огни:
Инеем цветным горят на ёлке.
Свет другой я видеть не хочу:
Только – огоньки, и только – эти;
Музыку печальную включу,
Самую печальную на свете.
И закрою синие глаза:
То, – что за долами, за годами,
Увидать иначе и нельзя:
Можно лишь – закрытыми глазами.
Прошлую страну и прошлый век,
И всё то, что не сумело сбыться,
И что было, но прошло, как снег,
Вижу – и виденье длится, длится…
Праздник был… Теперь – простые дни.
От воздушных замков – лишь осколки…
Скрипок плач… Последний раз огни
Инеем цветным горят на ёлке.
***
Разноцветные огни
Мне подмигивают с ёлки,
И сильнее, чем иголки,
Укололи вдруг они.
Грустный праздник – Новый Год:
Он теперь напоминает
То, что времечко идёт,
То, что жизнь-снежинка тает.
Я не сплю, но вижу сон,
А во сне – такой же праздник,
Только я – десятиклассник,
И – в Снегурочку влюблён...
Возвращаюсь в наши дни:
Вновь подмигивают с ёлки
Разноцветные огни,
И сильнее, чем иголки,
Укололи вдруг они.
Так вот: времечко идёт!
Так вот: жизнь-снежинка тает –
Мне о том напоминает
Грустный праздник – Новый Год…
А малыш – пешком под стол,
И кричит котёнку: «Барсик!
Выходи встречать, проказник!
Новый Год уже пришёл!
Новый Год! – Конфетный праздник!»…
***
Снег, снег валит!
Пушистый, тихий снег.
Я размечтался:
Вот бы славно было,
Когда бы людям счастье привалило,
Как этот снег:
И сразу, и для всех.
Снег, снег валит!
Я радуюсь зиме,
Я радуюсь –
Всевышний сказку пишет.
И, кажется, что споры о земле
Теперь и мягче стали, и потише.
Земля отцов!
Милей не отыскать!
Красивей – нет!..
Но радость вдруг прогоркла:
Да! Кончен спор! –
Идёт делёж!
Опять
Рвут конкуренты конкурентам горло!..
Идёт делёж ещё живой Руси.
Уже от грязи и от крови склизко…
Не так ли жутко разрывают псы
Того, кто к ним подходит,
К жрущим,
Близко?..
Вот кто-то ставит подпись и печать,
И наше, –
Что досталось не легко нам,
По новым недоделанным законам
Пришельцу стало вдруг принадлежать.
Похлопывая кедры и дубы,
Приказчики, смеясь, сулят им гибель,
И тут же грубо подсчитали прибыль,
Всю красоту переведя в кубы…
А снег валит! –
И сразу, и для всех, –
И спит земля,
Забыв, что от набега
Нет у неё другого оберега:
Лишь этот снег –
Пушистый, тихий снег.
***
Уходит в небо лесополоса.
Тропинка вдоль берёз. И снег искристый.
Мне некуда спешить – мой шаг небыстрый.
Но ближе всё Земля и Небеса…
И наша жизнь – тропинка вдоль берёз:
Куда ни глянь – и красота, и жалость,
И всех, кого повалит в сон усталость,
Сгребёт в объятья страшные мороз.
И ты, поэт, свой совершаешь путь,
И в эту затянувшуюся стужу,
Ты не даёшь своей душе уснуть,
Чтоб песней отогреть и чью-то душу.
Вот для чего приходит в мир поэт!
А мир теперь таков: почти повсюду
Возводит Сатана на трон Иуду
И жаждет чёрным сделать Белый Свет.
Нечистому поэты не нужны:
Поэты не пригодны для обслуги
И с песней добрым людям злые вьюги,
Не так уж непроглядны и страшны…
Уходит в небо лесополоса.
Тропинка вдоль берёз. И снег искристый.
Мне некуда спешить – мой шаг небыстрый.
Но ближе всё Земля и Небеса.
И верится, что мы, дойдя до звёзд,
Вернёмся – пусть нежданно, пусть случайно –
И вновь пройдём тропинкой вдоль берёз,
То весело шагая, то печально.
***
Опохмелившись, спозаранку
Бредут знакомцы к сосняку,
Чтоб подходящую землянку
К полудню вырыть земляку.
Уже помощники-мальчишки
Отогревают клок земли:
Автомобильные покрышки
Они, где сказано, зажгли…
И в ход, умело – не впервые,
Среди Руси, среди зимы,
Пошли лопаты штыковые
И безотказные ломы…
А завтра снова – спозаранку
Пойдут знакомцы к сосняку,
Чтоб вырыть ладную землянку
Другому очереднику.
***
Мороз закручивает гайки,
Мороз - подобие властей:
Сперва добрался лишь до майки,
Затем достал и до костей.
Уже примёрзли к ветками галки,
А он, надев на ключ трубу,
Сильней закручивает гайки -
И не сорвал ещё резьбу.
***
Холод, холод. - Сегодня он в силе...
Не теряя ни веры, ни сил,
В самом центре продрогшей России
Я по-новой плиту растопил.
Жизнь заставила - стал я запаслив;
Жизнь прижала - спустился с небес. -
Лесника русской песней умаслив,
Съездил я раз-другой в старый лес.
Дров привёз! - Расколол их без спешки,
Расколол даже кряжистый пень.
И бросаю я в топку полешки
Без оглядки на завтрашний день.
Жмёт мороз! - Я держу оборону;
Жмёт мороз! - Что ж, ещё подтоплю.
Так спасаясь, - а как по-другому? -
Я спасаю, кого я люблю.
Обещают мороз и назавтра.
Подготовлю назавтра дрова...
Ах, когда бы умел я - взаправду -
В свет, в тепло превращать и слова!
Вот такая простая идея:
Разгореться душою и спеть, -
Чтобы стало на свете светлее,
Чтобы в стужу кого-то согреть.
Юрий Николаевич Асмолов (1961 - 2018)
__________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 01.01.2025, 13:12 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 05.01.2025, 23:11 | Сообщение # 1567 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| В детстве каждый немного честнее,
Пронеси это чувство сквозь жизнь,
Чтоб за пазухой зла не имея,
Ты на кухне оставил ножи.
Не старайся быть слишком послушным,
Не спеши в анархисты пролезть.
Просто вспомни: от хлеба горбушка
Так вкусна, если свежую съесть,
Разделив её поровну с теми,
Кто успехам твоим будет рад,
Кто плюёт на спешащее время,
И на должности, и на оклад,
Кто на зависть разменной монетой
Не осыпется горстью в карман,
Кто с тобою горбушку эту
Разломает напополам.
Богу сверху, конечно, виднее,
Кто из нас и кем дорожит.
В детстве каждый немного честнее,
Пронеси это чувство сквозь жизнь.
***
В ответ на жадность и уловки,
На ранний иней в бороде -
С молитвы, кофе, тренировки
Пусть начинается твой день!
Простой улыбкой встречным людям
Чужую брань сведи на нет.
С тебя нисколько не убудет
Из тысячи твоих побед.
В Твери, Ельце, Черноголовке -
В любых краях, неважно где,
С молитвы, кофе, тренировки
Пусть начинается твой день!
На всевозможные преграды
Решайся сделать первый шаг.
Бояться этого не надо,
Ведь жизнь в движеньи хороша.
На зависть изойдут дешёвки,
Но на тебя не бросят тень.
С молитвы, кофе, тренировки
Пусть начинается твой день!
Стрела обиды мчится мимо,
Бессильно зло ломает лук.
Добро и счастье неделимы,
Пусть Бог хранит тебя, мой друг!
***
Горят поминальные свечи,
И воздуха мало для вдоха.
До Вечности, братья, до встречи!
Олежек, Серёга, Антоха...
Остались в стихах да на фото
В банданах, комках и разгрузках.
И настежь открылись ворота
В сад райский для воинов русских.
А мы... мы наверно взрослеем,
Уже улыбаемся реже.
Лежат на Геройской Аллее
Антоха, Серёга, Олежек...
Теперь, как к источнику силы,
Идём и в жару, и в морозы
В дни памяти к ним на могилы,
Неся в руках чётные розы.
Сменились составы отделов,
И слов громких сказано много,
Но жили, не словом, а делом
Антоха, Олежек, Серёга.
И строгие чёрные плиты,
Как в бронежилетах пластины,
Ведь Вечностью даже укрытые
В строю остаются мужчины.
***
Усталость бьёт по нервам и инстинктам,
Кто послабее, могут приуныть…
Война не стала стометровым спринтом,
Нам в ней ещё окопы рыть и рыть.
Война другая. Учимся по ходу.
Здесь без учёбы минусуют враз.
Мы бьёмся в ней уже почти три года,
Кому ещё? Никто же, кроме нас.
Война на вшивость провела проверку:
Одни стыдиться за кордон ушли,
Продав навскидку душу человека
И оторвавшись от родной земли.
Зато другие, по-мужицки плюнув,
ВпряглИсь и тащат, не жалея сил.
Здесь всех хватает: и в годах, и юных,
Здесь лишь бы дух в бою не подводил.
Но вот усталость иногда так кроет,
Как миномёт, как козырь или мат…
И каждый должен справиться с собою,
Иначе что? Какой же ты солдат?
Ты, затянувшись долго сигаретой,
Замрёшь на миг и с дымом горечь прочь.
Пора зашить ремень бронежилета
Пока тиха укрАинская ночь.
***
Есть пачка чая и сигареты,
Дрова к буржуйке, сухой лежак,
Есть шоколадка, паштет, галеты,
Три перекрытия блиндажа.
Виднее сверху тем, кто в конторе,
А здесь туманом скрыт горизонт,
Зато условия, как в санатории:
Блиндаж, буржуйка,
даром, что фронт…
За сигареты отдал консервы,
Курить хотелось мне больше, чем есть.
Затяжка влёт отпускает нервы,
А это важно, особенно здесь.
Вот пачка чая, насЫпь щедрее,
Чтоб сразу скулы глотком свело,
Ведь чай не горло, а душу греет,
Когда от снега белым-бело…
Тут быт особый, неприхотливый,
Тут можешь радоваться мелочам,
И если можешь, то ты счастливый,
Но чтоб не сглазить, лучше молчать.
Под Новый год суеты по гланды,
Война войною, но быть добру.
Спаял из лампочек типа гирлянду,
Пустил на скобах по потолку.
И всё в порядке, кроме прилётов,
Но с сигаретами можно жить.
Так коротает свой век пехота,
Уйдя в декабрьские блиндажи.
***
Где твёрдость духа, там дела мужчин.
Грош драгоценностям, раз нету того камня,
Ведь среди всех на свете он один,
Как Родина, отряд или как знамя.
Где ваша чистота, как эталон,
Там закаляются ребята из спецназа,
Чтобы носить на рукаве шеврон,
Знак принадлежности к СПБТ "Алмазу".
Немало лет, как вы уже в строю,
Для вас задачи не бывает сложной.
И спину доверяя вам свою,
Я знаю - защищен надёжно.
В среде спецназа уважают вас:
Соревнования, победы и работа...
Как достигает этого "Алмаз"?
Секрета нет - характером и потом.
Сердца отряда бьются в унисон,
Вы не споткнулись в верности ни разу.
Храню на память я простой шеврон,
Полученный от братьев из "Алмаза".
И потому сомнений нет у нас,
Что в нестабильном мире современном
Плечом к плечу с СПБТ "Алмаз"
Навеки вместе будем непременно.
***
Движки взревели, солярой пыхнув,
На БээМДэшках сквозь шквал огня
Две сводных роты рванули лихо,
И понесла их вперёд броня.
А там земля затмевала небо,
В металле воздух отяжелел...
Ведь ярость боя сильнее гнева,
Чтобы закончить весь беспредел.
Чтоб люди жили, не беспокоясь -
Когда вернётся мир на Донбасс,
Ушёл братишка в свободный поиск,
Не оглянувшись, в последний раз...
Ушёл, как водится, без транспарантов,
Оставив лозунги болтунам.
Нет невозможного для десанта -
Давно известно об этом нам.
Какие силы скрывают недра
Души солдатской - узнает враг,
Когда по-русски насыпем щедро
С любовью из миномётов благ.
Две сводных роты здесь насмерть встали,
Здесь смерть косу затупила об них.
И были парни прочнее стали,
Надёжнее БээМДэшной брони.
***
Беспилотники, дроны, дроны…
Саранча смертоносного зла.
Без пиара стоят в обороне
«Осы», «Панцири» , «Торы», «Игла»…
Нет покоя давно экипажам,
Кто в глазах детских видел испуг,
Тот собьёт всё и тот не промажет,
«Номер раз» - и работает «Бук».
«Номер раз» - ни минуты покоя,
Круглосуточно на боевом,
ПВО закрывает собою
И Россию, и город, и дом.
Днём ли светлым, и ночью ли тёмной,
Вой сирены и свет рвёт, и мрак.
Группировка прикрытия - скромно
ПВО называется так.
Группировка прикрытия судеб
Всех гражданских, всех мирных людей.
Пока есть ПВО, вера будет,
Что настанет вновь мир на земле.
Город Белгород, город Белый,
«Ураганы», «Вампиры»… беда…
Пусть угроза ракетных обстрелов
Не возникнет уже никогда.
Ревуны пусть повиснут беззвучно,
Люди пусть позабудут про них.
Ведь войска ПВО круглосуточно
Ради этого на боевых.
***
Вот грань последней для Земли войны,
Всё больше дел, всё меньше разговоров…
Уже ATACMS’ы на нас наведены,
Как одичалая и бешеная свора.
А мы, как в Бога, верим в ПВО -
Они по-ангельски спасают наши жизни.
По-боевому все до одного,
Чтоб было мирным небо у Отчизны.
Пиндос добро дал бить во глубь страны…
Расчёты комплексов лишь крепче зубы сжали.
Они давно в условиях войны
Не ради лозунгов и плюшевых медалей.
Расчёты «Буков», «Панцирей» и «Игл»,
Мы верим в вас, не может быть иначе.
И дай вам Бог умения и сил,
Везения, успеха и удачи.
И без конца в режиме «номер раз»,
Сжав в кулаке эмоции и нервы,
Не забывайте, что мы верим в вас,
Как ни в кого и никогда, наверно.
***
У Димона две «отваги»,
Обе - за крутой замес,
Патчи, черепа и флаги,
Покровительство небес.
Кто-то скажет, много фарта,
Позавидовав в душе.
Димка молча склеит карту,
Уберёт её в планшет
И уйдёт во тьму глухую.
Ночь в Димоне, он - в ночи.
Значит вводную такую
От комбата получил.
Значит снова без ответа
На недели полторы.
Ничего противней нету,
Скажет он, чем комары.
Многословные тирады -
Точно не его конёк.
В личном деле про награды
Два абзаца в восемь строк.
А пока ручей в овраге,
Горный склон, суровый лес.
У Димона две «отваги»,
Обе - за крутой замес.
***
С собой год назад мы уже не похожи,
Как будто смыл грим. Или просто умылся.
Я прячусь в тумане, как тот самый ёжик,
Кто вовсе не в нём, а в себе заблудился.
Куда-то пропали цветущие вишни,
В тумане коряги деревьев сожжённых…
Чтоб путь отыскать, отсекаю всех лишних,
И чищу забитую память айфона.
Мне год этот стал для меня откровеньем,
Срывая с лица маску всем на забаву,
Зато тяжесть глаз моего отраженья
Собою остаться подарит мне право.
Как ёжик в тумане… а если не станет
Лошадки и филина, и медвежонка?
В стихи ухожу я от мира по пьяне,
Но рвётся душа, как обычно, где тонко…
И в этих разорванных напрочь ошмётках,
Спрессованный ритмом бездушной столицы,
С сердечным теплом я бомблю свою «сотку»,
Чтоб больше нигде уже не заблудиться.
***
Моему Брату Шаху от души:
Посадка узкая, какая есть, что делать,
Мы закопались, как один, в неё.
С той стороны и дроны, и обстрелы,
На каждый чих артА богато бьёт.
В земле и склад, и кухня, и сортиры,
В земле спасение. Не зря мы - соль земли.
Посадка вся насквозь ориентиром,
Но дырчик есть, и мы не барахлим,
Работаем, наводим миномёты,
Подряд две ночи вязли в стрелкотне.
Но мы отбились, их сложив до роты,
Осколок трицепс чуть не вырвал мне.
Я турникетом затянул повыше,
Особой боли не было почти.
Но нефопамом кто-то из братишек,
Сказав: «Так надо!», всё же угостил.
Влетел не скорости пикап-эвакуатор,
Дверь нараспашку - с ходу я внутри.
Зигзагами по ямам так, что матом
Мы не ругаемся, а просто говорим.
Был первый госпиталь, где нАскоро зашили,
Потом второй, где шили ещё раз.
И Севастополь - там почти идиллия,
Старался выспаться авансом про запас.
Посадку ту братишки отстояли,
Их перекинули под новое село.
По справедливости вручить бы им медали
Но и без них парням не западло.
***
Полкан скомандовал:
⁃ Взять «открывашки»!
И в лесополку войти следом взводом.
Но… «открывашки», бл…, тоже наши!
И групппник выдохнул:
⁃ Идём своим ходом.
Вот и пошли мы, на фарт и удачу…
На каждый шаг ожидая разрывы.
Мы всё равно не смогли бы иначе…
А «открывашки» остались живы…
Мы не святые, но это же наши,
И штурм фактически за них был тоже.
Людей мы видели в них, не открывашек,
А люди наши - всего дороже.
По минам страшно, и плыли мысли,
Мол, в белых вряд ли воюют перчатках.
Но ни разрывов нету, ни выстрелов,
А вдруг реально пройдёт всё гладко?
Секли мы сектор и пОд ноги тоже,
Был каждый шаг мой мягким кошачьим.
Уставший ангел вёл осторожно -
Братан, мы русские! Мы не скачем!
Что в головах умных в штабах творится -
Про то не ведаю. Такая там каша.
Но нам нельзя никак оскотиниться,
Не может быть никаких «открывашек».
Мы штурманули посадку, кстати,
Рывком в окопы, ножи там, гранаты…
Подняли руки восемь небратьев,
Их «открывашки» повели к комбату…
***
Я выдыхаю напряженье гор…
Всё, что оставили мы там и потеряли,
Металл тяжёлых боевых медалей -
Они ещё дороже мне с тех пор.
Я выдыхаю пыль чужих песков
С извечной жаждой, нищетой и ложью.
И только тень камазов искорёженных
Мне подбивает седину висков.
Я выдыхаю из себя всю боль,
Что накопилась, как проценты в банках.
Бандеровцы, азовцы в польских танках
Атаковали, но скатились в ноль…
Я выдыхаю беспредел чинуш,
Боевиков, косящих под мигрантов,
Индифферентный пофигизм курантов,
Что долетает из столицы в глушь.
Я выдыхаю, память схороня,
Как провожал в гробах закрытых братьев…
Я выдыхаю и несу распятье
Или оно само несёт меня…
***
Небо может смеяться и плакать
Над парнями, шагнувшими в год,
Но идут они в зимнюю слякоть
Жаром рук отогрев миномёт.
Тащат ствол, тащат плиты и мины,
Праздник праздником… не до него.
В подмороженной жиже мужчинам
Поддержать бы напор штурмовой.
Люто мёрзнут, покрытые потом,
В мокром снеге, на острых ветрах…
Но ведь тащит свои миномёты
На хребтах через поле махра.
День январский размыт и размазан -
И не скажешь, что праздничный он.
Но парням через час по приказу
Штурмовать укреплённый район.
Дело в целом как раз для пехоты.
Мол, кому ещё, если не нам,
Надрываясь, тащить миномёты
По разбухшим от грязи полям?
В наспех собранном батальоне
Из всех тех, кто за русский мир встал,
В заскорузлые взяв ладони
Ледяной смертоносный металл.
Будет небо обиженно шмякать
Снегом в спину, такой Новый год.
Но идут они в зимнюю слякоть
Жаром рук отогрев миномёт.
***
Год уходящий, выпроводив прочь,
Давайте, чокаясь, мы о братишках вспомним,
Кто в новогоднюю густеющую ночь
Предусмотрительно дослал патрон в патронник.
За всех разбросанных по эЛБээС бойцов,
Кого Отчизна балует не слишком.
Но в Дедмороза веря все равно,
Хранят страну обычные мальчишки.
Пусть бьют куранты все двенадцать раз,
Взамен вина я выпью кружку чая
За тех, кто в броннике и на посту сейчас
Наш Новый год от бед оберегает.
***
Пока будут звенеть куранты,
Прогоняя сомнения прочь,
Выйти замуж за лейтенанта -
Загадай в новогоднюю ночь.
Загадай, наяву представляя,
Что тебя жизнь нелёгкая ждёт,
Ведь любовь всё равно побеждает,
Если двое поверят в неё.
Переезды, командировки,
Обустроенный наскоро быт,
Остывающий ужин в духовке -
Это всё пусть тебя не страшит.
Ведь сильнее всего на свете
То, что есть между вами сейчас.
И потом уже трудности эти
Ты с улыбкою вспомнишь не раз.
Как ждала от него сообщений,
Когда он на войну уезжал,
Как темнели бессонные тени,
Ненавидела ты вокзал.
Никому никогда не расскажешь,
Как по окнам стучали дожди,
И твой муж уходил в камуфляже,
Попросив на прощанье: "Дождись!"
И пройдя через все испытанья,
Прикрывая его со спины,
Пронесёшь с честью гордое званье,
Тяжкий крест офицерской жены.
Вот уже затихают куранты
И бенгальские гаснут огни...
Ну, а он пусть любовь лейтенанта
На всю долгую жизнь сохранит.
***
Если стану от прежнего лишь оболочкой,
Раздавив сорок с лишним своих дней рождения,
Попрошу, чтоб не ставила жирную точку
Ни на мне, ни на наших кривых отношениях.
Может, просто нехватка в крови кофеина?
Или это последствия выгорания…
Знаю, что не положена усталость мужчине,
Возврати меня к жизни случайным касанием.
По-людски с тайным смыслом или честно по-волчьи,
Лишь бы вместе сквозь времени злое течение…
Разглядишь ли под тусклой моей оболочкой
Благородных металлов свечение?
Я не знаю, откуда берётся токсичность,
Да и в печень такие токсичные знания.
Верю в нашу любовь и в тебя верю лично,
Потому что плевал я в золу выгорания.
Хочешь - выброшу в снег и кастет, и заточку?
Хочешь нрав свой накрою простынёю смирения?
Но взамен попрошу, чтоб не ставила точку
Ни на мне, ни на наших кривых отношениях.
***
В напрасной спешке мы напропалую
всё варимся в заботах, как в котле,
и забываем истину простую:
семья - остаток рая на земле.
Мы табуном торопимся к обрыву,
уставших вмиг готовы растоптать,
в мечтах о жизни яркой и красивой
жизнь настоящую рискуем пролистать.
И дуем щёки, груди распирая,
и все быстрее по наклонной вниз,
но на земле семья - остаток рая,
в котором можно нам ещё спастись.
Пусть в этом нет особых откровений,
таинственных намёков и интриг,
когда уткнувшись в женские колени,
легко ни слова вслух не говорить.
И в благодарность за уют и ласку,
за смех детей и ужин на столе
Плесну я в будни радугой, как краской,
семья - остаток рая на земле.
***
Пусть закончится наша размолвка,
Ведь нелепыми ссорами сытая
Ты во сне видишь татуировку,
На плече моем правом набитую.
Обнаглев, мы затеем попоечку
В некурящем зале il patio.
Я сломаю глаза об «троечку»
В декольте нескромного платья.
Там чужие, искоса, взгляды –
К ним я рвусь, чтобы в зубы со
скрежетом…
Ты с улыбкой удержишь – не надо
И всё будет у нас по-прежнему:
Снова дразнишь, а я ревную,
Проверяя всех дерзких на прочность,
Получая твои поцелуи,
Что срываю жадно, по-волчьи.
И опутав объятьями ловко,
Удержу журавля, как синицу.
Хорошо, что татуировка
Иногда всё ещё тебе снится…
***
Позади новогодние хлопоты,
Но стоят ещё ёлки с гирляндами.
Волшебство тебе в ухо шёпотом -
Верь в Добро, это самое главное.
Если где-то судьба спотыкается,
Не беда, помоги ей подняться.
Чудеса в нашей жизни случаются,
Иногда даже после двенадцати.
В пряных запахах, терпких и утренних
Пробуждается сказка, наверное.
Город пуст, предрассветные сумерки
В тишине прячут что-то волшебное.
Где имбирь перемешан с корицею,
Настоящие там драгоценности.
Например, доброта под ресницами
И любовь на ладонях у верности.
Тротуар под гранитными крошками
Снегопада ждёт, словно сокровище.
Вот раздать бы всем людям хорошее,
Что-то сказочно доброе, общее,
Чтоб ни ссор, ни упрёков, ни ропота,
Разделив, как конфеты, по-честному.
Позади новогодние хлопоты,
Впереди ещё много чудесного.
***
В окопах грешников немного,
Хотя святых здесь тоже нет.
А где ещё поверить в Бога,
Как не в окопе на войне?
А где ещё меняться взглядам?
И не за что, а для чего?
Когда одно есть слово, "надо",
Сильнее страха твоего.
Где вперемешку с кровью глина,
На скулах пляшут желваки,
Двадцатилетние мужчины
Боль зажимают в кулаки.
О страхе думать нету смысла,
Ему навстречу - он бежит.
Повязка на руке обвисла,
Стяни потуже, будем жить.
Чудес на свете не бывает?
В окопах наших чудеса -
Наверняка про это знает,
Кто зарывался в землю сам.
Когда ненужная бравада
С тебя слетала, как листва,
Давало силу слово "надо"
Из-под нательного креста.
Какие ты шептал молитвы -
Про то знать людям ни к чему,
Но ангел твой над полем битвы
Поведал обо всём Ему:
О душах, вымотанных боем,
О смятых стонах через мат,
О том, как ты накрыл собою
Неразорвавшийся снаряд.
Потом над 25-м ВОГом
Ты улыбался: "Смерти нет".
А где ещё поверить в Бога,
Как не в окопе на войне...
***
Мне мало в сутках суточных часов,
Я тороплюсь вместить в два раза больше,
Но время мчит, как бешеные лошади,
И я давно уже не вижу снов.
Потороплюсь свой век опередить,
Ему стекать по трубам из сортира…
Я выполню приказы командира,
Пока мотор не затроил в груди.
И спальный в сон погрузится квартал,
И день сурка подсадит батарейки,
Но ротная порвёт эфир радейка,
Кто на себя огонь наш вызывал?
Кто назовёт бизнес-процесс войной?
Кто оправдает полчища мигрантов?
Бьют с тридцать первого на первое куранты,
Я почему-то всё ещё живой.
Я почему-то слышу небеса,
Мне ангел вновь прикурит сигарету
И даст перо, чтобы в руках поэта
Оно могло бы сердцем написать…
Сергей Ефимов ORTHODOX https://vk.com/sergio1980
____________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 08.01.2025, 17:42 | Сообщение # 1568 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Сумашедшая жизнь,
А вокруг суета.
Мы спешим все успеть,
А вокруг пустота.
Две кометы надежд
Вдруг мелькнут впереди.
За какой нам бежать,
А быть может идти?
Мы не смотрим вокруг,
Жизнь совсем не парад.
Только сильный здесь прав
И ни шагу назад.
Ну а где-то вдали
Между тех двух дорог,
Мы увидим себя
Может быть между строк.
Нам замедлить бы шаг,
Плюнуть вечности в лоб.
Может быть я слабак,
Но однако не жлоб.
Вот секунда пройдет,
Словно слабость в ночи
Не заметим мы плот
На стремнине реки.
Что нас в будущем ждёт,
Знает только судьба,
Но любовь и и страну
Забывать нам нельзя.
***
Зима ещё не наступила,
Хотя земля давно остыла,
Но снега не было и нет
Туман окутал белый свет.
Дома в деревне почернели
К земле прижались и просели
Лишь дым кружится над трубой
Да пёс скулит с самим собой.
В такое время гость здесь редко
Мелькнёт все больше незаметно
Но в эту пору даже он
На всех наводит только сон
Все в ожиданье холодов
Нас даже ветер не пугает,
Хотя ночами завывает
Пугая тех кто за окном.
Но все же осень нам нужна
Мы к ней давно уже привыкли
Нам заменяет все она
То от чего мы так отвыкли.
Неспешный разговор в ночи
О том что было и что будет,
Горячий чай да калачи,
Но кто же нас за то осудит.
***
Мы ищем то, чего нельзя найти,
Ведь сердце верит этому до боли.
И лгёт себе о воле и неволе
Теша надеждой веру обрести
Спешили мы неведомо куда
Смотря лишь в затуманенные дали
Нередко о грядущем забывали
И слушали слова лишь не свои.
Нам говорили мир совсем другой
Россия край, живущий лишь рабами
Вы станете свободными лишь с нами
При этом подкреляя все войной.
А мы живём, как жили и деды
Тайгою наслаждаемся, полями
Порой бранимся даже с кулаками
И крестимся, чтоб не было беды.
Не стоит нас наверно поучать,
Кому мы в этой жизни помешали
Льстецам с чужими, лживыми речами
Да тем, кто хочет нас заваевать?
Так пусть же знают, те кто к нам идет
Хоть мы и не похожи друг на друга
От севера, до самого до юга
Наш не торгует родиной народ.
***
Закрываю глаза,
Не сойти бы с ума
Но от боли уйти мне куда?
Детский плач, бабий вой,
Крик - Кто нынче живой?
Словно было такое всегда.
Снова вижу кресты,
Виноваты не мы
Восемь лет и не жизнь и не срок.
Кто не скачет - москаль,
Автомат только царь,
Кровь людская дешевле воды.
Ходит девка с косой,
Тащит всех за собой,
Смотрят с неба на это деды.
Мне ли им объяснять,
Как случалось опять,
Что вернулся, фашизм на порог.
Вьется вновь воронье,
Расправляя крыло,
Нам казалось все это прошло.
Как простить, как понять
Тех кто хочет отнять,
Право жить и любить заодно.
Не хотим мы войны,
Сколько наши отцы,
Вспоминали Москву и Берлин.
Правда только одна,
Пусть победа горька
Сколько выпили горя и зла
От нависшей беды.
И фашистской чумы
Но победа за нами всегда
Память предков жива
Бабка была права,
У войны слишком много личин.
Сколько лжи у войны,
Склоним головы мы,
Но Россия и правда одна.
***
Мы возвращаемся опять,
Как это было много раз к истокам
И словно двести лет назад
Опять мы в поисках пророков.
Которых на Руси полно
И в этом нам пора признаться
Все что не тонет хорошо,
Но лишь для тех кто хочет сдаться.
Совсем не важно век какой
Ведь запад им всегда поможет
Француз с немецкой ордой
Британец с армией чумазой.
Им важно только прокричать
- Эх Русь,ты нищая плутовка.
Ну что ты можешь миру дать
Вот вышло с немцами неловко.
Они несли нам третий рейх
Ведь были боги, не солдаты.
А наш колхозник-дуралей
Взял и полез на них с лопатой.
Властитель душ ещё вчера
Вдруг превратился в коловрата
Забыв что Родина одна
Лишь в их рождении виновата
Нас ненавидили всегда
И воевали, и глумились
Но кто заставил и когда,
Чтоб мы кому-то подчинились?
***
Еще будут о нас вспоминать
И не раз, и не два
Те кто предал родные нам с детства поля,
Возомнив из себе нечто выше Христа,
Проклиная страну, свою мать и отца.
Только Родина видела это не раз
Вспоминать не хочу я об этом сейчас.
Но на запад подонки бежали всегда,
Утверждая что там зеленее трава.
Ну а те кто был верен стране и себе,
Возраждались из пепла назло сатане,
Тем кто нас убеждал -
Вам не выжить без нас.
Деды выжили,все завещая для нас.
И теперь наш черед постоять за себя,
За родную страну и родные края,
Не боясь потерять, то что больше не взять
Свою жизнь если надо за правду отдать.
А подонков прощать не хочу никогда...
Раз предав, предавать уже будет всегда.
Виноваты мы сами, раз взростив подлецов,
Нам нельзя забывать славу наших дедов.
Как подонков предавших нельзя нам прощать,
Свою честь только Богу мы можем отдать
Да мы разные: следует это признать.
Но к России любовь никому у меня не отнять.
***
Мы задыхаемся порой
От недостатка кислорода,
Как будто мало нам с тобой
Что подарила мать-природа.
Мы рвем рубаху на груди,
В надежде вырваться из смрада
Не понимая что дожди
Не начинают листопада.
В котором каждый лист иной
Хотя похожи друг на друга
Но их обходят стороной
Под ними может быть и лужа.
Боясь ботинки промочить
Не показаться вдруг смешными
Или ангину подхватить
Идём дорогами кривыми.
Мы задыхаемся порой
И не желаем измениться
Как будто мало нам с тобой
Что завтра жизнь не повторится.
***
Где силы взять, чтоб это пережить:
забвение, обманы и тревоги,
а нервы на исходе словно нить,
еще чуть-чуть и лопнут на морозе.
Где силы взять, чтоб это позабыть:
слова, поступки и свои ошибки,
что нам не позволяют просто жить,
их нужно сбросить, словно осень листья.
Где силы взять, чтобы найти себя:
характер, волю и свои надежды
Как научиться уважать себя,
прощать других и вспоминать ушедших.
***
Ты чувствуешь колючий белый снег?
Он падает сейчас для нас с тобою
Могли бы назвать его судьбою
Ах как бы знать, что выпал он на век.
Трамвай проноситься сквозь эту пелену
И номера не разглядеть глазами
Вот так и мы с озябщими сердцами
Находимся у осени в плену.
На крыши опускается зима
С ее холодными и длинными ночами
Присесть бы у камина со свечами,
Но нет же, мы идём туда где тьма.
Не веря, что зима не навсегда
Что рано или поздно мир проснется
И в окна наши утром улыбнется
Так незатейливо, конечно же любя.
Но мир для нас сейчас колючий снег
Кружащийся у нас над головами
И нам решать что будет дальше с нами
Чем встретим мы пылающий рассвет.
***
Поздняя любовь
Обожгла нас словно листья вскользь
И теперь как с этим жить
Ведь тебя я не могу забыть.
Сколько лет и зим
Мы кружили в вихре ветра с ним
С тем кто нас с тобою ждал
И навеки счастье обещал.
Только от себя нам не уйти
Сердце умирает от тоски
От твоих печальных серых глаз
Душу обжигавших мне не раз.
Ты прости меня
Что так долго я искал тебя
Время наказало нас тобой
И как быть теперь с самим собой.
Жребий брошен нам
И решать тебе зачем он дан
Поменять разлуку на судьбу
Разгореться на ветру костру.
Только от себя нам не уйти
Сердце умирает от тоски
От твоих печальных серых глаз
Душу обжигавших мне не раз.
Пусть любовь слепа
И сгорим с тобой мы без следа
Но зато любовь познает нас
Подарив всего лишь только час.
Только от себя нам не уйти
Сердце умирает от тоски
От твоих печальных серых глаз
Душу обжигавших мне не раз.
***
Ты смотришь на меня сжимая губы
Мне очень жаль, поверь мне очень жаль
А то что между нами в жизни будет
Решит за нас наверное январь
Оставили мы многое открытым
И Новый Год увидит без труда
Снегурочку по имени Ирина
И мальчика влюбленного в тебя..
Салют, игрушки, детские забавы
Что были нам судьбой предрешены
Мы в сказках видели не призрачные балы,
А где принцессой была только ты.
Года менялись новыми годами,
И мы влюблялись в новые стихи,
Но чувства наши были вечно с нами
Мы оставались прежними детьми.
Да, мы взрослели ничего не скажешь
И мир иной висел над головой
Где праздники с игрушечными снами
Все чаще становились вдруг стеной.
Ты смотришь на меня сжимая губы
Мне очень жаль, поверь мне очень жаль
А то что между нами в жизни будет
Решит за нас наверное январь.
***
Из сомнений устроена жизнь,
Ожиданий, ошибок и странностей.
Из холодных дождей и томительно радостных встреч.
Только что-то менять не хочу,
Пусть мой жизненный путь и ухабистый,
Ведь от этого звезды не станут на небе теплей.
То что нам суждено, мы пройдем, даже если не хочется
Ход времен изменить, нам, увы, никогда не дано,
Значит будем ценить и не будем ругать одиночество,
Добиваться всего и любить несмотря ни на что.
Ради тех, кто нас ждет, сокращая часы расстования.
Ради глаз за которые мы можем все в этой жизни отдать.
Это стоит того, чтобы мы ожидали свидания,
С неизбежностью споря, и в споре сумев устоять.
Самолет давно ждет, объявляют задержку с посадкою
Город тоже не может проститься со мною без слез,
Я смотрю на него,сквозь разлуку, украдкою
Когда он на прощанье махнет мне листвою
каштановых грез.
***
Ф. Тютчев.
"Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать..."
Нам не дано предугадать,
Cудьбы крутые повороты
Её падения и взлёты
Нам не дано предугадать.
Нам не дано себя понять,
Какими будем через годы,
Как не познать каприз природы...
Нам не дано себя понять.
Нам не дано, увы, узнать,
Чем наше слово обернётся,
Когда последний день прервётся...
Нам не дано, увы, узнать.
Нам не дано вернуть назад
Весны прелестное дыханье
И детских лет воспоминанье
Нам не дано вернуть назад.
Коль не дано, так будем ждать,
И не грешить, как это было,
Чтоб сердце от обид не ныло...
Коль не дано, так будем ждать.
А мне так хочется узнать...
***
Ты конечно же видел, как падал снаряд
Он не нас выбирал, хотя нам был и рад.
Десять лет день за днём нам давала судьба.
Где то час, а где два без стрельбы и огня.
Мы привыкли к войне, почерневшим домам.
Да и к смерти относимся словно к часам,
Что запущены были когда-то для нас
У соседа вчера исчерпался запас .
Недобитую сволочь прощать нам нельзя,
Раз простили уже получили сполна.
Не любили нам деды о том говорить,
Что пришлось им тогда всей страной пережить.
У фашизма нет лиц, на всех морда одна
Кровь невинных детей позабыть нам нельзя.
Ты конечно же видел, как падал снаряд
Он не нас выбирал, хотя нам был и рад.
***
Где сегодня "Китайский квартал",
Что когда-то то мне спать не давал.
Две скамейки в Приморском саду
Может я стал другим? Не пойму.
Мне кричали- Ты станешь чужим,
Вздрогнет мир и растает как дым,
Между небом и грешной землёй
Все что было когда-то войной.
И кентавры, а может и нет,
Да какая всем разница - свет,
Разольется безумной рекой
Надо мной, над тобой, над землёй.
Только время безумной строкой
Словно гвозди вбивает строкой,
Рай и Ад, это все пред тобой,
Никогда мир не будет иной.
Если даже зажгется весной,
И взорвется сверхновой звездой
Мой квартал и скамейки в саду
Русь навеки в душе сохраню.
Нас не будут любить никогда
И война за войной навсегда
Охранять свой устой и себя
Знать такая у нас всех судьба.
Мы вернемся туда где нас ждут,
Пусть твердят - Все когда-то умрут,
Только Родина нас не предаст,
Даже если и в землю отдаст
***
Молодость уходит незаметно
С шелестом давно прошедших лет
И теперь уже совсем не вспомнить детство
Кроме нескольких забав или примет.
Молодость, ах как же ты похожа,
На кусты ромашки у ворот
Только сердце нам они тревожат
Правда вид у них сейчас совсем не тот.
Что ушло к нам больше не вернётся
И себя ты в этом не вини
Память лишь дождем порой прольется
Что нас ждёт с тобою впереди?
Не вернуть былого нам задора,
Это было все, а может быть и нет
Как нельзя решить хмельного спора
Не спросив у матери совет.
Наша жизнь не знает перерыва
Молодость уходит, но куда?
Может в рощу прямо у обрыва
А быть может к звёздам навсегда.
***
Заросли могилы трын-травою
И о них уже не помнят старики
Вот и мы когда-нибудь с тобою
Будем так же от дорог тех далеки.
Может вспомнят правнуки , не знаю
Алатаево на речке у Кети
В Васюганском комарином крае
Где живут сейчас от силы три семьи.
Как вернуться сам того не знаю,
Только сердце от предательства болит,
Милый край я это понимаю
Но мешает нам наверно просто быт.
Не должны могилы быть забыты
Вот и хочется опять начать с себя
Пусть дождями все дороги смыты
Я вернусь к тебе, пусть даже сквозь года.
***
Да, я горжусь,что здесь родился
Пусть атеист, но здесь крестился
Простой крестьянкой на Оби
Мне русским быть, как не крути.
И чтобы там не говорили
Мне предки землю подарили
А я потомству - сыновьям,
Так завещал мой дед Иван.
Но среди русского народа
Всегда найдут два-три урода
Готовых родину продать
Чтоб тем себя короновать.
Так испокон веков ведётся
Предатель шельмою зовётся
Но суд небесный и земной
Всех достает своей рукой
А опыт, сын ошибок трудных
Для них чужой, да и занудный
Не повод жизнь свою менять
И мать Россию очернять
Увы, предатели всеядны
И речи их порой приятны
Тому кто думать не привык
А лишь срывается на крик.
И лишь тогда, когда урода
Настигнет гнев всего народа
А власть поймет ее порыв
Мы уничтожим тот нарыв.
Но в том мы сами виноваты
Даруя бороды из ваты
Тому кто нам не кум, не брат,
Хотя зовётся "демократ".
Да, были люди в наше время
Твердит нам уходящих племя,
Однако истина проста,
На клене, дуба нет листа.
Уж сколько раз все проходили,
Хотя и Русь то как крестили,
Мазепа, Никон... - сколько раз
Русь предавали, как и нас
А мы все так же их прощаем
Про талерантность вспоминаем,
А нет чтоб просто по людски
Метлой поганой из страны.
Но верю я растают тучи
Россия станет только круче
И будет править в ней народ
На сотни лет тому вперёд.
Александр Мартемьянов (9 апреля 1990 - 05 января 2025) https://stihi.ru/avtor/211062
_____________________________________________________________________________
В Донецке похоронили погибшего от удара ВСУ журналиста Александра Мартемьянова
> https://rutube.ru/video/829a02cfd21c627a971cc15528813b7a/
Сегодня на кладбище «Донецкое море», состоялись похороны Александра Мартемьянова, внештатного корреспондента «Известия», погибшего в результате атаки украинского fpv-дрона на машину, в которой ехали журналисты.
Александр Мартемьянов осуществлял свою журналистскую деятельность на Донбассе с 2014 года. На его профессиональном счету около полторы тысячи репортажей. Александр выезжал в зону боевых действий, на обстрелы, фиксировал преступления украинских боевиков, применения ими к гражданскому населению Донбасса кассетных боеприпасов и лепестков, использование подлой тактики двойного удара, в результате которой гибли гражданское лица, медики и спасатели. Неоднократно он и сам попадал под удар, в результате чего несколько раз был ранен. Попутно Александр занимался и волонтёрской деятельностью.
При жизни Александр Мартемьянов награжден медалью «За храбрость», а также знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Он был патриотом Донецкой Народной Республики и города Донецка, поэтому руководитель региона Денис Пушилин принял решение наградить посмертно его одной из главных государственных наград ДНР – Орденом Республики.
________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 08.01.2025, 17:46 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 09.01.2025, 17:18 | Сообщение # 1569 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Ты во мне всегда живая,
В каждом шорохе души:
Сени, сани, караваи,
Реки, раки, шалаши.
А на небо месяц пьяный
Выползает золотой.
Поросли сады бурьяном.
Полюбил тебя такой.
Волки вышли на дороги,
А по ним — кандальный звон.
Только молвь: — Не надо Бога, —
С глаз долой, из сердца — вон…
Нет, не надо мне награды,
Выжги мне во лбу звезду!..
Не пугайте меня адом,
Я и так живу где надо .
***
Я видел во сне тени чеpных коней https://vkvideo.ru/video-114187914_456241132
Летящих сквозь лунный туман
И там сpеди этих полночных теней
Hадежды неясный обман
Пpонзительный взгляд то ли глаз то ли звезд
Словно молния сеpдце мне выжег
Только в лунной стpане ослепительных гpез
Ты все дальше а утpо всё ближе
Hа летящем коне та что гpезилась мне
Улетает от меня улетает
Hа летящем коне та что гpезилась мне
Покидает меня покидает
Я бежал я кpичал но как часто во сне
Так ни шагу впеpед и не сделал
А на чеpном коне пpямо к самой луне
Улетает мечта моя в белом
Ты мечта ты обман мой ночной талисман
Hикогда наяву не увижу
И смотpю я с тоской в этот лунный туман
Ты все дальше а утpо все ближе
Hа летящем коне та что гpезилась мне
Улетает от меня улетает
Hа летящем коне та что гpезилась мне
Покидает меня покидает
***
Из летописи сержанта Мангуста
…Палатки. Тучи комара.
Броски по полной боевой.
Лечь-встать-вперёд, туман-жара.
Бронежилет стал как родной.
Прыжки, стрельба, ломай-круши,
По козьим тропам — в белый свет,
На вес казны Усман-паши —
Сухая пачка сигарет…
Число какое? День — какой?
— Какая разница, братан:
— Ноль два-пятнадцать, всем отбой!
— Аллах акбар, но пассаран! *
Пять-двадцать две:
“В ружье!” “Тревога! ” —
Ну всё, дождались. Слава Богу.
Недолгий сбор. Аэродром.
Внима-ни-е: слу-шай приказ!..
По небу прокатился гром…
Ну что, пора? Вперёд, Спецназ!…
…Что на войне всего главнее?
— Калибр, — скажет миномётчик.
— Погода, — скажет штурмовик.
Стрелок вам скажет, что траншея.
— Броня, бензин, — кивнёт наводчик,
И только старый фронтовик,
Не высунувшись из-под масксетки,
Дымнёт в рукав “хэбэ”: — Разведка.
И будет прав.
— “Мангуст”—“Мангуст”,
Ответь “Центральной”.
— “Мангуст” на связи,
Всё нормально,
Вы пошумите там немного,
Пока я выйду на дорогу —
Мне тут ещё полночи топать,
А темень, как у негра в доме.
— Вас понял, дам четыре “Градом”
И подниму вторую роту —
Они, голубчики, тут рядом.
— Так врежь ещё и пулемётом.
— Лады-лады, ждём вас на базе.
— Давай, “Центральная”, до связи. —
На первый взгляд — простое дело:
Гор много. Меньше их не стало,
Шагай, куда захочешь, смело…
Гор — очень много, тропок — мало.
Имея право на одну,
Увы, последнюю промашку,
Идёшь, как водолаз по дну:
Не налететь бы на “растяжку”.
Идёшь по лезвию ножа:
За каждым камнем чуешь гада…
Хребет натянут, как вожжа:
Не напороться б на засаду.
Стоп! Кто-то чешет впереди.
Рассредоточились, застыли.
“Пастух”. С биноклем на груди
Проехал мирно на кобыле…
Светает. Тонкая роса
Звенит на каждом лепесточке.
С запасом вышли — в полчаса,
Но это — всё ещё цветочки.
— Ответь “Мангусту”, “База”—“База”.
— Приём, “Центральная” на связи.
— Квадрат сто восемь, я на месте.
— Вас понял, понял, жду известий. —
Итак, что видим мы внизу:
Имярек, населенный пункт .
Собака лает на козу
И кое-где — свежайший грунт:
Копают. Роют, как кроты.
Ну-ну, копайте, ройте лучше.
Левее кладбища — посты.
Копали б там, на всякий случай.
Так. Что там выше — у опушки?
Одна. Две. Три. Четыре ЗУшки,
Ещё повыше по тропе,
Едва заметно, у макушки,
Сверкнуло “зеркало” — НП.
— Ответь “Мангусту”, “База”—“База”.
— Приём, “Центральная” на связи.
— На запад, в сторону хребта
Пошли две группы налегке,
Стволов, примерно, под полста
И пара-тройка РПГ.
— “Мангуст”—“Мангуст”,
Вас понял, понял,
“Заслон-1”, “В ружьё! По коням!” —
Ага, а вот — и караван
Из суверенных “братских” стран…
Гей-гей-гей, гали-гали,
Вот вас-то мы как раз и ждали.
— Ответь “Мангусту”, “База”—“База”.
— Приём, “Центральная” на связи.
— Готовь, кума, овёс и пойло —
Кобыла здесь, кобыла в стойле,
К восходу солнца подкуём,
“Центральная”, ответь, приём. —
— На твоё “соло” нет приказа,
Давай, “Мангуст”, линяй на базу —
У нас уже давно с тоски
Без дела мрут штурмовики,
И ДШБэшник будет рад,
Так что — линяй, там будет ад. —
— Ну, всё понятно и ежу,
Вас понял, “База”, ухожу.
Последний взгляд в “ночник” в долину,
И вдруг, как нож под сердце в спину:
— Сержант, к сараю под конвоем
Ведут двоих: там наших двое.
Отсюда трудно разглядеть,
Но это — Гошка и Медведь!
Бывало ли когда такое,
Чтобы своих бросал Спецназ?!
Через секунду: — Группа, к бою!
Всё к чёрту! Слушай мой приказ:
Мотыль, вперёд, снимаешь мины,
А ты ему поможешь, Длинный:
Оттащишь их метров на двадцать:
Они потом нам пригодятся.
Студент, с “бесшумкой” — часовые,
Петро с ПК — сарай. — Прыкрыю… —
“Весло” — у Пети за спиной,
А Мент и Питерский — за мной!
Задерживаться нам не стоит —
Не эти, так свои накроют.
Мотыль, оформишь ДэТэПэ:
Ставь мины прямо на тропе.
Ну, всё, пора, вперёд, славяне —
Господь, святое дело, с нами!
Крадёмся тихо вдоль стены,
За нею — наши пацаны.
Тут вышел “дух” отлить за угол,
Ну, Мент его и приголубил:
Нож тихо свистнул вдоль стены —
И “дух” оправился в штаны.
Негромко хлопнул “Винторез” —
Второй свалился под навес.
— Алло, орлы, вы там живые?
Тут поменялись часовые.
Вот вам подарки от муллы:
Держи трофейные стволы!
Медведь к “подарку” поднял руки,
И охнул Питерский: — Вот суки… —
Замотаны кой-как в тельняшку,
Торчат Медведевы культяшки.
И Гошка еле-еле дышит:
Прикладами пробили “крышу”…
Ну, ладно, ладно, пацаны,
Они не знали вам цены.
Мы вам такую сложим цену!
А ну, братва, давай на сцену:
— Гранаты к бою! — Есть гранаты!
Зачем домой тащить добро?
— Петро, готов? — Готов Петро.
— Ну, вот вам, суки, и зарплата!
Кто знает, что такое ад?
Десятка полтора гранат …
Рванули первые гранаты,
Заговорили автоматы,
Хлестнул по окнам пулемёт,
А вот — и солнышко встаёт,
А вместе с ним — от тех верхушек
Поднялись три звена “вертушек”,
Аллах вам, “духи”, на подмогу —
Сейчас вам будет не до нас:
“Вертушки” вышли — самый раз ,
Пора, ребята, “делать ноги”!
Последний взгляд с тропы назад:
Кто видел ад? Так вот он, ад…
Так что адью, воюйте, гады —
Там, на подходе — наши “Грады”,
И уж, как пить дать, к вам спешат
На БээМПешечках ДэШа…
На базе: — Ах ты, сукин кот!
Воюешь ведь не первый год.
Своих отбил — хвалю, “пятёрка”.
Ну кто тебя просил встревать?
Устроил, как пацан, разборки!
(Тут командир ввернул про мать,
Орал, как кочегар в трубу.)
— В хозвзвод, сто суток на “губу”!
Стучал по сейфу кулаком,
Назвал на “м”, блин, чудаком,
И кое-как ещё крестил,
Потом немного поостыл,
И перешёл на наш, на русский:
— Дневальный, принеси закуски…
… 105.2 — высотка, как высотка,
Таких на карте — пруд пруди:
Кустарник, камушки, трава…
Да-а, хороша была погодка
(С позиций пляжного сезона —
Как на заказ — ругнуться грех),
Но у войны — свои законы:
Чем тучи гуще, тем нам лучше —
Побольше шансов на успех.
А у Спецназа их и так,
Как говорится, крайне мало,
Так что погода — не пустяк.
К утру слегка похолодало,
И вот уж туча мглою кроет
Плешины молчаливых гор…
Стоят над картой, значит, двое:
Я и наш гвардии майор.
— Отсюда к ним не подберёшься —
Заметят даже комара.
И на “ура” не навернёшься —
“Растяжки”, “точки”, снайпера’.
Вот бы сюда, на эту горку
Забраться, посмотреть вокруг…
Такая вот, спецназ, махорка.
А от неё, туда, на юг
Уже протоптана тропинка,
Вот посмотреть бы, кто там ходит —
Такая вот, спецназ, картинка.
Понятно всё?
— Да вроде всё.
— Что думаешь на этот счёт, спецназ?
— А что тут думать? Есть приказ.
Возьму с собой ещё двоих
И вот отсюда, по ложбине,
Пройду под носом часовых,
Как ящерица по пустыне,
А от ложбинки до высотки —
Час—полтора прямой наводкой.
— Но только так: туда—обратно,
Ты понял? —
— Понял. Всё понятно.
— Приказываю, твою медь,
По буквам слушай: по-смо-треть!
Без всяких штучек и оказий!
Всё. Выполнять. Давай. —
— До связи…
— Весло!
— Я здесь!
— Петро?
— Я тут.
— Отлично, в смысле — вери гут.
Дожевывайте свои булки,
Петро — ПК, Весло — “весло”,
И на вечернюю прогулку:
Поднимемся немного выше,
Целебным воздухом подышим.
Смотри сюда — 105.2.
Вот здесь — ложбина,
Ясно?
— Да.
— Так вот — туда, и враз — обратно.
И не шуметь. Петро?
— Понятно.
— По буквам: просто по-смо-треть.
— Студент, а что у нас там с чаем? —
В ноль-тридцать ровно выступаем…
Не раз ходил каждый из нас
И на краю, и под обрывом,
И к чёрту в пасть —
Как в баню с пивом.
А этот раз — какой по счёту?
Война — тяжёлая работа,
И самый в ней рабочий класс —
Как ни крути-верти — Спецназ:
Там, где “нельзя” и “невозможно”,
Или хотя бы “очень сложно”,
Последним козырем — приказ:
— Ну что, давай вперёд, Спецназ!
Бежали быстро.
Тихо шли.
Ползли — по сантиметру в час.
В конце ложбины — подышали
И дальше — тихо, как могли,
Давили на пехотный газ.
И вот она — твоя высотка.
На карте вот таких высоток…
Петро: — Смотри: нос, подбородок.
Ой, что-то мне она похожа
На чью-то снайперскую рожу,
И даже — чубчик, глянь — кранты!
Весло, да это ж — просто ты!
— Так! Разговорчики отставить!
Собрались, физиономисты:
“Внимательный”, я бы сказал, народ.
Что слева? Справа?
— Чисто.
— Чисто.
— Ориентир — скала. Вперёд. —
Вверх поднимались “в лоб” по склону,
Почти припав лицом к траве.
От напряжения, со звоном
Болтались цепи в голове.
Дошли до узенькой площадки
В низу подножия скалы,
На камни бросили палатку,
Опять проверили стволы.
На всякий, рыскнули по кругу —
Бывали разные дела…
И залегли спиной друг к другу:
360 на три угла.
Скучать пришлось не очень долго:
Сработал командирский план —
С конца тропы, гуськом, как волки,
Из леса вышел караван.
— Весло, что там?
— Пока не вижу.
На лошадях — какой-то хлам…
— Пусть подойдут ещё поближе…
— На лошадях по паре брёвен…
— Что, минометы?
— Не похоже.
Какой-то ящик разрисован,
Как главный вождь у краснокожих.
— Поменьше лирики, Весло!
— Четыре лошади — признаться,
Нам как-то даже повезло:
С охраной — человек пятнадцать.
— Что же в тех ящиках?
— Посмотрим.
— Ха! Интересно как, когда?
— А так: возьмём один, попортим —
Они ж, Петро, идут сюда…
Так что спустись чуть-чуть пониже,
Вон к тем камням, Петро, смекай,
Пропустишь первых, тех, что ближе,
Всё остальное — отсекай.
— Однако “тыхо” не выходит.
— Есть варианты? Предлагай.
— Да нет, я — к слову о погоде…
Отправим сколько надо в рай.
— Весло — снимаешь двух последних,
Я — лошадь и ещё двоих,
Потом, как сможешь, худо-бедно,
Займёшь с Петрухой остальных. —
Как только кверху, на площадку,
Четыре первых поднялось,
Тут в оговоренном порядке
Всё, собственно, и началось:
Внизу граната разметала
Копыта, ноги, армячи,
Потом в ПК заклокотало,
Как в топке доменной печи.
Весло двоих недолго мучил —
Так аккуратно уложил,
И я “своих” — “на всякий случай”
Надёжно к дёрну пристрочил.
— Давай теперь, Весло, к Петрухе,
А я тут ящиком займусь —
Пока очухаются “духи”,
Я думаю, что разберусь. —
Достал штык-нож, подковырнул.
Вот был бы стул, я б сел на стул!
Да чтоб вам, гады, было пусто!
— “Утёс”—“Утёс”!
Ответь “Мангусту”! —
— “Мангуст”—“Мангуст”,
приём — “Утёс”,
Что там опять у вас стряслось? —
— “Утёс”—“Утёс”, тут “Стингера’”!!!
Как понял? Целая гора! —
— “Мангуст”, вас понял: “Стингера”,
Отлично, спец, “отбой”—“отбой”,
Бросай всё к чёрту, и домой! —
— “Утёс”! Они со всех сторон,
“Утёс”, как понял — окружён. —
— “Утёс”—“Мангусту”: на восток!
“Мангуст”—“Мангуст”!
Прорвись на блок!
“Мангуст”—“Мангуст”!
Прорвись на блок!
“Мангуст”—“Мангуст”!
Ответь, сынок!!! —
— …
Какая мама их рожала,
Откуда столько набежало? —
Со всех сторон, как на базар,
Да все “аллах”, да все “акбар”.
Ну что, Весло, ну что, Петро —
Всё вышло очень даже чинно,
Теперь — в отрыв:
Вон бугорок, за ним — обрыв.
Спускаем быстренько страховку,
И прямиком, без остановки,
Чешите ровно на восток:
Там, за грядой — наш третий блок.
— Петь, напоследок баш-на-баш:
Ты мне ПК, я те — “калаш”.
— Не надо ничего менять!
Раз так, мы тоже остаёмся.
Чему бывать, тому бывать,
Впервой нам, что ли, — отобьёмся!
— Ещё раз, значит, повторяю:
Чешите прямо на восток —
Там, за грядой — наш третий блок,
А если кто не понимает,
Я объясню в последний раз:
Не просьба это, а приказ! —
“Макар”, три ленты, шесть гранат
(Нет, пять — шестая “на потом”)…
Ну, где вы там, алло, шпана!
Никто не слышал про Содом?
— Аллах акбар! —
И понеслось,
Как и обещано — Содом:
Такая сказка началась,
Что ни пером, ни топором:
ПК ревел, как сто чертей,
Тротил рвал ночь на лоскуты
И вешал жертвенный злодей
Кишки и лапти на кусты,
Бежали красные “ужи”,
Цепляясь к каждому кусту,
И трасс хвостатые стрижи
Зацеловались на лету…
“Макар”, три ленты, пять гранат —
На сколько их хватило мне?
Не помню я: какой-то гад
Достал “подствольником” по мне:
Рвануло где-то за спиной,
И всё исчезло в один миг,
Как будто не было со мной
Тех, двадцати с лихвой моих…
***
Я однажды проснусь, https://vk.com/video742215787_456242931
А вокруг мир другой,
Светел, чист,
Бесконечно прекрасен.
А на троне высоком -
Царица любовь,
А на меньшее я не согласен.
Под хрустальным мостом
Реки чистой воды,
И никто над цветами не властен,
И не дерево счастья,
А счастья сады.
А на меньшее я не согласен.
Не согласен.
Станет другом большим
Для зверей и для птиц,
Человек больше им не опасен.
И не будет в помине
Озлобленных лиц,
А на меньшее я не согласен.
Верит в глупые сны
До сих пор детвора,
Жаль, что я к этим снам
Не причастен.
День настанет и нам
Расставаться пора,
А на меньшее я не согласен.
Не согласен.
Я однажды проснусь,
А вокруг мир другой,
Светел, чист,
Бесконечно прекрасен.
А на троне высоком -
Царица любовь,
А на меньшее я не согласен.
А на меньшее я не согласен.
Не согласен.
Не согласен.
***
Ты мне не друг, но я тебе — не враг,
И вообще, я знал тебя едва ли.
Ты говорил, что все мы тут в гостях,
Но все и так давно об этом знали.
Ты говорил, что нас нигде не ждут,
А я спросил: — Кому ты, парень, нужен?
Но кто же знал, что через пять минут
Твоя жена останется без мужа?
Слышишь, птица песню поёт?
Видишь, в небе радуга воду пьёт?
Ёлки, солнце встаёт!
И ты, давай, вставай!
Давай, вставай!
Ты мне не враг, а я тебе не друг,
И вообще, ты мне никто, и точка!
Таких, как ты — немерено вокруг,
У каждого сырого костерочка.
Ты говорил, что виноват во всём,
А я спросил: — Куда тебе, такому ?
Но кто же знал, что ты был перед тем
В пяти шагах от собственного дома?
***
Передо мной снежные пустыни https://vkvideo.ru/video-383476_456246394
И облака, мне падая на грудь
Издалека плывут на белых крыльях
Я обнимаю эту тишину
Прощай, печаль, однажды утром зимним
Я не вернусь, но я не пропаду
Стою в снегу, в снегу по пояс в небе
Неси меня над миром, белый лебедь
Стою по пояс в небе
А на Земле, как всегда, рассветы
Колокола поют прощальный блюз
Семи цветов моя дорога к свету
По радуге мой бесконечный путь
Уйдёт печаль, когда проcнётся ветер
К Трём Именам за помощью приду
Стою по пояс в небе
По пояс в небе
***
Ох, и жарко сегодня, как будто в аду.
Дай прилягу чуток, отдохну.
Полежу я недолго и дальше пойду
На работу свою — на войну.
Только вы не подумайте, что я упал, —
Спотыкаться не мне на роду,
Просто я от жары и от дыма устал,
Я сейчас поднимусь и пойду.
Пусть не катятся две росиночки,
Не моя их смахнёт рука.
Тонкой ниточкой паутиночка
Задрожала слегка у виска.
Вы не рвите пока эту тонкую нить,
Не спешите меня хоронить.
Не спешите пока, ну куда вам спешить,
Не поймёт озверевшая рота.
Хорошо или плохо, но я привык жить,
А в траву упал только что кто-то.
Этот кто-то не я, этот кто-то — другой,
В маргаритки вцепился, как в горло,
А я их не люблю, я люблю зверобой…
И к тому же ни капли не больно.
***
Побудь со мной, люби, пока живой; https://vkvideo.ru/video488275550_456239114
Не надо слов и жестов лишних.
Я, может, стал чуть-чуть привычным
За много дней рядом с тобой.
Побудь со мной, люби, пока живой –
Сегодня так, завтра иначе.
О ком та ивушка не плачет,
Склонившись тихо над водой?
Побудь со мной, побудь со мной,
Побудь со мной.
Люби меня, пока живой.
Побудь со мной, побудь со мной,
Побудь со мной.
Люби меня, пока живой.
Побудь со мной, люби, пока живой –
Кому ещё скажу об этом?
Лишь только той на белом свете,
Кого зову своей душой.
Ох, и жарко сегодня, как будто в аду,
Распахни окно, дай отдохнуть.
Обними меня, я дальше пойду
На работу свою, на войну.
Побудь со мной, люби, пока живой.
Люби и помни, даже если
Забудут люди эту песню,
Я прилечу к тебе в другой.
Олег Павлович Гегельский (1964 - 3 декабря 2024), поэт-песенник
____________________________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 13.01.2025, 06:30 | Сообщение # 1570 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветёт.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живёт.
Её золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.
И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльцою веснушек
засыпал ей утром постель.
Не зря с одобреньем весёлым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.
В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же она хороша?
Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живёт.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встаёт.
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида»,—
в отчаяньи он написал.
Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.
Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.
Преграды влюблённому нету:
смущенье и робость — враньё!
На всех перекрёстках планеты
напишет он имя её.
На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях,
на русских полянах — цветами
и пеной морской — на морях.
Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжёт,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдёт.
Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.
1940
***
Если я заболею, https://rutube.ru/video/f051c4833ea84605035b59c8666e2ea0/
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.
Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
1940
***
1 января 1941 года
Так повелось, что в серебре метели,
в глухой тиши декабрьских вечеров,
оставив лес, идут степенно ели
к далеким окнам шумных городов.
И, веселясь, торгуют горожане
для украшенья жительниц лесных
базарных нитей тонкое сиянье
и грубый блеск игрушек расписных.
Откроем дверь: пусть в комнаты сегодня
в своих расшитых валенках войдет,
осыпан хвоей елки новогодней,
звеня шарами, сорок первый год.
Мы все готовы к долгожданной встрече:
в торжественной минутной тишине
покоем дышат пламенные печи,
в ладонях елок пламенеют свечи,
и пляшет пламень в искристом вине.
В преддверье сорок первого, вначале
мы оценить прошедшее должны.
Мои товарищи сороковой встречали
не за столом, не в освещенном зале —
в жестоком дыме северной войны.
Стихали орудийные раскаты,
и слушал затемненный Ленинград,
как чокались гранаты о гранату,
штыки о штык, приклады о приклад.
Мы не забудем и не забывали,
что батальоны наши наступали,
неудержимо двигаясь вперед,
как наступает легкий час рассвета,
как после вьюги наступает лето,
как наступает сорок первый год.
Прославлен день тот самым громким словом,
когда, разбив тюремные оковы,
к нам сыновья Прибалтики пришли.
Мы рядом шли на празднестве осеннем,
и я увидел в этом единенье
прообраз единения земли.
Еще за то добром помянем старый,
что он засыпал длинные амбары
шумящим хлебом осени своей
и отковал своей рукою спорой
для красной авиации — моторы,
орудия — для красных батарей.
Мы ждем гостей — пожалуйте учиться!
Но если ночью воющая птица
с подарком прилетит пороховым —
сотрем врага. И это так же верно,
как то, что мы вступили в сорок первый
и предыдущий был сороковым.
1941
__________________________________
С июня по ноябрь 1941 года был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, находился в финском плену, в 1944 году возвратился из плена.
***
В буре электрического света
умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно–синих блестках
Золушка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке
Наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.
1945
***
Это кто–то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привёз
не плакучее
празднество ивы
и не лёгкую сказку
берёз.
Пусть кремлёвские
тёмные ели
тихо–тихо
стоят на заре,
островерхие
дети метели —
наша память
о том январе.
Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.
1946
***
Я напишу тебе стихи такие,
каких ещё не слышала Россия.
Такие я тебе открою дали,
каких и марсиане не видали,
Сойду под землю и взойду на кручи,
открою волны и отмерю тучи,
Как мудрый бог, парящий надо всеми,
отдам пространство и отчислю время.
Я положу в твои родные руки
все сказки мира, все его науки.
Отдам тебе свои воспоминанья,
свой лёгкий вздох и трудное молчанье.
Я награжу тебя, моя отрада,
бессмертным словом и предсмертным
взглядом,
И всё за то, что утром у вокзала
ты так легко меня поцеловала.
1948 г.
***
Любил я утром раньше всех
зимой войти под крышу эту,
когда еще ударный цех
чуть освещен дежурным светом.
Когда под тихой кровлей той
все, от пролета до пролета,
спокойно дышит чистотой
и ожиданием работы.
В твоем углу, машинный зал,
склонившись над тетрадкой в клетку,
я безыскусно воспевал
России нашей пятилетку.
Но вот, отряхивая снег,
все нарастая постепенно,
в платках и шапках в длинный цех
входила утренняя смена.
Я резал и строгал металл,
запомнив мастера уроки,
и неотвязно повторял
свои предутренние строки.
И многие из этих строк
еще безвестного поэта
печатал старый «Огонек»
средь информаций и портретов.
Журнал был тоньше и бедней,
но, путь страны припоминая,
подшивку тех далеких дней
я с гордой нежностью листаю.
В те дни в заводской стороне,
у проходной, вблизи столовой,
встречаться муза стала мне
в своей юнгштурмовке суровой.
Она дышала горячо
и шла вперед без передышки
с лопатой, взятой на плечо,
и «Политграмотой» под мышкой.
Она в решающей борьбе,
о тонкостях заботясь мало,
хрипела в радиотрубе,
агитплакаты малевала.
Рукою властной паренька
она манила за собою,
и красный цвет ее платка
стал с той поры моей судьбою.
1950 г.
***
Когда умру, мои останки,
с печалью сдержанной, без слез,
похорони на полустанке
под сенью слабою берез.
Мне это так необходимо,
чтоб поздним вечером, тогда,
не останавливаясь, мимо
шли с ровным стуком поезда.
Ведь там лежать в земле глубокой
и одиноко и темно.
Лети, светясь неподалеку,
вагона дальнего окно.
Пусть этот отблеск жизни милой,
пускай щемящий проблеск тот
пройдет, мерцая, над могилой
и где–то дальше пропадет…
1966
***
И современники, и тени
в тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущенье
Шагов Истории самой.
Она своею тьмой и светом
меня омыла и ожгла.
Все явственней ее приметы,
понятней мысли и дела.
Мне этой радости доныне
не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимей
вся та преемственная связь.
Как словно я мальчонка в шубке
и за тебя, родная Русь,
как бы за бабушкину юбку,
спеша и падая, держусь.
1966 г.
***
Я на всю честную Русь
заявил, смелея,
что к врачам не обращусь,
если заболею.
Значит, сдуру я наврал
или это снится,
что и я сюда попал,
в тесную больницу?
Медицинская вода
и журнал «Здоровье».
И ночник, а не звезда
в самом изголовье.
Ни морей и ни степей,
никаких туманов,
и окно в стене моей
голо без обмана.
Я ж писал, больной с лица,
в голубой тетради
не для красного словца,
не для денег ради.
Бормочу в ночном бреду
фельдшерице Вале:
«Я отсюдова уйду,
зря меня поймали.
Укради мне — что за труд?!
ржавый ключ острожный».
Ежели поэты врут,
больше жить не можно.
1968
***
Мы шли втроем с рогатиной на слово
и вместе слезли с тройки удалой —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярдной и пивной.
Был первый точно беркут на рассвете,
летящий за трепещущей лисой.
Второй был неожиданным,
а третий — угрюмый, бледнолицый и худой.
Я был тогда сутулым и угрюмым,
хоть мне в игре
пока еще — везло,
уже тогда предчувствия и думы
избороздили юное чело.
А был вторым поэт Борис Корнилов, -
я и в стихах и в прозе написал,
что он тогда у общего кормила,
недвижно скособочившись, стоял.
А первым был поэт Васильев Пашка,
златоволосый хищник ножевой —
не маргариткой
вышита рубашка,
а крестиком — почти за упокой.
Мы вместе жили, словно бы артельно.
но вроде бы, пожалуй что,
не так —
стихи писали разно и отдельно,
а гонорар несли в один кабак.
По младости или с похмелья —
сдуру,
блюдя все время заповедный срок,
в российскую свою литературу
мы принесли достаточный оброк.
У входа в зал,
на выходе из зала,
метельной ночью, утренней весной,
над нами тень Багрицкого витала
и шелестел Есенин за спиной.…
Второй наш друг,
еще не ставши старым,
морозной ночью арестован был
и на дощатых занарымских нарах
смежил глаза и в бозе опочил.
На ранней зорьке пулею туземной
расстрелян был казачества певец,
и покатился вдоль стены тюремной
его златой надтреснутый венец.
А я вернулся в зимнюю столицу
и стал теперь в президиумы вхож.
Такой же злой, такой же остролицый,
но спрятавший
для обороны — нож.
Вот так втроем мы отслужили слову
и искупили хоть бы часть греха —
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя российского стиха.
***
Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама — на сундук, а гостям — кровать.
Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.
Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого — пожалеет, кого — поздравит,
кого — подбодрит, а кого — поправит.
Совесть людская. Мама моя.
Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.
Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.
Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.
***
Русский язык
У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.
Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.
Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.
Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.
Вы, прадеды наши, в неволе,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.
Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.
Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной
и белым лебяжьим пером.
Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.
Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.
***
Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.
Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.
Для нее ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.
Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.
Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.
Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.
Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным
даже окиси привкус во рту.
Даже жесткие эти морщины,
что по лбу и по щекам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.
Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.
Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют…
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.
Ярослав Васильевич Смеляков (1912 — 1972)
______________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 13.01.2025, 06:31 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 17.01.2025, 23:43 | Сообщение # 1571 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| ОБЪЯВЛЕНИЕ
Тетрадный лист:
«Рязань меняю
На Магадан, на Сочи, Керчь…»
Тому, кто голову теряет,
Что толку волосы беречь!
Садятся в поезд торопливо –
За сорок бед один ответ.
«Подумаешь, какое диво,
Не клином же сошёлся свет».
Но вдруг нахлынет боль такая,
Ну прямо в петлю полезай…
«Меняю,
Срочно я меняю
Всё, что имею,
На Рязань!»
___________________________
***
Русский вопрос
Николай Молотков
Длинная, извилистая серая очередь начиналась на тротуаре, а заканчивалась у закрытых дверей магазина «Гастроном», который в народе называли «бестолковый» за непродуманное расположение отделов, сбивающее с толку покупателей.
- Кто последний? — на всякий случай спросил я, становясь в хвост очереди.
- За мной занимала женщина в красном платочке, она отошла занять очередь в «хозмаг», там порошок стиральный выбросили, за ней будете, — моложавый мужчина в круглых очках приветливо улыбнулся.
- За чем стоим?- поинтересовался я.
- Кур захаровских дают по три сорок, по две в одни руки.
- Как же дают, когда ничего не дают? — я показал рукой на закрытые двери магазина.
- А это обеденный перерыв у продавцов, им тоже надо есть строго регулярно, вишь, как исхудали, — мужчина в очках тихо рассмеялся.
За стеклянными стенками магазина полные женщины в белых халатах группами по несколько человек что-то ели за столиками, равнодушно поглядывая по сторонам.
- А, вот где ты мне попался, — кто-то сильно хлопнул меня по спине, — на ловца и зверь бежит!
Я повернулся — Витька, предводитель «зеленых», улыбаясь во весь рот, протягивал мне руку — держи краба!
- Это еще надо посмотреть, кто зверь, а кто охотник,- возмутился я.
- Ладно, не кипятись, это так, шутка юмора, фигура речи. Тут вот какое дело... приехал к нам из Брюсселя корреспондент одной «зеленой» европейской газеты посмотреть, как мы защищаем природу. Ну мы ему все показали, рассказали, по ушам поездили, в Солотчу свозили. Теперь он хочет поклониться Есенину, в Константинове побывать. Вот я и подумал — кто лучше тебя о нашем замечательном поэте расскажет? Никто. Выручай, завтра и поедем, а то у него командировка кончается.
- А он — парень-то ничего? — я старался оттянуть время принятия решения, чтобы взвесить свои возможности на завтрашний день.
- Нормальный мужик, мы его вчера водили на коллектор, который закрыли на ремонт по нашему требованию, там под кустиком с ним водку пьянствовали. Пьет, не отказывается, только морда лица краснеет. Так что, выручай, съезди с нами.
Ну что ж, я и сам давно не был в Константинове, газету мы сегодня выпустили, можно расслабиться, да и зам мой всегда на месте.
- Хорошо, — согласился я, — а на чем мы поедем?
-Как на чем? — удивился Витька. — На моем «Москвиче».
- Да он у тебя на три года старше Крупской, на нем только дым возить, да и то под ветер.
- Обижаешь, начальник, — Витька гордо поднял голову, — я ему две двери заменил, крылья зашпаклевал, сидения перетянул. А мотор — зверь, до Камчатки довезет.
- Слушай, — не сдавался я — может, Сашку попросим, у него «Жигули», иностранца все же везем.
- Про Сашку забудь, — Витька безнадежно махнул рукой, — пропал человек, с ним теперь ни украсть, ни покараулить.
- Что так? — удивился я.
- Женился он, а жена у него знаешь, где работает? Охранницей в следственном изоляторе. А у них там как? Шаг вправо, шаг влево считается побегом, прыжок на месте — провокация. Она его рвет, как Тузик кепку. Такого лихого бойца потеряли. А все любовь, любовь. Его теперь только на Божью полочку посадить.
- Да, — огорчился я, — Сашку жалко, но ведь и у тебя машина на двоих с братом.
- Ну и что, — Витька пожал плечами,- у нас кто первый встал, того и тапки. Не боись, не просплю.
Столпившиеся у дверей магазина люди стали стучать ладонями по стеклу:
- Открывайте, уже две минуты третьего, обед закончился. Сколько ждать можно?
Продавщицы медленно, вразвалочку стали расходиться по своим местам, одна из них открыла дверь, и покупатели, толкаясь, оттирая друг друга, бросились к прилавку, за которым уже стояла дородная краснощекая женщина в белом, засаленном на животе халате. Она передвигала ящики, коробки, складывала в стопку накладные.
- Ну давайте быстрее, у всех времени в обрез, — нервно выкрикнул кто-то.
- А нет времени, нечего по магазинам ходить, — продавщица царственно посмотрела на длинную очередь и бросила на весы жирную курицу. — По одной в одни руки.
На мне куры кончились.
- Цыплята по рубль семьдесят пять брать будете?- равнодушно спросила продавщица.
Синие, тощие цыплята не выглядели аппетитными.
- Их что, с фабрики в Рязань пешком гнали? — усомнился я.
-Следующий!
Хоть с боем, но мы с Витькой взяли этих «министраусов» и разошлись, условившись встретиться завтра около полудня, предварительно созвонившись.
На следующее утро, в десять часов, я уже стоял на площади Победы, поглядывая в сторону проезда Завражнова, откуда должен был появиться Витька.
Грязно-желтый «Москвич» с черными дверями резко затормозил у остановки троллейбуса. Витька вылез из машины, пнул ногой переднее левое колесо, придавил открывшийся капот.
- Все нормально. Тормозные колодки еще не притерлись, дверки не успел покрасить, но автомобиль в порядке, шесть секунд, и мы на месте. Грузись, поехали.
С трудом открыв скрипучую дверь, я забрался в машину.
- Его зовут Джон, — Витька взялся за руль и повернулся к сидевшему сзади щуплому парню в серой кепке, дымчатых очках и сером пальто, — он из Брюсселя. А это редактор городской демократической газеты, его зовут Николай, — Витька посмотрел на меня, — экипаж на местах, полный вперед!
Когда наш лихой водитель совершал резкий маневр или колеса нашего авто попадали в очередную яму, висевшие на груди Джона два фотоаппарата подпрыгивали, стараясь удариться о корпус машины, а черная коробка диктофона начинала выплясывать какой-то языческий танец. Джон одной рукой держался за ручку двери, другой прижимал к груди свою громоздкую аппаратуру. Я стал рассказывать ему о Рязанском княжестве, о знаменитых рязанцах, о Дарье Гармаш, чей трактор вознесен на пьедестал у самой дороги. Он молчал, улыбался и кивал головой.
Сентябрь в девяностом году выдался теплым и солнечным. Листья кленов, уже тронутые медью, медленно кружась, время от времени опускались к нашим ногам. В доме, где родился поэт, Джон с удивлением смотрел на махотки, на русскую печь, занимавшую половину избы, и все щелкал, щелкал своим фотоаппаратом. Записывал на диктофон рассказ экскурсовода. Мы медленно шли по селу, вдыхая горьковатый дым костров — на огородах копали картошку и жгли старую ботву. У дома помещицы Кашиной посидели на скамейке в саду, похрустели сладкими яблоками, нежась на ласковом солнышке. Я читал стихи Есенина, рассказывал о его трагической судьбе. И Джон, и Витька завороженно слушали, не перебивая, не задавая вопросов. Мы вышли на высокий берег Оки, и перед нами распахнулась необъятная даль русской равнины, покрытая сизой дымкой. Вдалеке, в лугах поблескивала Ока, изгибаясь причудливым серпантином.
Джон храпел на диване, иногда бормоча что-то на своем брюссельском языке.
***
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Вот и стаял снег –
Истаял на исходе вешних дней.
Вот и стали мы,
И стали
На одну весну взрослей.
На одну весну богаче
Ощущеньем бытия.
Это значит – не иначе! –
Должен старше быть и я.
На одну весну добрее,
Успокоенно-мудрей…
Над разливом чайки реют,
Словно в юности моей.
Спало снега покрывало,
Отошла зима, парит.
По Кремлю иду,
По валу,
Аппарат в руках – «зенит».
Башню, звонницу снимаю,
И, терпенье проявив,
Ничего не понимаю,
Дома плёнки проявив.
Ну куда это годится,
Объектив пора менять –
Женщин праздничные лица
В каждом кадре у меня!
***
УТРО В ГОРОДЕ
Какое диво дивное – рассвет!
Вот-вот начнётся цвета представленье,
Неумолимо быстрое мгновенье,
Когда из тьмы
Уже сочится
Свет.
Над крышами рассыпан серый фон,
То тут, то там зигзаг телеантенны,
Всё явственнее проступают стены,
Потухшая реклама «Телефон».
Усталые слепые фонари
Змееподобно вытянули шеи,
Чтоб было им виднее и слышнее,
Когда наступит празднество зари.
Ещё клубится в переулках мрак,
Но брызжут жаром
Маковки собора!
В ночной рубашке
Около забора
Ветла встряхнулась,
Потянул сквозняк.
Над Рюминкой тумана облака,
А на Московском запылали окна!
И светится микрорайон стооко,
Окрашивая в алое бока.
Несмело воробей чирикнул:
«Жив!»
Решая жизни непрестанный ребус,
Лобастый,
Свежевымытый троллейбус
Стартует в утро,
Руки заломив.
Морзянкой каблучков прошита рань,
Вскипает звоном за стеной будильник…
Вздымая солнца атомный светильник,
Из моря ночи
Выплыла
Рязань.
***
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рассказ-быль
– Я вас категорически приветствую! - голос местного олигарха в телефонной трубке переливался всеми оттенками радости. - Чем занимаетесь?
Я вздрогнул и отложил рукопись. Ох, не к добру этот звонок, не к добру!
- Да вот думаю, - я сделал паузу, чтобы сориентироваться в обстановке, - что есть камень? И мыслит ли он? А если мыслит, то что?
- Думать всегда полезно, давайте думать вместе. У меня сейчас интересный человек, вы с ним знакомы. Подъезжайте ко мне, машина у вашего подъезда.
- Я еще на хорошем ходу... Но он уже положил трубку.
Вот и попробуй тут отказаться! Недели две назад я зашел к нему по старой памяти в поисках денег для проведения творческого вечера патриарха нашей писательской организации. Государству писатели теперь не нужны, вот и приходится побираться.
- Как дела? - он широко улыбнулся.
– Спасибо, хреново, но могло быть и хуже, поэтому хорошо.
-Есть проблемы?
– У всех проблемы - у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий.
Он весело рассмеялся. А чего ему не смеяться? Был политработником, читал в военном училище лекции по научному коммунизму, быстренько перековался в демократы. В мутной перестроечной воде поймал свою золотую рыбку и теперь в ус не дует.
- Хотим устроить юбилей живому литературному классику, чтобы его стихи читали актеры, чтобы песни пели, а уж товарищеский ужин – само собой разумеется.
Он вынул из верхнего ящика стола толстую пачку денег, с треском разорвал банковскую упаковку, отделил солидную стопку купюр и протянул их мне.
- Расписку...
- Не надо. Меня обмануть можно, его, – он поднял вверх два пальца правой руки, - не обманешь. Каждому воздастся по делам его.
Во дает! Был ярым атеистом, теперь вдруг уверовал. Видать, грехов у него накопилось много, хлопочет о божественной амнистии.
...Черный навороченный «мерс» остановился у стеклянных дверей большого офиса. Коренастый, коротко стриженный охранник осмотрел меня с ног до головы. Подозрительно покосился на мой «дипломат».
- Оружие, взрывчатка, наркотики есть?
- Не захватил, принесу завтра, какая ваша цена?
Он покраснел от напряженной работы мысли, и я понял, что с юмором у него напряженка.
- Фамилия?
- А вы меня не узнаете?
- Почему я должен вас узнавать? Тут всякие ходят.
- Все говорят, что я похож на деда.
- Мало ли кто похож на деда. Документы!
- Это смотря у кого какой дед.
- Документы!
- И так не узнаете? - я повернулся боком и вытянул вперед руку, изображая вождя на трибуне.
- Предъявите документы или валите отсюда!
- Да плохо у нас в школах изучают историю. Я внук лейтенанта Шмидта.
- Ну и что?
Понимая, что заигрался, я вручил охраннику паспорт. Он внимательно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на паспорт.
- А почему фамилии разные?
- Историческая ошибка, будем исправлять. Охранник снял телефонную трубку:
- Аркадий Соломонович, к вам внук лейтенанта Шмидта по фамилии Топорков. Пропустить?
В трубке часто забулькал смех. Страж порядка снова покраснел.
- Проходите...
- Какие люди и без охраны! - Аркадий Соломонович, широко раскинув руки, вышел из-за стола. - С отцом Афанасием вы знакомы.
Давно знакомы. Когда-то, имея такую возможность, я посильно помогал монастырю, в котором служит отец Афанасий. Улыбаясь, мы пожали друг другу руки.
- Кофе с молоком или чай с коньяком? - хозяин кабинета жестом пригласил меня к маленькому столику, на котором стояли чайные чашки и большой заварочный чайник.
- О, вы поэт, Аркадий Соломонович, говорите в рифму, вас пора в Союз писателей принимать. А нельзя коньяк с чаем?
- Не вопрос.
Он открыл дверцу шкафа, достал пузатую бутылку с золотистыми наклейками, плеснул в чашку немного чая и набулькал до самых краев чашки коньяка. Я сделал добрый глоток огненного напитка, и благодатное тепло медленно растеклось по всему телу.
- Дело вот в чем, - Аркадий Соломонович строго посмотрел на меня, - епархия обратилась в областную администрацию с просьбой возвратить ей Николо-Ямской храм, Там в небольшом приделе уже идет служба. Но один важный чиновник отказал категорически, добавив при этом: «Только через мой труп!» Аналогичный случай уже был в Ленинграде. О нем расскажет вам отец Афанасий.
- Давно это было, еще до семнадцатого года. Жила тогда в Петербурге блаженная провидица, - отец Афанасий опустил глаза, перебирая четки. - Исцеляла от болезней, судьбу предсказывала, молилась за всех нас грешных.
Ехали к ней со всей России за благословением, за советом, за помощью. А когда она преставилась, причислили ее к лику святых, воздвигли большую часовню, в которой служил благочестивый старец.
Пришла безбожная власть, храмы порушили, священников расстреляли, а в часовне этой сделали мастерскую по изготовлению скобяных товаров. Но рабочие отказывались там работать – то станки сами собой отключались, то слышался женский плач, то стены начинали качаться. А верующие приходили к часовне, оставляли под камушками записки с просьбой о помощи, и представьте себе, многим святая помогала в болестях и сомнениях.
Однажды собрались прихожане и обратились к властям с просьбой отдать им часовню для продолжения богослужения. «Только через мой труп», — сказал один высокий чин. Что же вы думаете? Через месяц он умер.
Отец Афанасий замолчал и вопросительно посмотрел на меня.
- Значит, так, - Аркадий Соломонович прошелся по кабинету, - вы, Николай Васильевич, напишите статью в газету, с редактором я договорился.
Рассуждайте о чем угодно, но эти слова «через мой труп» должны быть в центре внимания. Пусть наш чиновник, отказавший епархии в передаче храма, задумается над ними и, может быть, изменит свое решение. Я, конечно, на сто пудов уверен, что мы его скоро снимем, но статья не помешает.
Сегодня понедельник, в среду я хочу почитать то, что вы сочините. Машина ждет вас у подъезда.
Я молчал, прикидывая, с чего начать свой будущий опус.
- О чем думаете?
- Думаю, что коньяк с чаем гораздо лучше чая с коньяком.
На том же черном «мерсе» я с шиком подкатил к дверям писательской организации, у которых стояли двое наших товарищей.
- Однако круто ты развернулся.
- Красиво жить не запретишь.
– Слышь, Василич, мы тут покумекали с ребятами маленько, а что если Валерке к годовщине его ухода установить мемориальную доску на его доме. Он заслужил это, поэт от Бога. Потянем? Ты займись бумажными делами, а мы скинемся по возможности, кто сколько осилит, может, и ты где-нибудь денежку надыбаешь.
– Я один раз уже надыбал, теперь меня вздернули на дыбу. Вот все, что у меня есть, - я протянул им несколько смятых бумажек.
***
Телефон запищал резко и часто, кто-то прорывался ко мне по междугородней связи.
– Николай Васильевич, сегодня среда, а я не вижу на своем столе вашей статьи. В чем дело?
Мама дорогая, оказывается сегодня среда, а у меня еще и конь не валялся! Полный абзац!
– Завтра будет, Аркадий Соломонович, дописываю.
– Завтра будет завтра, а сегодня - это сегодня. В газете оставили место на триста строк, что прикажете ставить?
– Извините...
– Не извиню, – он бросил трубку.
Как он меня мордой об стол сделал! Эх, послать бы его на хутор бабочек ловить, да не могу – деньги взял, значит, продался. Продался за чечевичную похлебку. Ладно, утрусь, не для себя старался, а за общество и пострадать не грех. Христос терпел и нам велел.
Я проверил диктофон и поплелся в Николо-Ямской храм. Большая его часть была в строительных лесах, и только из маленького придела слышалось тихое мелодичное пение.
Молодой симпатичный священник встретил меня приветливо.
– Слава тебе, Господи, служим в этом маленьком закутке, прихожан много, теснотища такая, что бабушки в обморок падают. Какая уж тут тайна исповеди! Хоть на улицу выходи.
Мы просим власти: отдайте нам весь храм, ведь он построен еще в семнадцатом веке на медяки ямщиков, потому и называется ямским. Народ строил - народу и отдайте. Просим, просим, а нам - от ворот поворот. Пойдемте, я вам покажу, какое чудо у нас случилось.
По мокрым скользким ступеням мы спустились в подвал, на дне которого маслянисто блестела черная вода.
- Раньше, когда в храме был цех мебельной фабрики, грунтовая вода стояла под самым полом. Ее и насосами откачивали, и канавы водоотводные копали - бесполезно. А как мы начали служить, вода пошла на убыль. Метра на два уже ушла. Вот видите, где была раньше, - он показал на грязную полосу на стене чуть выше моей головы. - С Божьей помощью все осилим, — он перекрестился.
Я тоже.
К трем часам ночи материал удачно лег на бумагу. Тяжкие слова «только через мой труп» пылали грозным предупреждением.
Аркадий Соломонович был в отъезде, и я отнес свое сочинение в редакцию. Ух! Гора свалилась с плеч!
На следующее утро газета вышла, мой материал шикарно дали подвалом на третьей полосе, но самых главных и нужных слов там не было.
- Что это такое? Кому нужна эта ваша писанина, если в ней нет смысла?
Вы что забыли, о чем мы говорили? Коньяк в голову ударил? - олигарх орал, заикаясь от негодования.
Ну вот, коньяком попрекнул, сейчас про деньги вспомнит.
- Было там все, что нужно, проверьте мою рукопись, это редактор вырезала большой кусок с рассказом отца Афанасия, - я тоже стал повышать голос. - Чего вы пургу гоните? Не надо меня динамить! Я вам что, лох педальный?
- Разберусь я с вами со всеми, - он бросил трубку.
Сдают, сдают нервишки у товарища полковника! Ближе к вечеру он позвонил снова.
- Николай Васильевич, его голос звучал мягко и доверительно, - надо готовить новую публикацию. Редактору я ввалил по первое число. Вся надежда на вас.
Ишь, еж тебя съешь, когда надо, он мягкий и пушистый.
- Я постараюсь, а там как Бог даст. Спасительная идея пришла неожиданно быстро. Новый опус я назвал «Предупреждение».
- Добрый день, сударь!
Я закрыл рукопись. На пороге стоял седобородый старичок в строгой черной «тройке». В левой руке он держал черную шляпу, правой опирался на витую трость.
- Добрый день! Проходите, пожалуйста, - сказал я, а сам подумал: ну вот еще один гений явился. Сейчас начнет читать свои нудные вирши про несчастную любовь.
Старичок сел в кресло, аккуратно положил на стул шляпу, поставил к стене трость с зеленым малахитовым набалдашником, ослепительно белым платком протер пенсне в золотой оправе и неожиданно- спросил:
- Как вы думаете, молодой человек, зачем мы приходим в этот мир?
- Чтобы умереть, - брякнул я, не задумываясь.
- Экий вы торопыга. Слово, поверьте мне, вполне материально, оно живет в пространстве и может возвратиться к вам в виде конкретного действия. Однажды в Петербурге, то бишь Ленинграде, был такой случай...
Далее мой выдуманный старичок повествует о часовне в честь петербургской святой, о неосторожных словах большого начальника «только через мой труп», о трагических последствиях роковой фразы. Заканчивался сюжет так:
- Да-с, молодой человек, будьте осторожны, не бросайте слов на ветер.
Он достал из кармана жилета большие серебряные часы на цепочке, щелкнул крышкой, на которой я успел прочитать: «Павел Бурэ, поставщик двора Его императорского величества», по кабинету разлилась старинная мелодия «Боже, царя храни». Я встал, он тоже поднялся, спокойно надел шляпу, поклонился и вышел, постукивая тростью».
Перечитав написанное, я удовлетворенно хмыкнул: «Ах, забодай тебя комар, как ловко мне удалось закрутить интригу! Сам начинаю верить, что так оно и было. Олигарх будет тащиться удовольствия».
Он позвонил на следующий день.
- Изрядно, изрядно, зело борзо. Читал и наслаждался, - мурлыкал он в трубку, - не в бровь, а в глаз. Поздравляю, а за мной не заржавеет. И этот старичок вовремя вам подвернулся, кстати, если он снова к вам явится, спросите, продаст ли он свои старинные часы, в моей коллекции как раз таких и не хватает.
- Не было никакого старичка, выдумал я, чтобы красиво и логично подать материал. В журналистике это называется подводкой.
- Как же, не было! Он и ко мне заходил, секретарша не пустила, думала, он денег просить будет, а я по пятницам не подаю.
Я пожал плечами. Мало ли бывает совпадений, хотя его секретарша никогда не ошибается. Странно, у него он был, а у меня не был, хотя его откуда-то знаю...
Личный водитель Аркадия Соломоновича торжественно внес свое грузное тело в мой кабин^
- Аркадий Соломонович велел передать вам, – он протянул мне запечатанный конверт.
- А свой поклон он не велел передавать?
- Аркадий Соломонович никогда никому кланяется, все приходят к нему на поклон.
Это точно.
Я вскрыл конверт, вынул стодолларовую зеленую купюру, с которой американский президент Линкольн вопросительно смотрел на меня: «А ты сделал свой миллион?» - читалось в глазах.
Ладно, лишних денег не бывает, бывают случайные деньги. Пригодятся и эти.
- Привет, Николай, как жизнь? - где-то я уже слышал этот барский баритон.
- Как в такси: чем дальше, тем дороже.
- Ха-ха-ха! Ты меня узнал?
- Конечно, ваши глаза так и сияют в телефонной трубке.
- Ковалев Иван Степанович, не забыл наши баталии?
Ба! Точно. Бывший секретарь бывшего райкома бывшей КПСС. Тогда жил при коммунизме и (теперь плюет в потолок — президент строительной компании. У меня за его подписью куча почетных грамот, у него - куча денег. Ловко устроились партийцы! Партию предали, подались в депутаты, банкиры, губернаторы, президенты. Как тараканы в комоде – стукнул хозяин дверкой с одного боку - они перебежали в другой ящик и сидят, усами шевелят.
- Слушаю вас внимательно.
- У меня к тебе небольшое дело.
- Любой каприз за ваши деньги.
Он хмыкнул.
- Неделю назад я проезжал мимо твоей конторы и видел, как этот старичок, о котором ты написал сегодня в газете, входил в твою дверь.
Я поежился. Может, он действительно заходил ко мне, а я запамятовал?
- Ты знаешь, я ведь из рода князей Милославских.
- Охотно верю.
- Когда этот почтенный старец снова явится к тебе, договорись с ним, пусть он восстановит генеалогическое древо нашего рода. Он, наверное, знал некоторых моих предков.
- Какое дерево? Гинекологическое?
- Эх, Николай! Как ты был смердом, так и остался. Темнота, тундра.
- Виноват, ваше благородие, рад стараться, ваше благородие!
- Хватит, перестань паясничать, за работу я заплачу, хотя с деньгами сейчас у меня трудно.
Конечно, у президентов всегда с деньгами трудно, а вот пенсионерам легко - получил гроши и нести легко, и не боишься, что тебя ограбят...
- Коля, приветик!
А, Вовка, старый друг, прорезался, хоть с ним отведу душу.
- Как живешь?
- Лучше всех.
-Нормалек. Слушай, приходи ко мне на свадьбу.
- Да ты вроде уже был женат.
- Ну и что? Жена - вещь табельная, пришел срок – надо менять.
- Я валяюсь. И какая же она у тебя по счету?
- Третья. Хотя нет, четвертая - с Люськой я тоже расписывался, хоть и прожили мы вместе мало.
- Ты огурец!
– А то! Приходи, я тебя с ее подругой познакомлю. Баба - обалдеть! Полный отпад! И чего я на ней не женился? Приходи, оторвемся по полной программе, все будем в шоколаде!
- Я уже свой супружеский долг отдаю деньгами.
- Жаль, что отказываешься. А чего я тебе звоню?
- Закурить хотел спросить.
- Нет, нет, вот в чем дело. Прочитал в газете твою статью про этого древнего представителя позапрошлого века...
- Не было никакого представителя, я его специально выдумал.
- Ага, не было! Я с ним на электричке из Москвы ехал неделю назад. Всю дорогу за жизнь говорили, он мне свою визитку дал с золотыми вензелями, куда я ее дел, ума не приложу. Слушай, если он завтра зайдет к тебе, приходите вместе на свадьбу.
- Да пошел ты...
- Понял, лады, лады, я тебя обнимаю и целоваю!
Да что же это за наваждение! Все его видели, разговаривали с ним, даже Вован завел знакомство, а ведь его нет, нет - выдумал я его. Но откуда же он пришел в мою голову? Кто же мне все это внушил, а я записал? Или у них у всех крыша поехала, или у меня башня слетела. Достали они меня с этим фантомом до печенок, если еще кто заговорит о нем - убью или зарежу!
- Разрешите? - в проеме двери кабинета нарисовался интеллигентный мужчина средних лет в светлом костюме. Посчитав мое молчание за согласие, он прошел к столу. Я указал ему на кресло.
- Видите ли, в чем дело. Я преподаю философию в педуниверситете и мне очень интересен метод рассуждения героя вашего очерка, опубликованного сегодня в газете. Я слышал его выступление на международном симпозиуме в Париже, но поговорить так и не удалось. Если мысленная энергия, сконцентрированная в вашем мозге, может передаваться в виде импульса в систему мирового разума, то информационное поле...
Все громче и громче у меня в висках стучали стальные молоточки.
- А мне все это сугубо фиолетово, - медленно, трудно выговаривая слова, сказал я, сжав кулаки, чтобы унять противную дрожь в пальцах. Видимо, выражение моего лица не располагало к дальнейшему разговору, потому что он встал, пожал плечами:
- Если вы имеете в виду состояние энтропии нашей Вселенной...
Я хотел крикнуть: «Вон отсюда!», но смог выдавить из себя только несколько нечленораздельных звуков. Он резко повернулся и быстро вышел.
Так, так, так! Совсем все сдурели! Все его видели, все его знают, только я не видел, но, выходит, тоже знаю. Психоз массовый какой-то, а может, мысленная энергия?.. Тьфу ты, заговариваться стал. Ладно, сейчас все выясним... Где моя записная книжка, куда очки запропастились? Ничего не найдешь в этих бумагах. Вот они, на лбу, где тут на «о», фу ты, и книжка вверх ногами, сейчас, сейчас.
Она все знает, все понимает. Она девка штуковая, к ней вся деревня за советом ходила, теперь весь город выстраивается в очередь. Телефоны какие-то дистрофические, пальцем в цифру никак не попадешь. Ага, вот, вот.
- Оль, привет, объясни мне, как психотерапевт, как это получается, его нет - а он есть... Все его видели, а его нет - нет, понимаешь?
- Ничего не понимаю. Успокойся, начни сначала. Кто он, когда вы с ним познакомились, что он сделал?
- Да нет его - я его придумал. В сегодняшней газете я опубликовал статью заказную про одного старика в пенсне, в шляпе, с серебряными часами «Зачем мы приходим в этот мир». Догнала?
- Так он к тебе тоже приходил?
Я вырвал телефонный шнур из розетки и выбежал из-за стола. Но тут в боковом кармане пиджака завибрировал сотовый телефон, потом из него все громче и громче зазвучала мелодия: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает...»
Я с остервенением швырнул его в мусорщ корзину, сгреб со стола все бумаги и тоже засунул в мусорную корзину, придавив их ногой, выскочил из подъезда и с разбегу ткнулся голове во что-то мягкое.
- Эй, мужик, не спи в оглоблях! – сильная рука отбросила меня к стене, мои очки хрустнули под ногой высоченного парня в спортивном костюме.
Мелкий холодный дождь приятно остужал голову. Думать ни о чем не хотелось - вот так бы идти и идти в бесконечную даль - туда, где нет телефонов, нет телевизоров, где можно лечь навзничь в высокую траву и смотреть на облака, тихо плывущие за окаем.
Неожиданно я оказался около Николо-Ямского храма. Двери были открыты, но служба уже отошла. Я медленно вошел под темные своды, кое-где одиноко горели свечи, справа у стены женщина в черном вслух читала большую толстую книгу на знакомом, но непонятном языке. Высокий чистый голос то затихал до шепота, то усиливался до плача. Уютно пахло ладаном и растопленным воском. Господи! Благодать-то какая!
Яркий солнечный луч из верхнего окна прорезал полумрак, высветив прямо передо мной большую икону, с которой седобородый старец в золотистых одеждах пристально смотрел на меня. Два пальца его правой руки были подняты вверх, в левой руке он держал раскрытую книгу, в которой я с трудом прочитал старославянский текст: «Прах еси, и в прах обратишися». Это он! Я узнал его! Он приходил ко мне поговорить о смысле жизни. «Из праха вышли и в прах превратимся». Истинно так! Истинно так!
Я попытался отвести взгляд от иконы святого старца, хотел попятиться, но не смог даже пошевелить пальцем. Вселенский холод сковал меня, и только сердце стучало часто, громко, настойчиво напоминая мне: «Жить! Жить! Жить!»
Внезапно солнечный луч погас, и храм снова погрузился в мягкую полутьму. Я отступил от иконы... шаг... другой... третий и быстро выбежал на улицу, еле сдерживая рвущиеся из груди рыдания.
У дверей ярко освещенного супермаркета стояла старая согбенная женщина в черном поношенном платье, робко протягивая руку за подаянием. Она стояла здесь каждый вечер, и я, возвращаясь домой, каждый раз отдавал ей оставшуюся у меня за день мелочь. Я сунул руку в карман, но там не было ни одной монетки, зато метнула какая-то бумажка. Я вынул ее - это стодолларовая купюра - и положил в руку женщине, слегка сжав ее пальцы.
Она никак не отреагировала на мое подношение, глядя куда-то вдаль, туда, где над серыми крышами серых пятиэтажек розовая полоска заката становилась все тоньше и тоньше. Резкий порыв ветра крутанул пыль на мостовой, шарахнулся в двери магазина, вырвал из рук женщины зеленую бумажку и с размаху бросил ее под колеса ревущего стада машин. Я успел заметить, как президент Линкольн осуждающе покачал головой.
Дома я рухнул на продавленный диван, накрыл голову подушкой и провалился в черную бездонную пропасть. Мне снилось теплое, ласковое море, необитаемый остров, заросший пальмами, на которых вместо листьев висели стодолларовые купюры. Как только я протягивал к ним руки, они с шумом взмывали вверх, а президент Линкольн саркастически усмехался.
На берегу валялись сотовые телефоны, я бросал их в море, стараясь снять как можно больше «блинчиков». Телефоны медленно тонули под громкую дружную песню: «Наверх, вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает!» На самой высокой пальме сидел большой зеленый попугай и голосом олигарха противно кричал: «Пиастры! Пиастры!»
Утром, за чаем, жена подозрительно покосилась на меня:
- Ты что, вчера получил гонорар в иностранной валюте?
- С чего ты взяла?
- Всю ночь ты подскакивал на диване, размахивал руками и кричал:
«Пиастры! Пиастры!»
- А... это я гулял по Адриатическому побережью. Море, солнце, необитаемые острова... Райское место!
- Что же ты не остался в этом раю?
- Не судьба, - я тяжело вздохнул.
- Не судьба, - жена тоже тяжело вздохнула. - Пока ты дрых без задних ног, старичок к нам приходил...
- Что? Старичок? Какой старичок? С тросточкой, из Парижа?
- Что это ты вскинулся, аж глаза побелели? Не из Парижа, а из электросети. Предупреждение письменное принес. Если мы до конца недели не погасим долг за электричество, нам отрежут проводку.
Я радостно рассмеялся:
- Проводку отрежут? - Пусть отрезают. На Адриатическом побережье всегда светло.
***
СОТВОРИ ДОБРО!
Во имя жизни –
Сотвори добро!
Оно к тебе
Воротится сторицей,
И расцветёт улыбками на лицах…
Во имя жизни –
Сотвори добро!
Среди зимы
Вдруг пророкочет гром,
В душе оттает
Стылая надежда,
Любовь нахлынет,
Нежная, как прежде…
Во имя счастья –
Сотвори добро!
А если лжи непроходимый ров?
На первый шаг
Достанет сил решится?
За тем барьером
Может всё случиться…
Во имя правды –
Сотвори добро!
Пусть кто-то скажет весело:
«Да брось ты!
И без того не пропадёт планета!»
Земля не солнцем,
Добротой согрета,
Во имя мира –
Сотвори добро!
***
У деда Гриши померла старуха,
Под утро
Богу душу отдала.
Соседка наша,
Бабка-повитуха,
Что столько душ в деревне приняла!
Ещё вчера по дому хлопотала,
Варила деду кашу в чугунке,
А ей давно
Дыханья не хватало,
И вены набухали на руке.
Крестясь,
Пришли к ней верные подруги,
Все в черненьких платочках, как одна,
Обмыв, одели под рыданья вьюги,
На лавке положили,
У окна.
Моментом сын явился из столицы.
«Ты что ж один-то?
Дети где? Жена?
Теперь, конечно,
Чуть чего – в больницу,
А нас от смерти отводила
Вот она…»
Шептались,
Долго всхлипывали бабы,
А льды ломались гулко на реке,
Перед божницей закопчённой слабо
Лампадка теплилась, мигала в уголке.
Плыл жёлтый гроб на белых полотенцах,
Земля парила, ухала река,
Кудахтали на гнёздах куры в сенцах,
И в лужах колыхались облака.
Мы чёрный холмик дёрном обложили –
Пусть будет ей, родимой, потеплей –
Подснежников букетик положили,
Дубовый крест поставили над ней.
Тоскливо, в голос причитали бабы,
Курили старики, вздыхали:
«Жись…»
А дед стоял
Надломленный и слабый,
На толстый посох грудью опершись.
***
Всё образуется, всё образуется,
Всё – образуется!
Даже погода – дожди в январе! –
Образумится.
Будут морозы скрипеть во дворе
С перехрустами,
Будут метели мести в феврале
Долгие, грустные.
Всё переменится, всё переменится,
Всё – перемелется!
Этот циклон атлантический,
Он перевертится…
Стали холодными,
Словно из стали,
И сами мы,
Но ведь экспрессы уходят с вокзала
По расписанию!
Им нипочем снегопад, перепады давления,
Двадцать четыре минуты –
Успеешь ещё! -
До отправления.
Вызреет солнце во тьме,
Воссияв над долиною…
Если бы знал он!
Только бы ждал он,
Только бы звал он:
«Любимая!»
***
Я свечу засвечу,
Разгорится свеча.
Твою грусть излечу
В её мягких лучах.
И, склонившись к плечу, –
Мы плечо у плеча –
Ты поймёшь:
Не шучу,
Не решаю сплеча.
Нежность чистым ключом
В моих пылких речах…
Так о чём же,
О чём
Плачешь ты по ночам?
***
Люби, моя любимая!
Любовь сильней от чаянья.
Мы, встретившись,
Отчалили
От пристани отчаянья.
В какую даль – неведомо,
Что будет – знать не велено,
Метелями, порошами
От прошлого отпрошены.
Вдруг нам дана
В последний раз
Любовь великим праздником?
Хоть день, да наш,
Хоть час, да наш,
А всем до нас –
Без разницы!
***
Мыслит сосна:
«Сосну!»
Сумерки синей сеткой…
Сон спеленал сосну,
Не шелохнется ветка.
Я не смекну со сна –
В стену стучат мальчишки?
Вышел –
Стоит сосна.
Спит.
И роняет шишки.
***
Я стою у жизни на краю,
У её кристального начала,
Шторм за девять баллов,
Раскачало
Корабли в кильватерном строю.
Я мечтаю выбраться скорей,
Вырваться из вспененного ада!
За глаза экзотики,
Не надо!
Сыт – вот так! – романтикой морей.
Я стою у жизни на краю,
У её последнего порога…
Если бы вернуться на немного
В молодость прекрасную мою!
Молотков Николай Васильевич https://stihi.ru/avtor/molotkov41
И тут: https://proza.ru/avtor/molotkownikola
____________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 17.01.2025, 23:53 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 24.01.2025, 18:54 | Сообщение # 1572 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Пастухи
Что сгрустнулся, Ваня,
Что поник, родимый?..
Видно, снова Таня
Пробежала мимо?
Нынче хороводы,
Молодежь гуляет, -
И тебя охота тоже,
Также подмывает.
И тебе бы с Таней
Поплясать хотелось?
Только чтобы, Ваня,
После не жалелось!
В хороводах пляски,
Красные резвятся,
Запылают глазки,
Щечки разгорятся...
Хорошо, ни слова.
А как той порою
Забредет корова,
Стопчет яровое, -
Кто тогда в ответе?..
Мир тебя осудит,
Вычтет, - а с семьею
Что зимою будет?..
Радость да веселье
Дело, брат, богатых.
Ведь и девки тоже
Любят тороватых,
Чтобы с ними знаться,
Нужно, малый, много;
Где ж тебе тягаться? -
Ты ж бобыль убогой!
Нужны там карманы,
Братец, не такие,
Синие кафтаны,
Шляпы щегольские!..
Стыдно ведь парнишке
Стать перед народом
В сером зипунишке,
Хуже всех, уродом.
Что ж соваться к Тане
С голью неключимой?
Бог, брат, с нею, Ваня,
Бог с ней, мой родимый!
Только ведь сначала
Будет тяжеленько...
Ох, и я, бывало,
Плакивал частенько...
Да, разгула голод
Знаемое дело...
Был и я ведь молод, -
Молодость кипела,
Тоже порывался
Я повеселиться,
К красным приласкаться,
Хватом нарядиться.
Ба!.. Да бедность злая
И меня сызмала,
Что жена лихая,
За полу держала.
Вырваться нетрудно,
Одному б хватило, -
И гульнул бы чудно,
Как душа просила;
Да тут совесть в ухо,
Словно голос с неба:
"Знай гуляй, Петруха,
Пусть семья - без хлеба!"
А семья-то, знаешь, -
Старики да дети,
И у них - смекаешь? -
Я один на свете.
И обдаст как варом...
Вспомнишь их, сердечных, -
Дурь пройдет угаром.
Ну вздохнешь, конечно,
И пойдешь за дело...
Так года летели,
Кровь перекипела,
Кудри поседели.
А теперь, любезный,
Нет уж и охоты...
Всё пройдет, болезный,
Знай себе - работай!..
1840-е годы
***
* * *
Она пела, и чудные звуки
Отдавалися в сердце глубоко:
То в них слышались жгучие муки
И рыданья о чем-то далеком;
То восторг неожиданной встречи
И безумная радость свиданья,
И кипучие, страстные речи,
И таинственный шепот признанья.
Обаянью сама уступая,
Забывала она про искусство:
Волновалася грудь молодая
Под наплывом тревожного чувства,
Разгоревшися, щеки пылали
Непривычным огнем упоенья,
И сапфирные глазки блистали
Восхитительной негой томленья.
1840-е годы
***
Не гляди так, девица,
Не сули участия:
Нет, душе не верится
В радость или счастие.
Время увлечения
Миновалось, ясное,
Скрыл туман сомнения
Жизни солнце красное.
Было сердце молодо
И любило пламенно.
Но от жизни холода
Стало глыбой каменной.
Не буди ж ретивое
Негой небывалою,
Лаской шаловливою
Не дразни усталое.
1840--1850-е годы
***
Книга
Книга... Открываю:
"Вытопись российская"!
Ну, тебя я знаю,
Знаю, степь ливийская.
Где тебя ни вскрою,
Книга безотрадная,
Всюду предо мною
Та же жизнь нескладная.
Всюду злу свобода,
Права непризнание,
С жизнью дух народа
В вечном отрицании.
Ширина основы,
Нищета развития...
Мрачны и суровы
Люди и события:
Княжеские брани,
Ляхи да татарщина,
Дани, вечно дани -
И над всем боярщина...
Хитрые обманы,
Злостные насилия,
Грозные Иваны,
Темные Василии;
Наглые миньоны,
Гордо недоступные
Всякие Бироны,
Мелкие и крупные;
Сумрачные лица,
Темные сказания, -
Редко где страница
Светлого предания...
Вечно дух народа
Давит сила строгая,
А кругом природа
Бедная, убогая:
Нива неприглядно
Тощая раскинулась,
Небо безотрадно
Серое надвинулось.
Глухо бор сосновый
С ветром окликается,
Жалобой суровой
Песнью заливается.
Слышно в ней, печальной,
Словно поминание,
-
Скорбное о дальной
Старине сказание.
Конец 1840-х или 1850-е годы
***
Далеко-далеко https://rutube.ru/video/c15469ac9cad6cac0bcd624acaeb1775/
Степь за Волгу ушла.
В той степи широко
Буйно воля жила.
Часто с горем вдвоем,
Но бедна да вольна,
С казаком, с бурлаком
Там водилась она.
Знать, в старинный тот век
Жизнь не в сладость была,
Что бежал человек
От родного села.
Отчий дом покидал,
Расставался с семьей,
И за Волгой искал
Только воли одной.
Я знавал этот край,
Край над Волгой-рекой -
Буйной вольницы рай
И притон вековой.
Где с дружиной своей
Стенька Разин гулял,
Грозной карой прошел
Пугачев Емельян.
Далеко-далеко
Степь за Волгу ушла...
В той степи широко
Буйно воля жила.
***
Современным писателям
Наши цензоры и судьи,
Вы нас гоните везде;
Что же, судьи, правосудья
И на вашем нет суде?
Лишь на нас, судьбой забытых,
Поднята у вас рука;
Эх, ребята, бить убитых
Честь ей-ей не велика.
Вас послушать, так виновник
Всех в отечестве невзгод
Только он, бедняк-чиновник,
Право, странный вы народ!
Исправлять вы нас хотите,
Да берётеся не тут.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В приговоре вашем строгом
Мы преступны, мы берем.
Да, повинны мы пред Богом
И пред батюшкой царем;
Сознаем чистосердечно,
Согрешили мы ему.
Да, повинны мы конечно;
Но повинны потому,
Что в трескучие морозы,
В неистопленом углу
Выжимает холод слезы,
Плачут дети на полу.
Нам проклятьем вы гремите,
Стали притчей мы у вас,
Что ж вы, братцы, не хотите
Приподнять немного глаз?
К нам вы строги, будьте ж правы.
Там повыше, господа,
Не святые наших нравы,
Поглядите-ка туда.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нашим вместе всем проказам
Не сравняться, может быть,
Что иной там барин разом
Соизволит подцепить.
Если наш брат взял полтину,
Так, ей Богу, потому,
Что подметки нужны сыну,
И что негде взять ему.
Там, вверху, не то, не голод,
Побуждает, не беда;
Там не терпят в зиму холод,
Не грызет их там нужда;
Там о детях нет томленья,
Всякий знает наперед,
Что их всех по заведеньям
На казенный примут счет;
Там есть все, чего хотите,
Блага всякие рекой
Льются к ним, а посмотрите,
Что там делают с казной;
Как из службы государя
Выжимается доход,
Чтоб, нарядом дочька Варя
Удивила весь народ,
Чтоб слетать в чужие краи,
Чтобы дань свезти в Париж,
Чтоб держать лакеев стаи
На служебный свой барыш.
Чтобы английскому клубу
Заплатить сполна оброк,
Чтобы тысячную шубу
Подарить мамзель Делок,
Интереснейшей девице,
С парой миленьких детей,
Что певала заграницей,
По кофейным у дверей.
Вот где зло; но вы молчите,
Но вы строги только там,
Где ничем не повредите
Вашим крошечным делам,
Где протекции бессильны,
Где местечек нет в виду,
Чьи обеды не обильны,
С кем нет пользы быть в ладу.
Вместе Богу и мамоне
Вам хотелось бы служить;
Не кричите ж о законе,
Не отучите грешить.
К делу правды, нашей братьи,
Не возватъ вам никого,
Если так лицеприятьем
Вы позорите его.
1857
***
Смешная фигура
Улицей шумной, в толпе экипажей,
Быстро летящих взад и вперед,
Тащатся роспуски с странною клажей:
Гроб на кладбище клячонка везет.
Гроб ненаряден: он просто сосновый,
Даже не крашен, недорого стал;
К роспускам грязным веревкою новой
Крепко его гробовщик привязал.
Тихо по грязи ползет колесница.
Сверху, дырявым прикрыт армяком,
Плотно на гробе уселся возница,
С бранью клячонку валяя кнутом.
Следом за гробом нетвердой стопою
Шел, спотыкаясь, один человек,
Шел бессознательно, только порою
Капали слезы с напухнувших век.
Шел он, как будто какая-то сила
С гробом невольно влекла и его,
Шел, как лунатик, он поступью хилой,
Шел он, не видя кругом ничего.
Муж ли, отец ли? - господь его знает!
Лет не досмотришь на этом лице, -
Дочь ли, жену ли бедняк провожает,
Сына ль хоронит он в том мертвеце?..
Старый фрачишко, короткие брюки,
Всё это узко, в обтяжку на нем,
Тощее тело да голые руки,
-
Видно, что н_у_жда заела живьем.
Сдвинулась набок шляпенка дрянная,
С проседью космы висят надо лбом...
С первого взгляда фигура смешная,
Кажется, будто бредет под хмельком,
Только лицо-то у ней нехмельное, -
Взглянешь, и душу невольно сожмет, -
Смертным бесстрастьем глядит испитое,
Видишь, что с жизнью здесь кончен расчет
Видишь, что точно испил он, бедняга,
Только не зелена выпил вина -
Выпита горя им жгучая брага
Полною чашей, до капли, до дна.
В этом созданьи убитом и бедном
Даже заботы следа не прочесть,
Всё безразлично в обличий бледном...
Смотришь, - и мнится, что сам он и есть
Этого гроба жилец горемычный.
Век свой обык он пешечком ходить,
Ехать-то стало ему непривычно,
Вот он и вылез свой гроб проводить...
Если бы люди узнали искусство
Ближнего душу читать хоть на лбу,
В этой открыли б одно только чувство:
Смутную зависть к тому, кто в гробу.
Если б сказали ему, что возможно
Мертвого к жизни земной воротить,
С дикой боязнью он вам бы тревожно
Молвил: "Не надо, не надо будить!
Снова на муку! За что ж?.. Пощадите!
Сил-то ведь, сил-то не хватит у ней.
Бог с вами! Лучше меня научите,
Как бы и мне-то вот также скорей..."
Конец 1850-х или начало 1860-х годов
***
Федорушка
"Барыня-сударыня, матушка Федорушка,
Что сидишь невесела,
Голову повесила?!"
- Ох, отстань, родименький; отвяжись, невпорушка;
Без тебя тошнехонько,
Без тебя больнехонько,
Не мешай мне морщиться,
Не мешай мне корчиться!
"Непригоже, матушка; не идет, сударушка;
Ты ведь дама важная,
Барыня вальяжная!"
- Ох, была, родименький; ох, слыла, невпорушка,
Дамою я знатною,
Оченно приятною,
Сытою, богатою,
К людям тароватою!
"Знамо дело, матушка; ведомо, Федорушка;
Златом, серебром, поди,
У тебя хоть пруд пруди!"
- Было все, родименький; было все, невпорушка,
Ныне же с натяжками
Я живу бумажками
Пестрыми, красивыми,
Зауряд фальшивыми.
"Как же так, сударыня? Как же так, Федорушка?
Где ж твои рублевики,
Звонкие целковики?"
- Вышли все, родименький; вышли все, невпорушка,
На бумаги новые,
В кабаки дешевые,
Немцам за границею,
Дома - на полицию.
"Поищи, сударыня; поищи, Федорушка;
Ты, хоть не опаслива,
Встарь была запаслива".
- Не найти, родименький; не сыскать, невпорушка,
В небе ясна сокола;
Обнищала догола,
Пропилась, прокралася,
Вся изворовалася!
"Дело дрянь, сударыня; дело дрянь, Федорушка!
Что об нас поведают,
Коль соседи сведают?"
- Сведали, родименький; сведали, невпорушка;
Плачут все от радости,
Делают мне гадости;
Плюют да ругаются,
Вздуть меня сбираются.
"Ты сама бы, матушка; ты б сама, Федорушка,
Помянув родителей,
В морду бы хулителей!"
- Не молчу, родименький; не молчу, невпорушка;
Я и обижаюся;
Плюнут - утираюся,
И прошу прощения
За свое смирение.
"Дрянь ты стала, матушка; дрянь совсем, Федорушка!
Надо бы, красавица,
Нам с тобой поправиться!"
- Поправляюсь, родненький; действую, невпорушка:
Отдаю юстицию
Под надзор в полицию;
Обрываю армию,
Завожу жандармию!
"На кого же, матушка, на кого ж, Федорушка,
Рать тебе татарская,
Силища жандармская?"
- На себя, родименький; на себя, невпорушка,
Чтобы я приникнула,
Чтобы я не пикнула,
Чтоб не ныла жалобой,
Чтоб "ура!" кричала бы!
Конец 1860-х годов
Генерал-майор Михаил Павлович Розенгейм — русский поэт, публицист и переводчик; военный судья
в Петербургском военном округе.
__________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 27.01.2025, 13:01 | Сообщение # 1573 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| Зачем, холодная луна,
Ты манишь девою в пустыни
Сквозь райских птиц в углу окна
Лицом восточным круглым ныне?
Усталый гусь один летит
Едва-едва вон на востоке.
Он плещет, жалобно кричит
Своим товарищам далеким.
На серебристые дома,
На побелевшую деревню
Уж опускается зима,
Но белый мир ей еле внемлет.
Я вижу шелк и аксамит,
Парчу полей и огнь синий.
И как дорогою спешит
Ночная гостья на машине.
Когда в реке окрепнет лед,
Я знаю: Муза то нежданно
В лачугу с инея стукнет
С американским чемоданом.
Потом в халатике простом
Она и я - мы сядем двое
Во облуненный светлый дом
С огромной снежною луною.
____________________________
Люблю дыханье северной зимы!
Нагой красой блистая откровенной,
Освящена лишь отблеском луны,
Ты мне богиней мнишься средиземной.
В глуши глухой российской декабря
В унылый дом безвестного пиита
Восходишь словно новая заря,
В снегах эгейской пены Афродита.
Так ты ко мне восходишь ясным утром.
Нагою ножкой ярче перламутра
Крыльцом прогнившим отряхнув сандалии,
Лепечешь об Афинах да Италии.
Дивя всю улицу и траурного пса
На конуре смотрящего на платье
Последних листьев в снежные леса –
Вдруг замираешь этою тетрадью.
Люблю, когда в кленовом и осинном
Чуть дышишь платье, залистнув тетрадь,
В окно не видя смотришь беспричинно,
Боясь спугнуть скрипучую кровать,
Ты мне ль не так, о Муза, подарила
В ночах метельных не один напев?
Той самой койки краешку присев,
Сей темный угол солнышком святила.
С последних листьев и с рябиной в горсти,
В салоне модном платье сшив шнуром,
Как зимняя любовь за декабрем,
Так ты ко мне без стука ходишь в гости.
***
Живешь, никого не полюбишь,
Живой полусгнивший мертвец.
Из серого города то бишь
Бежишь в деревенский крылец.
Пустою равниной о небо
Шумят лебеда и дурак.
Жить пошло, подохнуть нелепо,
Вот жизнь и коптишь кое-как.
Когда все любови былые
В Америке, Польше, Москве.
Пляши, гимназисточка Лия,
В предзимней и колкой траве!
Наш дом почернелый и сонный
В засмертных, голодных полях
Страною святой, уголовной
Летит и летит за овраг.
Зима и декабрь скатают
Из снега снегурке лицо.
Метели у нас отдыхают,
Садясь на седое крыльцо.
А помнишь, с тобой молодые
Мечтали, ты помнишь тот день?-
Проклясть эти нови России,
В забвенья уйти деревень!
Пока все мертвеют, не зная,
Что в вечности зеркала душ
Пусты, как пустая-пустая
Их жизнь как вселенская чушь.
А мы в их гробницы-столицы
О полночь побдим как всегда,
Как мир-крематорий дымится,
Большие как жгут города.
_________________________________
Как похороненный до века
Живешь как в ссылке снеговой,
Где огонек дрожит ночлега
В лесах несонною звездой.
Смеешься издали на Рим,
На прогрессивный век их крысий,
В их Колизей, патриций власть,
О императоре молясь.
И только совы, волки, лисы
К тебе восходят в ели зим.
Живешь в лесах один. До света
За керосином до соседа
В деревню ходишь в полушубке.
Не ждешь журнал иль гонораров,
И в том не ведаешь кошмаров.
Не врешь в газете. Ты в углах
Один за книгами в юдоли
Сидишь блаженен в мире боли.
В их орков, маглов, матриц книгой
Закрывшись мудрою, с великой
Екатериной говоришь…
Обретши полную свободу,
Сбежавши к северу народы,
По пятистенкам поселяясь
Рабы живут, их не страшась.
Здесь домотканою дорожкой
Не чтят неметчины товар.
По вечерам где самовар,
Капуста, хлебушко, картошка…
И та же кошка,
Телевизор
Давно заброшен на полки.
Где умирают старики
Так не дождавшись социализма.
Здесь сам наш век смешон бредовый
В ТВ, попсюхами кривясь.
Здесь дева в сапогах кирзовых
Коровку доит, матерясь.
Забвенье, тишь и сонь. По чистым
Лугам прохладным земляника
Воюет тихо и без крика
За склон оврага серебристый.
В луне в панамке лунолика
Тебе кивает голубика.
Вдали страны, ворья здесь чинно
Вора и бомжа не страшась,
Гуляет гордая свинина
И прославляет хрюком грязь.
Здесь под луною золотою
Покойны люди, гуси, сны,
И осень тихою листвою
Падет на скользкие грибы.
Где верещит упрямый трактор
Хлысты сосновые пася,
И где директор сам диктатор
Проулком гонит порося.
Здесь в магазине продают
Все то же мыло, спички, соль.
И ряской зацветает пруд
По камышиную юдоль.
И тут так долог жизни час
Висит на гирях у забвенья,
И плесень покрывает враз
Все деревянные строенья.
Здесь баржу, дряхлую старуху,
Ругаясь дымом, катерок
Вдаль по реке ведет.
Разруха
Как в сорок пятом.
Костерок,
Да плавни, сети, крана дыба.
И ловит золотую рыбу
Своей старухе старичок.
Здесь зябким утром печь согрета
И так и манит на покой.
Вдали от модных ветров света
Здесь мы гордимся нищетой.
Здесь свято жить, ах господа,
Легко и просто удается.
И Матерь Божия сюда
Сама приходит: иногда
Ведром стукочет у колодца.
------------------------------------
Взгорья, ели, сосны, воля.
А дорога далека
Упирается в иное.
Город - прошлая тоска.
Там вон в заводь окунулись
Облака и дольний лес,
Словно юность к нам вернулась
Тихим ангелом небес.
В итальянском черном платье
Меж косынок и сапог
Грезишь ты о новом счастье.
Путь далек. Ужасен рок.
Может, будем в доме новом
Жить с тобой на вышине.
В доме чистом и сосновом
На песчаной крутизне.
Там над озером зеленым
Будешь ты следить гусей.
Я – над горном раскаленным
Колдовать да ждать гостей.
О, довольно слез и споров
Да похмелий в кураже –
Поминать бетонный город,
Склеп на пятом этаже.
-------------------------------------
Ненастная пора предзимних дней.
Уж розовеют темных изб оконца.
Едва на час проглянет бледно солнце
И скроется за синевой полей.
При слабых фонарях во тьме изгнанья
Я слышу здесь не смесь московских врак
Их многолюдных поэтических собраний,
Но разве лай ленивый двух собак.
Вот мужичок везет с колонки флягу,
Две бабы с почты с пенсией идут.
На столике в холодную бумагу
Две вяло строчки в целый день стекут.
И не мечтая за 500 рублей
В столичных книгах заплатить страницу,
Не олигарх, я в улочке своей
Слежу дымок как медленно курится.
И рифмы бросив, с Музой деревенской
Идем по тропке оба узкой сельской,
В глухом краю следя который год
Большой луны мистический восход.
Про наш глухой медвежий край с берлогой
Мы с Музой слушаем до вечера вдвоем
При тусклом свете лампочки убогой
Старушек сказ и быль полустихом.
И старых ходиков под мерный стук, кого-то
Зовет и ждет на темных крышах крыл
Созвездий дальных взгляд на огороды
Надмирный ход божественных светил.
***
РУССКАЯ ЖИЗНЬ
О, долго ль гнить в тебе, докучная Россия,
С народом современным и тупым!
И нет угла на свете, где б к родным
Из этой жизни приползти в бессилье!
Где нет свирепой радости глумлистых
До евро жадных тележурналистов!
Но где поэмы в газетенке местной
Под N и вензелем курсистки неизвестной.
Где не видны терактов вдруг пожары
И не слыхать телевизионной нови –
Их всхлип от радости при бедствиях и крови,
Чем больше гибнет, тем и больше гонорары!
Где ты, покойный русский уголок,
С перинами, с кивотами в углу,
С цветными пятнами лампадок на полу,
С печуркой жаркой в зимний вечерок.
С блескучей птицей в изразце хрустальном
Святой Руси почти полузабытой.
С котом ангорским долгие молитвы
При Троеручице славянскою печальной.
Там том Дашковой красный и сафьянный
На этажерке буковой в диванной
С портретом фрейлины с собачкой у камина
В шелках и рюшечках времен Екатерины.
Там в библиотеке у голландской печки
Двух барышен скучающие плечики
За алым бархатом, и синий «Современник».
И голос ангельский: «Зайдите в понедельник».
Где, где подобье Суздаля такого?
Там в сапогах начищенных яловых
Мимо рядов мясных, мучных, медяных
Под ручку бродишь с барышней румяной.
Да купишь в рубль царский настоящий
Хрустальный камень сахара звенящий,
Да чая фунт, да калачей с изюмом.
Да завернешь потом на шкалик к кумам.
А после смотришь на закате дальнем
На всенародное с гармонями гулянье,
На санок лет, на хохоты из тьмы,
На чучело горящее зимы…
***
ТЬМА
Что там несется в небесах,
Пылая топкой паровоза?
Свивая смерчи на снегах,
Все выстужая в лед морозом.
Кто там скулит, стенет, взвывая?
Метель иль волки за мостком?
Кто там на кладбище мигает
Во мгле неверным огоньком?
Клыками щеряся на выси,
Кряхтя, садится на крылец
Скулить о вечной жуткой жизни
Непоминаемый мертвец.
Перечисляя званий, премий
И многотомной лжи обман
В глухоневнемлющей деревне
Давно уснувших поселян.
Пусты могильцы неживые.
Живые в темный час живых
Храпят, проспав свою Россию
И дух отшедший пресвятых.
Спят в городах архиереи,
Дневных пророчиц нудный вой,
Спят казнокрады, задогреи
Из кресел кожаных с женой.
Поэты спят и патриоты,
Смотритель спит кремлевских звезд,
Воров дневных спят сверхдоходы
В костюме сером «Хьюго Босс».
Всю ночь стучат мне в дом снаружи
И дышат в стекла синим льдом
Неупокоенные души
С промерзлых кладбищ за прудом.
Несметных духов легионы
Несет над сонною страной
Мороз забвения бессонный
Близкогрядущею войной.
И дремлет мертвая Россия
Под гулом, посвистом чертей,
В дома попрятавшись глухие
Как за бойницы крепостей.
Бессонный ангел полуночи.
Води недремлемой рукой!
Не спи, не спи в сей час порочный
Нерассветаемой страной.
***
МОСКОВСКОМУ ПОЭТУ,
ПИШУЩЕМУ О РОССИИ
Москвич, айда в деревне посидим!
С евроремонта светлых кулуаров
Приедь сюда, забудь свой Третий Рим!
Вернись в Россию, а не в мемуары.
Вот, скажем, скотником ты будешь здесь пахать.
На старой ферме в жиже да в навозе
Всю жизнь по горло ржавы цепи ковырять
В январь при ветре на слепом морозе.
Айда, москвич! В резиновых ботфортах
Бродить селом! За то притом дадут -
В фуфайке древней пострашнее черта –
Три тыщи рэ за гиблый рабский труд.
Потом в воспоминаниях напишешь
Про то, как дохнут поросята вдруг …
Иль … про бумагу на налог в пять тысяч
Для загранвиз районных чиновнюг.
Про то, что стоит новая кастрюля
Здесь в магазине 800 рублей,
Да про Арбат … да про московскую финтюлю -
Средь томных луж разьезженных колей!
И ты вздохнешь на ржавую кастрюлю.
(А куры жрать канючат, а проглот
Баран с барнихой!) Ах, не нервируй, Муля!
И сжав виски, бежишь ты в огород.
А там уж жук что красная калина!
Опять с гвоздя водища в сапогах!
Ревет и стогнет жадная скотина,
В калитки тыча ноги и рога.
«Где ж взять три тыщи на продукты в рынок, -
Ты станешь мыслить. - Вот … опять трава!» -
А уж бубнит шофер, чеша затылок:
- Давай, мужик, шесть тысяч за дрова!
Что за кошмар! Бывало, я в Антибах
Писал стихи про ясность русских рек!
В сей поэтической деревне русской гиблой
Ты завопишь: - У, пропасть на вас всех!
А там стучат в ворота: « По бумаге
Когда налог заплатишь?» - и как шут
Орать ты будешь: - Лба окрестить, собаки,
Тут никогда минуты не дадут!
Под вечерок бычок со зла потопчешь,
Зачешешь репу в жизненной стезе:
« Где взять на трактор денег? – и промолвишь. –
Пойти, пожалуй, воровать как все!»
Но воровать уж нечего! Лет десять,
Как все повывезло начальство на селе…
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………...
А в небеси не Бог – хохочет месяц,
Как яхта Абрамовича в теле.
Так через год, зарезав скот безвинный,
От злой тоски да нищеты такой
Запьешь. И скажут : «Ведь вот пил он, как скотина!
А был поэт, пожалуй, он большой!»
Совсем иным здесь станешь, брат, поэтом,
Румяный бог парнасского родства.
Купи ж билет!
Но … не дает ответа!
Народ безмолвствует. Кишит себе Москва…
***
ЛИПЕЦКОЙ ДЕРЕВНЕ
Что лучше нам: богатый ад столиц
Иль нищий сельский рай страны забытой?
Моля взять в долг у безответных продавщиц,
Стоит мужик, мечтая о пол-литре.
Вот пейзаж: у кособоких изб
Тележку колеей две бабы тянут…
Одна в советской болонье, другая из
Китайских пятен, свитер с Пакистана.
Мужик на тарахтелке прет бревно
Засохшее. Ржавеет в этом рае
Пустое поле.
Дерево одно
Пустое, мокрое.
Горбыль козел сгрызает.
Две воробьишки на корыте жестяном
Следят у пса на мятый алюминий
Остатки каши.
Светит за прудом
Электросварки огонечек синий.
Последняя корова на Земле
В дождливой серости глядит на банный веник.
«Не прокормить, проклятую! – во мгле
Гугнит старуха. – Нет посыпки, денег!»
В холодном магазинчике села
Средь мокрых спин я маюся томленьем.
- Повесился Протыгин. Не дала
Ему с утра Танюха на похмелье!
А в телевизоре скокочет новый черт
На фоне Ниццы, яхт – козою блеет.
Безухий бродит и бесхвостый кот
У пыльной магазинной батареи.
Что делать в нищем рае, коли есть
Нам на аванс 500 рублей? Богатство!
И с банкой кильки надо б знать и честь!
Прощайте, граждане! Такое государство!
Скорее б ночь! Не видеть нищий рай.
Сидим мы с водкой за изрезанной клеенкой:
Холодной печки выщербленный край,
Его жена болеет селезенкой.
Веселой жизнью золотых столиц:
Убийц, профур, богов капитализма
И тут мелькает яхтами из Ницц
Немой корейский пыльный телевизор!
На серой улице смеркается.
Об столб
Стрекочет дождь, по избам серо-хмурым…
Все тот же мается и чешется козел.
И древо жизни – как из арматуры.
А по ночам здесь в пустоте глухой
Не видно звезд московских иль турецких –
И, как циклоп, сверкает над страной
Прожектор глазом былей просоветских.
В глухую ночь в великой немоте
Полей продрогших липецких безлесных
Забрешет сучка.
Светит на кусте
Пакет блестящий лейбом «Мерседеса».
***
РУССКИЙ АПОЛЛОН
Четырехстопный ямб мне надоел!
Но в остальное мысль не влезает.
Пора б гекзаметром наш оживить предел
Болтливых муз… но виснет… замолкает!
Забыться в удручающих стихах,
Во Интернете сидя до зевоты -
На либералках, шустрых на словах,
На бук угрюмых - наших патриотах.
Поэтов бога трон установлен
В селе России. Он снегами блещет!
А бог поэзий, русский Аполлон,
В Великом Устюге на рынке ловит речи.
Неблагосклонен он до городов
И рифмачей квартир космополитских;
Сети поэтов, их бетонных строф
Чураясь тяжких, матом жжет по-римски.
Он любит дым избушки да луну
В сугроб сидящую, как колобок в сметане,
Гаданья дев, гармошку, старину
С котом и ведьмой в острове-Руяне.*
Наш бог гармоний любит лишь напев
Послушать баб у деревень славянских:
Полнощны вздохи томных русских дев,
Не вздор нимфеток в лаврах итальянских.
Сидит наш бог в урманах и тайгах,
Вполне за два столетья обрусевший.
Наш Аполлон в ялОвых сапогах
Сидит на лавке, с борща раздобревший.
Он ходит в баню. Неодетых нимф
Веселый рой готовит ему веник.
Мелькают перси … животы … и нимб…
Теперь он наш и барин, и помещик.
Помолодев, он щелкает игриво
Богиням голым, позабыв о лире, -
На коей пошло, однострунно и фальшиво
Постмодернисты воют в «Новом мире».
А после бани русский Аполлон,
Опохмеленный редькою и квасом,
Со мной сидит, в компьютер углублен,
Все литжурналы лая сиплым басом.
***
ПАТРИОТ
Забвенный рай отеческих лесов,
О тихий свет и милый детства кров
Как сына блудного прими меня из гроба
От Потомака толп и небоскребов!
Цивилизаций изгнан, пария -
Их городов, их фильмов для зверья.
Позолоченных в банках их царьков
Антихристов грядущих и божков
С всемирным богом – лаковой тележкой
Из ада в тартар на шоссе кромешных!
У хороводов звонких деревень
Прими, о лес, меня под кленов сень!
По бревнам, сединой посеребренным,
Избой меня встречает изумленно
Таежный край;
Как матери слеза
Бежит смола в озерные глаза.
Дом детских снов хлопочет, воздыхая,-
Нахохлил крышу и слезу скрывает.
На бреге рек морщинится в улыбке
Знакомый дуб, тайги посланник южный,
На глине желтой у откоса зыбкой
Приветно кашляет, не раз зимой простужен.
Хромой свидетель царской русской славы -
И лет последних всепозорища державы.
Все мне дивится: печь и чугунки,
Болтушки-куры вверх бегут с реки,
Половики, и ходики, и вещи.
Икона старая и та руками плещет!
И все соседство вторит на весь лес:
«Вот чудеса! Один хоть нам воскрес!»
В забвенья гулкой пустоте славянской
За мною ходят – все потаенно ждет
Какого чуда в нищете крестьянской.
Приезжему все свято смотрит в рот.
(Так область свято часто смотрит жарко
На палец указаний олигарха)
Я здесь брожу в задумчивости пылкой,
Мечтая край преобразить пустой
Для беженцев руины городской,
Глядя места у ржавой лесопилки…
Здесь будет дом стоять кирпичный, там изба,
А там – котельной новая труба!
Мечтайте, нищие!
Руинами села
Здесь промелькнет лишь тихой пыльной тишью
В полынях сонных полевою мышью,
Да в ночь прокычет лунная сова.
Ведь стаи евро трассою субсидий
Проходят вне крестьян пустой России!
Здесь ничего не будет!
Сколько лет
Уже тому я, пилигрим музейный,
Брожу один по ржам узкоколейным.
Все глухо, мертво!
Никого здесь нет!
Одни квакушки сирые в тумане
Сидят безвыездно - как истые славяне.
Сих патриотов очень я люблю!
Пусть патриотки в городах тоскуют
Про Русь свою грядущую святую –
С зарплатой в 40 тысяч по рублю!
В необозримых кладбищах с «Портвейном»
Лежит села вся Русская идея……
Все - денег ждет, работы и зарплаты
Не унижающей тысячетонным златом
Плывущим в бронированный вагон
Лишь новорусским в Лондон за кордон! –
Великой Блуднице финансовой всемирной,
Где Евро-Ефа в Русь плодит вампиров.
Русь патриотов без единыя души!
Нам патриоты русские кукуйте
Не проходя
по волчьей сей глуши,
По городам в квартирках злых тоскуйте
В Русь без села, царя, дворянской славы!
Крестьянством твердым лишь жива держава!
………………………………………………………
………………………………………………………
Густым туманом черным над Россией
Столетним злом раздавленных Бессильем
Здесь наблюдаю Иго русской жизни -
Душ вялых, робких из квартир прокислых
Москвы
на злой работе подле боссов.
Но - в кухнях громких обличать нероссов!
Они - виновники и Злу потать в угоду!
Квартирный вирус, горе русского народа
От Сахалина, Улан-Батора до Риги
Всего зарытого на кладбищах великих.
Они, по паспорту прописаны славянством,
Рабы вернейшие антихристова братства!
Им Путин бродит по пятам с опаской
За Абрамовичем, за русским Дерипаской…
Им над Кремлем все та же Пентаграмма
Горит ночами кровью как программа
Русь превратить в Хазарию славян –
В голодный Россиянский Бантустан.
С нерусским Игом вековым из мглы
Они в Москве – послушные ослы
В ярме нерусском в городах кромешных.
Свиней кровавых волокут в тележке
Рабы ТВ – всю Нехристь, Пуза, Власть!
Здесь быть Героем – воровать и красть!
По черепам ползти в инфернобратство
С демократическим двухпаспортным боярством
К нам набежавшим из кичливой Польши:
Сто лет Русь грабить больше, больше, больше!
Стада ослов пострусских гнать на Дыбу:
- Вперед, скоты, все русское вы быдло!
***
Все деньги мира, клады, терминалы,
Уолл-стрит, бутики, книжные развалы,
Универсамы, шубки, балы, геммы,
Джакузи, виллы, Рима диадемы,
(все, чем тузы привыкли так гордится);
Афин оливы, яркие кувшины
В Лесото, в Дели, погребки и вина
Столетних бочек, и благословенный
Крит, белый лайнер, также, несомненно,
Картины Гойи, также гобелены,
Мадонны Белый мрамор, Лувр и Прадо,
И клавикорды, копии Эрато;
Еще Венера Тициана, далее
Пулярка, рыбный рынок, и в Италии
Кафе над морем, трон Антуанетты,
Бассейн в Омане, статуи из Петры;
Лето
С салона в блеске ночеооко,
Зурны безумство грозного Востока,
Рудник из Чили с серебром,
Ворота Иштар в Ираке, зелень Туамоту,
И яркий домик Огненной Земли,
И Аполлона белый торс в пыли
Галактик дальних, пестрые лимоны
В ночном Марселе, солнце Арагоны,
Иль Гималаев снег,
И пробы слитков, фарфор Китая древнего, и скифов
Златые кони, Сотбис, и сиянье
Подводных див в Индийском океане,
Меха Сибири, дальше по реестру:
Вазоны роз и Вена из оркестров,
Брега Нормандии, клубничные деревья
В безумстве красок, и ковры кочевья,
Голконды перстни, райский отблеск скани
С арабской вязью кубки, ткани, ткани
С узором пестрым;
И Парижа ласки,
И ананас, сияющий в шампанском,
Мечты идиотов, рыбы-попугаи,
И махаоны в кимоно, и сари,
И канделябр Шаммурмаат,
Пузатый
Комод фламандский,
Синий, ноздреватый
Как лед весенний — драгоценный камень,
И Имя Бога, и причины знаний
В умах, что пыль сожрала тысячелетий,
И конец мира грешного — последний
Подробно день перед Вторым пришествьем
И сокровенный прочим — сумасшествьем
Грозит обычным людям (бог - земное)
Вещей и пыли, где Дао есть в окне
О нищем доме по глухой деревне,
Как гороскопы - судьбоверцам.
Древний
Закон Мохенджо-Даро…
Вне
Того ль сего привычного убогих,
Кто прозябает тут, где рай двуногих
Пока цветет —
Вот чем владеет только несравненный,
Вот чем владеет, в сущности, нетленно
Один поэт!
Когда не этом мире,
То в мире том, ином,
Водя по лире
Ленивой руцей — нищий, но любимый,
Богиней-Музой-девою хранимый.
Творцу ли жалко новые планеты
Создать всем тем, кто здесь — в душе поэты?
Ненапечатанным, не понятым, забытым,
Землей молчанья и стеной закрытым
Всеравнодушъя тех, кто здесь веками
Потеет,копит. Жир бежит ручьями.
Творцу не жалко новые планеты
Создать опять, богатые вещами
Разнообразными, что здесь в крови веками
Мещанство рыщет — и нисходит в Лету…….
------------------------------------------
Пургой уралы заметая
Почти по трубы низких крыш,
Отходит.
Звездами сияя,
Уже закатит.
Ты стоишь
У храма девственной природы
В лесной опушке.
Беззаботны,
Как дети младостью легки
Бежим у ледяной реки!
Вот вечер. Снег, в луну витая,
Залепит стекла; и блистая,
Под фонарем вьет пороша.
В тот вечер как ты хороша
Наедине, моя душа!
Притом цветами вышит рая
Простой халатик из Китая.
Ночник зеленый возжигая,
Встаешь на цыпочки легко,
Нагую ножку высоко
До икр холеных обнажая,
Ты вся горишь как тайна ночи.
Стоглазый сумрак смотрит в рощи,
Черезполосицы на берег,
Клубками катится на ерик
Реки великой, вмерзшей в сон
Каменноугольных времен.
И вновь деревни заметает
По слепоты. Кусты качает.
Качает сосны. Говоришь:
« В лесах нам нужен ли Париж?»
А в окнах девственной природы
Так воздух чист и свеж в лесах!
И проскользают в соболях
На лыжах древние народы.
А в вечерок под воскресенье,
Когда все розовым цветет,
Как хорошо вдвоем идти
С твоей пикантною зазнобой,
Где занесены все пути
Над очарованной чащобой.
Лесная, томная о Дева!
Собой ты гасишь самый свет,
И не дерзает чистый снег
Тягаться с нимфою нагою
Лесных озер и рек красою.
Под шубой зимнею в лесу,
Где див порой мы взглядом ищем,
Скрывать небесную красу
Нагого тела неприлично
Красотке леса; хоть до пят
Им шубы тело громоздят.
Но только солнышко проглянет,
Растопит тяжкие снега,
Как их в забвенье с крыш кидают
Два полупьяных мужика.
А после в ночь гудит по Каме
Всегда внезапный ледоход.
Вот гукнул первый теплоход.
С себя на радостях швыряет
Укромы зимние народ.
И леса вольные распевы
Под ветром тянутся в пути.
И хоть ты мир весь облети:
Нигде лесной прекрасней девы
На целом свете не найти!
***
РАЙ
Вот рай поэта в том местечке,
Где финский домик на горе,
Где грузный челн на лоне речки
Висит в цветастом сентябре.
Волной качает о кувшинки
Планету тонкая леса,
Со стрекозою в пелеринке
Дрожа в притихшие леса.
Там словно в сказке в магазине
В поселке маленьком совок
В руке Раисы в алюминий
Блистает в сахарный песок.
И там веселые бумажки
Пасутся стадом в портмоне –
Самоплодящиеся мошки.
Как в банке с чаем на окне.
Речной трамвайчик там украдкой
Уйдет, пустив усы рекой
По деревянные оградки
Зеленой пристани «Покой».
А на песке, к полудню жарком,
Смолой течет вверх дном баркас…
И стыдно там на иномарке
Катать у бочки желтой «Квас».
Там продавщица молодая
Под гулкий новый «Гастроном»
У бочки с маслом добивает
Плиту минтая топором.
С зеленым луком и сметаной
Салат из свежих помидор
Щербатой ложкой деревянной
Черпает царский дед Егор.
Он смотрит в солнышки «Стекляшки»,
Как с пивом славная чехонь
Сидит в лесочке с Чебурашкой,
Тяня крикастую гармонь.
В индийском платье крепдешина
Зазноба в синеньких туфлях
Летит, смеясь, у магазина
В автомобильных зеркалах.
А в вечер долгий и туманный
Внутри витрин себе блестят
Ванилью пахнущие страны
Фольгой в «Гвардейский» шоколад.
За гастрономом, за складами
Есть танцплощадка и баян,
Леса с пахучими цветами
С луной огромною полян.
Туда автобус большеглазый
Бетонкой ходит лишь один,
Там спят туманы дол как сказы
Трех деревень внизу долин.
Стрекочет грустный трансформатор
В затон с текучею звездой.
Там нет ни нищих, ни богатых
Сребролюбивою тоской.
Огнями кошки смотрят станций
У шпал по елочным долам.
И – никаких американцев,
Ни Голливуда, ни реклам.
Цепь огоньков рекой ночною
Зыбится в омуте речном,
И очарованый луною,
Храпит чуть слышно древний сом.
С понтонов держат небо звезды
И смотрит в берег хитрый язь.
И тихо ноты словно звезды
Поют «Карелию», кружась.
Роман Эсс https://stihi.ru/avtor/romaess
_________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Понедельник, 27.01.2025, 13:13 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Понедельник, 03.02.2025, 19:04 | Сообщение # 1574 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| В запущенной заснеженной стране,
где только сам мороз не замерзает,
в разводах льда звездой свечи в окне
сквозь зимы ожидание мерцает.
Взор из-за штор на белом полотне
двора меня как молнией срезает.
В запущенной заснеженной стране
есть слово "милый", слово как из рая.
Моё лицо застенчивости ром
зальёт волной пунцовою и тошной,
но, с Вашего согласья, осторожно,
едва касаясь кожицы пером,
я напишу Вам нежные стихи
на Вашем кротком, крохотном мизинце
иль на ожившем листике ольхи,
прожив минуту эту Вашим принцем.
На дивной шее чудный завиток,
весь золотящийся благословеньем,
я поцелую сна благоговейней,
и озарит нас блоковский цветок,
пылающий в есенинском портвейне!
***
Киркой затмений мир расколот,
вцепился в горло лету лёд,
и обезумевшие пчёлы
с полыни собирают мёд.
И, проступивший, как у пьяниц,
как на шеках больных в конце,
зари чахоточный румянец
горит у неба на лице.
Змеится в стёклах ртуть неона,
и под дикарский пляшет визг
стриптизный свет во мраке стона,
и лишь немного раз за жизнь
нам дарят умиротворенье,
когда стихают гвалт и лай,
просветы редких сновидений,
в которых нам блазнится рай,
где мы сквозь чащи роз и чая
идём, как вброд, на Божий глас,
всё то желанное встречая,
что в жизни миновало нас...
***
К спине туман подкрался воровато,
бездонный мрак открылся впереди;
как девственница посреди разврата,
душа застыла мира посреди.
К ногам припала сдёрнутая скатерть,
к очам приник кусающийся дым,
и прожитого пепел на закате
неверно отливает золотым.
И лес, кровавой харкая калиной,
обрубки рук возносит к небесам –
скорей бессильным, чем неумолимым
по части благ и людям, и лесам.
Вблизи часы споткнутся и собьются,
и в мерный стук вплетётся дробный стон;
непримиримые, пересекутся
на точке лжи апокриф и канон.
Весло вдали, как напоследок, хлюпнет,
но, всхлипнув, скажет гибнущий в гульбе,
что всё равно нас кто-нибудь полюбит,
успев живыми выделить в толпе.
***
ПОМУТИВШЕЙСЯ УКРАИНЕ
Нет без крови хохлацкой русских,
нет без русской крови хохлов.
Украина, я внук иркутский
украинских моих дедов.
Их Изюма и Белой Церкви
так пьянил меня аромат…
Что за ветер захлопнул дверки
в свет, что шёл от садов и хат?
Вся в цветах, в разноцветных лентах,
ты была или не была?
За позорные тридцать центов
ты себя и нас предала.
Неужели ты всё забыла –
как делили полынь и мёд?
Если ты Москву не любила,
значит, польский любила гнёт.
И на пальчики, значит, гниды
мы, Иваны сплошь дураки,
Новороссию и Тавриду
нанизали, как перстеньки.
И за стол мы пустили – чушку,
коли ноги ты нам на стол…
Вашингтонские печенюшки
отрыгнутся тебе в подол.
Ведь Европе и подлым Штатам
ты нужна не кралей с цветком,
а в трухе подстилкой для НАТО,
у виска России – стволом.
С тенью Гитлера наплодила
гарна дивчина гитлерят,
и с пиндосами сколотила
людоедский из них отряд.
Эти с геном бешенства твари
(а ты скажешь – нации цвет),
осквернённый Киев поджарив,
псами взяли к Одессе след.
И от нежности чуть не плача,
провожало их ЦРУ,
и на трупах себя с удачей
ты поздравила поутру…
Женщин жечь и с еле ходящих
ветеранов рвать ордена –
вы за это смолы кипящей
нахлебаетесь все сполна!
Ты марала вишней ладошки,
а теперь – в чём руки твои?!
С головы до пят, а не трошки,
ты теперь в славянской крови.
Дотекла та кровь из Одессы
и доплыл из Одессы дым
до Курил, и майданных бесов
проклинают Сибирь и Крым.
Всё дурней, всё чернее слава
на Донецк нацеливших рог.
Но, смеясь, понимает дьявол,
что последним смеётся Бог.
Обойти нельзя неизбежность,
стало ясно даже грибам,
что тебе твоя незалежность
оказалась не по зубам.
На единство, на шаг от ямы
были шансы. Теперь их нет.
Застрелись сигарой Обамы,
иль возьми у нас пистолет.
С пальцев, сжавших галицкий ножик,
перстень Крыма уже слетел;
Новороссии перстень тоже
для тебя, считай, отблестел.
Русский борщ нисколько не хуже
украинского, и обед
с ним прекрасен, прекрасен ужин
без полтавских твоих котлет.
Помутилась ты, Украина,
помутилась так, что сама
превращаешь себя в руину.
Славь Бандеру. Прощай, кума.
Прощевайте, Христя с Миколой,
и хоть к чёрту, хоть к Папе в Рим
с галичанской тикайте сворой,
а кто свой – вертайтесь к своим.
***
Родством так переплетены,
что не найти концов,
Русь с Украиной – две страны,
сестрёнок-близнецов
родней… К измене за трусы
из кружев ад сестру
склонил, и льнут геенны псы
к нацистскому костру.
Твоё предательство зашло
настолько далеко,
что наказать тебя за зло,
творимое легко
тобою против нас, пора,
как ни крути, пришла.
Мы предлагали мир, сестра,
а ты нам смерть несла.
За то, видать, что, несмотря
на всех твоих Мазеп,
Бандер, один с тобой куря
табак и честно хлеб
деля с тобою, как и глад,
всё лучшее тебе
клал в ноги русский «оккупант» –
во вред, в ущерб себе…
Тебя прощали восемь лет,
опомниться прося.
Ты, наших деточек в ответ
в песочницах казня,
вошла в кровавый раж, сестра.
Ты не сестра, а мразь!
Унять тебя пришла пора.
Уймём, благословясь.
***
Краснеют буквы в объявленье,
где есть пикантная строка:
верните за вознагражденье
любви быка.
Да, жизнь не выдалась хорошей.
Не дотянуть ей (выпит яд)
от неприглядных оргий кошек
до умилительных котят.
Хоть к смерти дню, коль дней рожденья
черна всё время полоса,
верните за вознагражденье
надежды пса.
***
Звезда, висевшая над крышей,
взыграла яркостью двойною
и как бы опустилась ниже,
придя, как понял я, за мною.
В лучах сиянья золотого
стоял я, сладостно встревожен;
душа взлететь была готова,
но путь наверх был загорожен.
Пробился шёпот Мирозданья
сквозь шелест бархатной сирени:
- Не все ты выполнил заданья,
тебе т у д а ещё не время.
***
РОССИЯ
Разросшейся в Царство от корня Москвы
по звёздной, земной ли причуде,
тебе не сносить бы в веках головы,
когда быне русские люди,
что, духом и телом в тех самых веках
сминая захватчиков орды,
не раз выносили тебя на руках
почти из обители мёртвых.
Покрытая тайной, ты кроме неё
снегами подолгу покрыта.
Загадочно доброе сердце твоё
на пару с душой знаменитой.
Лишь ты сохранишь человеческий род.
Страна за страной, прозревая,
запросятся скоро к тебе в хоровод,
на свет над тобой уповая.
И близко совсем, а не где-то вдали,
по имени названной Богом,
тобою спасутся народы земли,
раскаявшись вместе во многом.
***
На древний снег у зябнущей ольхи
кровавым сгустком сплюнул я стихи.
Но на стихи, тем более на кровь
вокруг ничья не шевельнулась бровь.
Ночь. Я один. Округа с храпом спит,
залив в себя свой ежедневный спирт,
который в людях заглушает страх,
бродящий здесь в скрипучих сапогах.
Но, впрочем, он бывает и босой,
что не спасает от карги с косой.
Кому, зачем, и что я здесь ору?
Опохмелюсь я тоже поутру,
поскольку завтра будет вдруг война
иль вообще не будет ни хрена!
Давным-давно известно на Руси,
что не вокруг невидимой оси -
вокруг осины вертится Земля:
коль шея есть, найдётся и петля.
***
Прощай, поэзия! Прощай, перо, бумага!
Всё, что хотел и мог, я, в общем, написал.
В стихосложении немалую отвагу
я проявил. И вот я всё сказал.
Я всё сказал. Не стоит повторяться.
Поэтому я более стихов
писать не стану. Жаль, нельзя обняться
прощально с Музой среди белых облаков.
Моё литературное наследство
останется таким, какое есть
на нынешнее время. Ну, а вместо
писания я буду спать и есть.
Прощай, поэзия! Прощай, перо, бумага!
Сии стихи — расписка, что поэт
спуск произвёл лирического флага
в год двадцать третий третьей тыщи лет.
***
Мой читатель дорогой
(может быть, вас даже двое),
припади к земле щекой —
здесь двойник твой упокоен.
Могший этот мир воспеть,
с миром так я не поладил,
что всю жизнь мою на смерть —
на стихи про смерть — потратил.
Исполненья детских слов
не дождавшись в мирозданье,
я при помощи стихов
упражнялся в умиранье.
Различались вирши те
меж собой, как сор и мусор,
и могли прийтись по вкусу
лишь первичной темноте.
Нарифмованное мной,
как наполненная урна,
не имеет никакой
ценности литературной.
То, что сталь сильней, чем кость,
дальним ведомо и ближним.
Зла торчит огромный гвоздь
в тверди, созданной Всевышним.
Мой читатель, тень моя,
на погосте все похожи:
ты, как ныне счастлив я,
завтра счастлив будешь тоже.
***
Когда я в мире оборвусь,
струною лопну пресловутой,
простоволосой, необутой
не побежит за гробом Русь.
Звезда на холм не упадёт
для не стихающих стенаний,
и обо мне упоминаний
нигде потомок не найдёт.
На мной заплаканном песке
меня забудут незабудки,
и пёс, тревожно спящий в будке,
не вспомнит хлеб в моей руке.
Как забывают жар костра
им порождаемые искры,
мои стихи забудут быстро
их породившие уста.
И только женщина одна,
чьи очи списаны с иконы,
под ветровые перезвоны
меня припомнит иногда.
***
Прости меня, Господь,
за всё, в чём был не прав.
Отправь меня в расход,
но душу не отправь.
Непостижим ты для
ума земных людей,
но держится Земля
лишь на Любви Твоей.
Мой срок истёк уже,
но просьба есть одна:
шепни моей душе,
что не умрёт она.
Что упорхнёт туда,
где вечная краса,
и меньше слёз тогда
прольют мои глаза.
Змиевский Анатолий Борисович (1959 – 2024)
_______________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 08.02.2025, 20:50 | Сообщение # 1575 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3577
Статус: Offline
| С тобой напишем после запятой
В листве берёзы больше желтизны,
в осенних днях немного новизны,
дожди с утра вечерний сумрак ткут
и цену поднимают на уют.
Поплачься, только в память не неси
больной румянец на щеках осин,
свои печали, голой ветки дрожь,
цветок увядший и чужую ложь.
Когда грустишь со мной поговори,
как капли солнца цедят фонари
и как красив на вид со всех сторон,
отлитый октябрём из бронзы клён.
Дорожки стелет палая листва,
со временем всё станет на места...
с тобой напишем после запятой -
не осень жизни, возраст золотой.
Мы - две паутинки в осеннем саду
Сложились недели - и август прогнал
нас снова на те же круги,
и жёлтые ветки - последний загар -
на плечи берёзы легли.
А листья на крик журавлиный спешат,
взлетают и падают ниц,
потянется в небо и вспомнит душа -
она из зимующих птиц.
Поплачься - сегодня с судьбой не в ладу,
молчанием нас не трави,
мы - две паутинки в осеннем саду -
спасёмся на ветке любви.
Морщинки печали и наши лета
про чувства угасшие лгут...
монетку луны на удачу ветла
бросает в темнеющий пруд.
И осень нас окрестит берёзовой листвой
Пришли дожди-скитальцы,
за ними вслед ветра,
а в сквере листьев танцы
с заката до утра.
Осталась зелень сосен,
один виток дорог,
сегодня наша осень
шагнула на порог.
И как судьбу не мерьте,
счастливый - кто влюблён,
а в жёлтой круговерти
грустит багряный клён.
Не верь, что спеты песни,
что серый день - пустой...
и осень нас окрестит
берёзовой листвой.
Ветка беременна тяжестью яблок
Вечно спешили, а поняли поздно,
что проглядели уже не отыщем,
дождик, склевавший вечерние звёзды,
тихо ушёл по ступенчатым крышам.
Память назойливо в прошлое гонит,
вспомнишь - менялись со временем вкусы,
падают в травы с кленовой ладони
ниткой разорванной капелек бусы.
На двойника из зеркальности лужи
смотрит фонарь немигающим взглядом,
многое было, бывало и хуже,
главное - мы неразлучны и рядом.
Утром ненастным прохладно и зябко,
пледом укрою, смеёшься - согрелась...
ветка беременна тяжестью яблок,
в осень с улыбкой - душевная зрелость.
Сусальным золотом берёзы покрыли мокрые аллеи
За улетевшими стрижами
на тёплый юг собрались гуси,
и дождь в осенние скрижали
вписал строку о нашей грусти.
Вставляет утро в рамки окон
свои неброские пейзажи,
печали разошлись по строкам,
надежды остаются блажью.
А журавли, срывая голос,
опять наобещают встречи,
лучом закатным гладиолус
осветит бесконечный вечер.
Мы, как несрезанные розы,
роняя лепестки, сомлели...
сусальным золотом берёзы
покрыли мокрые аллеи.
Золотые дары прячут в мокрых подолах берёзы
Вечерами дожди подметают дворы,
на газонах осыпались розы,
ожидая сентябрь, золотые дары
прячут в мокрых подолах берёзы.
Покраснела рябина - у всех на виду,
уходя, не прощается август,
а падучие звёзды в притихшем саду
воскрешают пушистые астры.
Что не буду скучать, улыбаясь, совру
и судьбы пожелаю счастливой,
и закатится лето в сырую траву
перезрелой несорванной сливой.
Но затейливым фразам не верит душа
и не хочет с разлукой смириться...
а калина рубин драгоценный в ушах
прикрывает косынкой из ситца.
Лист ивы золотой ладьёй плывёт в туманы октября
Соткут дожди из летних гроз
и грусть, и черноту ночей,
и август на ветвях берёз
затеплит язычки свечей.
Судьба не взята напрокат,
и у слезы знакомый вкус,
зарю июля и закат
рябина вдела в нитку бус.
А бабье лето повернёт
спешащий календарь назад,
и солнце свой тягучий мёд
прольёт на яблоневый сад.
Что потеряем, что найдём,
по вечерам гадаешь зря...
лист ивы золотой ладьёй
плывёт в туманы октября.
А рябины уже нарумянили лица
Постучали дожди, разбудили - не спится,
растревожили память не зря,
а рябины уже нарумянили лица,
ожидая приход сентября.
На губах у калины и мякоть рассвета,
и блестящие капельки слёз,
и считая часы уходящего лета,
лепестки осыпаются роз.
На душе хорошо - и погода не в тягость,
и привычный порядок вещей,
я пойду провожать до околицы август
и боярышник в красном плаще.
Улетят журавли, повинуясь природе,
не печалью в тебе прорасту...
по берёзовой рощице осень приходит,
желтизной помечая листву.
Официальный Форум С.Лукьяненко → Наше творчество → Стихи
Валерий Мазманян https://forum.lukianenko.ru/index.p....c=12681
***
"Не в сказке сказать"
1
- И едва разрешившись от бремени, добрая королева умерла. Безутешный король взял на руки дитё, которое было так прекрасно... и немножко асфиксично... так что за белый цвет кожи получило имя Белоснеж... Чего?
- Глупое Зеркало! Не чего, а нечто! Это мальчик! У меня есть наследник, возрадуемся же! Траур по королеве сократить, объявить торжества!
- Но ваше величество... А как же злая мачеха?
- Да какая мачеха, кусок посеребренного стекла! Мне шестьдесят три года, в наш средние века - возраст более чем почтенный! Брак мне нужен был лишь ради наследника, а так... при обилии фрейлин во дворе и дичи в лесу - зачем мне снова жениться?
- О, ваше величество... законы сказок суровы! Я боюсь, что...
- А ты не бойся! Объявить народу радостную весть - родился принц Белоснеж!
2
- Мамулечка?
- Белоснеж, не называй меня так... и таким тоном. Ты же знаешь, что я твоя мачеха.
- Хорошо, злая мачеха.
- Белоснеж! Ну чем я тебя обидела, а? С пяти лет воспитывала. Когда с коня упал - у кроватки сидела. Арифметику помогала делать!
- Все равно ты злая мачеха. Ты завидуешь моей красе.
- Белоснеж, ты милый юноша. Но с чего мне завидовать парню?
- А... я понял! Ты хочешь отравить моего доброго наивного отца и жениться на мне!
- Что... что ты несешь! Во-первых, не жениться, а выйти замуж! А во-вторых... ты сопляк! Тебе пятнадцать, а мне двадцать пять!
- А говоришь всем, что двадцать.
- Мало ли чего я говорила? Посчитай сам, балбес. Да и зачем ты мне?
- Чтобы сохранить власть после смерти отца. Ему уж скоро восемьдесят.
- Хотела бы власть - давно бы отравила и тебя, и отца! Я твоего старика люблю, а после его смерти уйду в монастырь, его уже строят по моему приказу! А ты правь сколько хочешь. Меня все равно ваша знать не любит. Я же простая златошвейка, окрутившая короля.
- Нет-нет, злая мачеха. Законы сказки неизбежны.
- Выбросил бы ты эту дурь из головы, Белоснеж. Пойди, соблазни фрейлину? На охоту съезди...
- Чтобы меня на охоте застрелили по твоему приказу и сердце вырезали? Понятно. Да, я поеду! Чтобы ты упивалась своей злобой!
хлопает дверь
- Господи, что ж это такое с мальчиками творится в этом возрасте? Куда они мозги девают...
- Пубертат, злая мачеха...
- Хоть бы ты, Зеркало, не глумилось, а?
- Ну разбей меня. Разбей за то, что я верю в сказки!
стук каблучков и звуки рыданий
3
- Как темно и мрачно вокруг...
- Это ельник, принц Белоснеж. Тут всегда так.
- Как тихо и пустынно.
- Ваше высочество, вы сами ускакали от охоты! Я гнался за вами три часа!
- Чтобы убить меня и вырезать сердце, Охотник?
- Что вы такое говорите, свят-свят-свят... Я никогда не убивал людей!
- Так не убивай же и меня!
- Я и не собираюсь, ваше высочество!
- Убей оленя, вырежь ему сердце и отнеси Злой Мачехе! Скажи, что это моё!
- Да она меня на костре сожжет, на кусочки порежет!
- О не трогай меня, не преследуй...
стук копыт, ржание коня
- Совсем рехнулся Белоснеж... что делать-то, что делать... Убью-ка я оленя. Вырежу ему сердце. И скажу, что Белоснежа растерзали... дикие олени. У них был гон, а юноша был так прекрасен... Может и прокатит? Если еще это Зеркало поддержит...
4
- А!!! Кто вы?
- Мы семь гномов. А ты-то кто?
- Я... простите, что уснул в вашем доме. Я принц Белоснеж. Заметьте - принц, а не принцесса!
- Да нам без разницы.
- Что??? О, Боже!
- Ты не понял, принц. Нам без разницы в другом смысле. Может у людей ты и красавец, но с точки зрения гнома - тощий бледный безволосый уродец. Ты же не думаешь, что человеческие стандарты красоты годятся для других видов?
- Э... как-то мне всё равно стрёмно.
- И между прочим мы все - женщины.
- Чего?
- Женщины-гномы. Артель "Свободная женщина подгорья". Мы все молодые свободолюбивые гномихи, ушли из семей, сами добываем алмазы, бриллианты, рубины.
- Всё в одном месте?
- Ну как-то так получилось. Кимберлитовая трубка пролегла через углисто-карбонатный сланец, перемежающийся метаморфизированным кристаллическим известняком.
- Ничего себе! Это же уникальное открытие, оно меняет весь наш взгляд на геологию!
- Паренек, да ты шаришь! Ещё бы подсказал, куда сбывать добытое.
- Ну я между прочим принц, богатых знакомых у меня как грязи... А как вступить в вашу артель?
5
- Папа, ты прекрасно выглядишь для своих лет. Мама, здравствуйте. Простите за бегство из дома, за дурные слова.
- Белоснеж? Сынок, ты жив! И... отрастил бороду... и живот...
- У нас так принято. В нашей горнорудной компании "Свободные женщины и мужчины подгорья и нагорья".
- Ох. Я понимаю, что королевство вам задолжало...
- Ну что ты, папа. Вы можете войти в нашу компанию и погасить долг. Есть несколько интересных мест... только вот тут придётся срыть монастырь, но его ещё не достроили.
- А куда мне уходить после смерти твоего папеньки?
- Мама, ну зачем уходить? Мы хотим развивать златошвейный бизнес и производство украшений. Возглавишь это направление.
- А ты... не станешь требовать выйти за тебя замуж?
- Мама! Я женат! Вот моя супруга, Людла.
- Можно просто - Люда.
- Голова идёт кругом, сынок... Зеркало! Глупое старое Зеркало, что ты скажешь на это?
- Ваше величество, я думаю, что законы сказки - это просто фигня. Не надо давить на детей старыми правилами. Надо позволять им самим искать своё место в жизни и добиваться всего своими путями. Ну и, конечно, снисходительно относиться к маленьким дерзостям.
глубокий вздох
- Да... пожалуй. Так что же, мы зря повесили Охотника за убийство принца Белоснежа?
- Видимо да, ваше величество. Но некоторые законы сказки, увы, существуют и в реальной жизни.
Sergey Lukyanenko https://lukianenko.ru/%d0%bd%....2%d1%88
____________________________________
|
| |
| |
/> |