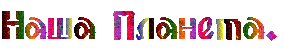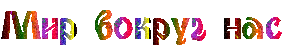|
Мир поэзии
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 14.02.2025, 13:23 | Сообщение # 1576 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Когда один я остаюсь
И за полночь пишу, читаю,
Иль праздно в думы погружусь
И о тебе, мой друг, мечтаю —
Средь тишины, как смерть, немой
Вдруг шелест в спальне пронесется —
Невольно взор потуплен мой,
И сердце трепетное бьется.
Кто там? Грядущий ли недуг?
Предтеча горя? Тень родная?
Зовет усопший брат и друг?
Иль совесть плачет, сна не зная?
1888, Иероним Ясинский
Лейкин
Однажды в конце 70-х годов я зашел в магазин готового платья в Гостином дворе. Приказчик стал бросать на прилавок пиджаки, чтобы я выбрал.
— Тут мокро, — сказал я, — вы испачкаете товар.
— Не очень мокро-с, — отвечал приказчик с улыбкой, — сладкий кружочек от стакана чая. Это господин Лейкин изволили пить чай, так мы из уважения к их посещению не стираем. Уже обсохло! — и он провел рукой по кружку.
— Что же такое уважение к Лейкину? А я, правду сказать, не читал еще этого писателя.
— Как можно; вы извольте прочитать, очень смешно и убедительно пишет, положительно поднял «Петербургскую газету»; без него какая это была газета; в руки нельзя было брать, больше взятками промышляли. Бывало, придет сотрудник и норовит продернуть магазин; по лицу уже видишь, что замышляет; и дашь трешницу — отступись только. А как господин Лейкин вступили в газету, об этом что-то больше не слыхать стало. Сотрудники не нуждаются, есть чем платить. Лейкин больше апраксинцев изображают; все очень верно подмечают и, прямо сказать, цивилизации служат. Прогрессивный писатель, на каламбурном амплуа собаку съели, первоклассный сатирик, смело можно аттестовать.
— Помилуйте, вроде Щедрина?
— Не слыхали-с; с нас господина Лейкина достаточно. Каждый день читаем только господина Лейкина.
Я все-таки долго не принимался за Лейкина. В старых «Отечественных записках» была напечатана его повесть из купеческого быта, я потом вспомнил, под названием «Христова невеста». Автором был описан купеческий предсвадебный пир, мальчишник и девичник в банях. От описания этого веяло какой-то древней, почти языческой обрядностью, какими-то российскими сатурналиями.
Может быть, из Лейкина выработался бы более серьезный писатель с бытовыми красками; но писать для журналов было невыгодно, и Лейкин, обладавший коммерческим умом, предпочел ежедневный газетный фельетон в такой газете, которая могла быть распространена при его содействии в среде, из которой он сам происходил.
Он был мешанин. Семья его была мелкобуржуазная, все его интересы высоко не поднимались; хотелось ему иметь свой домик, своих собачек, послеобеденный отдых, свой квас после трехчасового предвечернего сна и свою боготворящую его публику. Всего этого он достиг.
Фельетоны его в «Петербургской газете», в которую я наконец стал заглядывать, проникнуты были действительно иногда смехонадрывательным комизмом. Такие выражения, как «мое почтение с кисточкой», «вот тебе и фунт изюма» и тому подобные, были введены им в употребление, и если он выдвигал мошенника, то называл его «профессором». «Что-нибудь созорничать — на это он первый профессор». Иные называли его юмористом, но юмора у него не было. Чтобы быть юмористом, надо быть глубоким человеком. Комизм и юмор — огромная разница. В сатире — страдание за человека, и гнев, и негодование на него и на обстоятельства, доведшие его до безобразия, до черного порока, до потери образа человеческого, до бездарной пошлости. А Лейкин старался только насмешить, и от этого безобидно было для гостинодворцев и апраксинцев его «каламбурное амплуа».
С Лейкиным я познакомился следующим образом: в юмористическом журнале «Осколки», который стал издавать Лейкин, не прерывая своего сотрудничества в «Петербургской газете», участвовал Чехов 663 под псевдонимом Чехонте, как и в других юмористических изданьицах. Когда Чехов прославился и загремел, в «Петербургской газете» появилась карикатура: какая-то декадентская прожорливая птица схватила лапами меня и Чехова и куда-то тащит 664. Было это намеком на наши повести, появившиеся одновременно и показавшиеся карикатуристу изменою классическому стилю.
Тогда же в «Осколках» во всю страницу был изображен я с подлинным моим лицом, но с туловищем карлика. Я стою в редакции перед редактором, похожим на Лейкина, и предлагаю ему кипу рукописей. Под цветным рисунком этим было подписано: «Числом поболее, ценою подешевле».
Обе эти карикатуры были безобидны, но Виктор Бибиков рассердился и обиделся и, встретив на пароходе Лейкина, схватил его за плечи в припадке бешенства, вдруг охватившего его, и, по его словам, хотел выбросить несчастного комического новеллиста за борт, да Лейкин оказался грузным. При этом Бибиков кричал: «Как ты смеешь, свинья, оскорблять великих писателей!»
Скандал был большой. Публика отняла Лейкина, который, как и Бибиков, впал тут же в истерику.
Об этом происшествии сам же раззвонил по городу Бибиков, полагая, что он совершил подвиг, подсказанный ему чувством дружбы. Я обеспокоился, опасаясь, что Лейкин, да и другие могли увидеть в этом мою руку, так как Бибикова можно было подбить на что угодно, ввиду некоторой безумной складки его характера, и отправился к Лейкину принести извинения за дурака, выкинувшего такую бестактную и нелепую штуку.
Лейкин немедленно принял мои извинения, сказал, что он уже давно успокоился и не сомневался в том, что тут не было ни малейшей моей инициативы, и, провожая меня в переднюю, потребовал, чтобы я непременно дал ему какой-нибудь рассказ.
Я обещал и теперь не помню, дал ли я какие-нибудь строки в «Осколки». Если же дал, то, вероятно, под псевдонимом стишки «злодейские».
Через некоторое время я услышал однажды, что в другой комнате моей квартиры кто-то шагает полуторным шагом: Лейкин был хром на одну ногу. Он явился с визитом и с приглашением к нему на обед. При этом он выложил мне на стол большую стопку книг в разнообразных обложках.
— Я привез вам мои сочинения с просьбой непременно прочитать. Я, что ни говорите, маленький Щедрин.
Я ему рассказал, где я в первый раз услыхал о нем и где о существовании Щедрина и не подозревают.
— Ну, вот видите, — с убеждением сказал Лейкин, — надо меня прочитать. Чехов на мне научился писать свои рассказы. Если бы не было Лейкина, не было бы Чехова.
Он сидел и как-то жевал губами, как бы предаваясь мечте. На нем было пальто, а из-под пальто виднелись штаны с красными лампасами.
— Какой это на вас костюм, Николай Александрович, — удивился я, — генеральские штаны?
— Как вам сказать, вроде генеральских. Ношу по обязанности службы. Я церковный староста в церкви Казачьего полка, так это казацкая форма. У меня и медаль на шее на ленте есть. Нельзя без общественных отношений существовать, скучно было бы.
— Так что вы в церкви каждый праздник бываете?
— Ни одной службы не пропускаю, — с мрачной радостью объявил Лейкин. — Мы — юмористы — народ серьезный. Не забудьте приехать ко мне, мы ожидать будем. Жена заведение содержит, и девочек хорошеньких увидите.
— Как девочек, Николай Александрович?
— Да, так приятнее обедать, когда девочки хорошенькие служат. Крепостных теперь нет, да если бы и было крепостное право, с моим мещанским званием не пользовался бы. Когда бы еще я дворянства добился, а тут белошвейное заведение, во всех отношениях большая выгода. Жена помогает мужу, так что женское равноправие соблюдено. У нас традиция шестидесятых годов.
При встрече с Чеховым я рассказал ему, какое комическое впечатление произвело на меня знакомство с Лейкиным. Чехов сказал:
— А что вы думаете, я действительно ему кое-чем обязан. Я никак не могу отделаться иногда от его влияния, а «каламбурное амплуа», которое вы подцепили в Гостином дворе, — прелесть что такое. У каждого из нас есть какое-нибудь «амплуа». Вот и в моем покинутом псевдониме Чехонте, хотя он придуман был независимо от Лейкина, есть какой-то апраксинский запах, не правда ли?
С тех пор Лейкин состоял со мною, что называется, в дружеских отношениях. Я не был у него на обеде, на который он меня приглашал, но в день своего тезоименитства 667, как он выражался, он сам всегда приезжал за мною и вез к себе.
— У меня ведь вы покушаете, как нигде, — уговаривал он меня, — как только войдете в мой кабинет (теперь вновь отделан) — в мой дом, сразу увидите, что я человек шестидесятых годов.
В самом деле вся стена его кабинета была завешана портретами Слепцова, Суворина, Добролюбова, Чернышевского, Буренина, Тургенева, Успенского и проч.
— Завтра повешу ваш, — сказал он, — потому что получил наконец с автографом. Одного только Достоевского нет. Обратился я как-то к нему: дайте, Федор Михайлович, вашу карточку, а он как зыкнет на меня: «А для какой надобности вам моя карточка; что я вам и что вы мне?» Тут я сразу увидел, что ненормальный субъект, и решил обойтись без него. Пожалуйте в гостиную, там уже кое-кто собрамши, а в кабинет я не всякого пускаю, конюшня, да не для всякого жеребца.
В гостиной я встретил, можно сказать, всех персонажей его комических рассказов. Над диваном висел портрет его и жены. Оба они держали руки так, чтобы видны были перстни, которые художник изобразил добросовестно. Помнится, были и архиерейские портреты.
Персонажи были гостинодворские, как оказалось, родственники его и жены его, солидные купцы и приказчики с подхалимовским выражением лица. Одни важничали, другие старались быть «прогрессивными» и шаркали ножкой, когда знакомились, сладко засматривая в глаза. Дамы были солидные с открытыми плечами. Жена Лейкина была тоже полная, представительная дама в больших серьгах.
Конечно, была «собрамши» не подлинная аристократия Гостиного двора, а промежуточный слой, с которым водил хлеб-соль Лейкин. Но появились вскоре один за другим и литераторы: Владимир Тихонов. Щеглов-Леонтьев, Назарьева, Дубровина, блеснул Чехов.
Подошел ко мне Лейкин и угрюмо прошептал:
— Подоспело порядочно народу, а то я боялся, что рыбу некому будет есть. Не всякому подашь такое блюдо двухаршинное, не в коня был бы корм, если бы не ваша братия. Вот, жаль, Федоров не пришел.
Федоров был официальным редактором «Нового времени», известный когда-то водевилист. Он был большим едоком и так же сложен, как Лейкин, и так же хромал, только на другую ногу. Его прозвали комодом без одной ножки. Но, к величайшей радости Лейкина, явился, когда уже стали садиться за стол, и Федоров.
Двухаршинную стерлядь Лейкин сам разносил гостям и без милосердия накладывал кусок за куском на тарелку.
— Кушайте и помните, — говорил он, — где же так и покушать, как не у меня! Будете роман писать, опишите мой обед. Нарочно повара приглашал и целый день с ним советовался.
Девочки в белых пелеринках мелькали по столовой, убирая и переменяя тарелки, разливая вина, подавая кушанья.
— А, не правда ли, есть хорошенькие? — угрюмо спрашивал Лейкин. — Из них толк выйдет, жена в строгости держит. Нив одной белошвейной не найдешь таких хорошеньких, — продолжал рекомендовать он.
Девочки действительно были розовые, раскормленные и опрятно одетые.
— Мы не угнетаем, — сидя около меня, говорил Лейкин, — эксплуатации не полагается у меня ни-ни. Кончают ученье и уходить не хотят. Весь нижний этаж скоро займет мастерская.
После обеда были устроены танцы. Какой-то гостинодворский кавалер дирижировал и кричал: «Плясодам! Кавалеры проходите сквозь дам!» И еще что-то из «каламбурного амплуа».
Заметив, что я улыбаюсь, разговаривая с Чеховым, Лейкин подошел, прихрамывая, и сказал:
— Мои натурщики. Что ни говорите, а я настоящий натуралист. Я ничего не выдумываю. Природа богаче писателя. Щедрою рукой сыплет она и не такие еще выражения; только подслушивай да записывай.
Как-то я сидел одиноко у себя под Новый год. Приезжает ко мне Минский с женою, Юлией Безродною, оба принаряжены. Минский и говорит:
— Мы приехали за тобою к Лейкину встречать Новый год. Он непременно требует, чтобы и ты приехал, а отдельно заехать к тебе у него не было времени. Поедем, веселее будет вместе.
Приехали мы на Большую Дворянскую. Дом Лейкина был ярко освещен. Гости только что уселись за стол. Угрюмое лицо Лейкина даже расплылось в подобие улыбки.
— Ну, вот, наконец-то. У меня под ложечкой даже засосало, нет и нет вас. Чехов тоже не приехал, Баранцевич изменил. Не угодно ли взглянуть, места ваши никем не заняты.
От этого новогоднего ужина у меня осталось несколько комических штрихов.
Юлия Безродная чересчур насмешливо посматривала и знакомилась с обществом Лейкина. Ее смешили наряды дам, их вульгарные лица и развязность. Они хлопали рюмку за рюмкой вино и даже водку, как мужчины.
Сидевшая со мною рядом купчиха взяла на себя заботу угощать меня.
— Что вы так мало кушаете? — говорила она мне. — Наверное, вы наелись раньше. Как посмотришь на вас, сразу думаешь: ну, обжора, не откажется от хорошего кусочка; а между тем вы как барышня. Вот, позвольте предложить вам; вот еще; вот это. Скажите, что вы обожаете — гуся или утку? Нет, не желаете, к рябчику склонность почувствовали? Позвольте и рябчика вам положить. А что, как вы думаете, хватит рябчиков на всю публику? — вдруг заинтересовалась она. — Сколько нас за столом? Вы говорите восемнадцать человек? Ах, какой вы профессор умножения!
Мало-помалу Лейкин становился популярнее, богаче. Жена его, кажется, даже упразднила белошвейную, найдя для себя неприличным больше содержать ее. От генеральских штанов он не отказывался. Встретивши меня на Невском, Лейкин остановил извозчика, перешел на панель и рассказал мне, что едет к великому князю Алексею Александровичу и уже получил от него бриллиантовый перстень.
— Бриллианты дешевые, желтые, но дороги не бриллианты, а внимание. Он пригласил меня, и сейчас еду к нему читать по утрам мои рассказы. Он находит, что я недурной рассказчик. Я действительно со сцены могу рассказывать, не только в кабинете у такой особы. Мне вот хотелось бы через него к царю проникнуть. Он наше русское направление любит, а я хоть и маленький Щедрин, но русский с ног до головы. Да, жаль, сейчас, — сообщил он, понизив голос до шепота, — говорят, запил. Ведь вот что значит, русская-то душа в нем сидит — требует!
Больше с Лейкиным я не видался.
Ясинский И.И. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. Том I. М., 2010, с. 346-352.
______________________________________________________________________
***
По ветхому плетню змеится повилика
И лапчатый цепляющийся хмель.
С горохом пестрым жердь склонилася, как пика
И темный хвощ качается, как ель.
Пурпурно-красных мальв семья цветет в сторонке,
Подсолнечник глядит на огород.
Внизу, в тени, арбуз, как нить, свои усик тонкий
Вокруг стеблей глухой крапивы вьет.
Здесь овощи с травой презренною в союзе —
Здесь нет войны и не было давно.
Как меч, пылится лист на стройной кукурузе,
Скрывающей, как перл, свое зерно.
Когда роса, дымясь, встает над огородом,
И заревом осветится восток —
Мне чудится, что полн таинственным народом
Заброшенный цветущий уголок.
Перед окном моим вчера всю ночь толпились
Немые тени с тихою тоской.
Здесь духи мирные, быть может, поселились
И стерегут мой сон и мой покой.
1888, Иероним Ясинский
Дневник купеческой дочки
Очень скучно, а потому купила за пятиалтынный книжку и буду писать свой дневник. Прежде всего опишу, как я живу. Встаю в десятом часу, пью чашки три кофею и ем московскую сайку, а иногда и две; потом завтрак, потом обед; между обедом и завтраком пьем чай, а после обеда кофей; в восемь часов вечера опять чай, а там, как папенька придет из лавки, ужин и ко сну…
Перед обедом и перед ужином едим с маменькой клюкву, кедровые орехи, подсолнечныя зерна, мятные пряники, моченые яблоки или что-нибудь в этом роде. Я так привыкла что-нибудь жевать, что когда бываю в церкви и жевать нельзя, то, даже, слюна бьёт; а всё оттого, что скучно. Впрочем, и в церкви ем просвирку. Маменька и то говорит: «жуй, жуй, дура, пока ещё замуж не вышла, а там Бог знает какой ещё муж попадётся; может и запретит целый день жевать-то». Мне девятнадцатый год, а меня уже смотрели больше чем двадцать женихов, но всё расходилось, дело из-за папенькиной скаредности, или женихи были для меня слишком низки. Сначала было стыдно показываться женихам, а потом ничего. Что-ж, за кого-нибудь ведь надо-же выдти замуж. Записала-бы фамилии моих женихов, да забыла их, а иных не знала как и зовут. Кому-то я достанусь?
Гадала и на «Царе Соломоне» и на воде — всё выходит Василий, только ведь Васильев много.
* * * Сегодня по Лиговке мимо наших окон провезли четырнадцать покойников. За одними купеческими похоронами ехало тридцать три кареты. К завтраку пришла сваха Антиповна и сватала мне жениха из актёров, но маменька сказала, что уже тогда лучше выдать за становаго. Целый день скучала, потому что не могу много есть, так как нечаянно прикусила себе язык и он очень болит. В молодцовской комнате нашла книжку, но без начала и как её название — не знаю. Пробовала читать, но скучно. Как начну читать, так ко сну и заклонит. А ведь прежде любила читать, но папенька с маменькой всё ругались за это, а я и отвыкла. Вечером была с кухаркой у всенощной. В церкви стояло много солдат. Один из них был очень хорошенький и совсем с офицерским лицом, а ведь солдаты из простых мужиков.
* * * Сегодня целый день спала, а вечером была в бане и слышала от бабки, что наша соседка вдова Самострелова связалась со своим кучером. Вечером папенька пришёл из лавки пьяный и ругал маменьку разными скверными словами, а меня назвал кобылой. За ужином до того наелась, что еле вышла из-за стола.
* * * Ко мне сватается мусорщик и будет смотреть меня в Воскресенье в Прикащичьем клубе, для чего мне шьют новое платье. Папенька говорит, что мусорщик этот очень богатый купец, так как недавно выгодно обанкрутился, но крив на правый глаз. Маменька сказала, что нам с лица не воду пить. Сегодня наш прикащик Николай подарил мне шеколаднаго Наполеона и я его съела после ужина. Вечером он встретил меня в корридоре и вздохнул. «О чём, говорю, ты вздыхаешь?» «Об вас», говорит. А он очень не дурн собой, но жаль, что прикащик.
* * * Сегодня, поутру, мимо нас везли на кладбище генерала с музыкой, но я проспала. Такая досада! Ничего хорошаго не видишь. Ходила с маменькой за компанию в баню. Это второй раз на этой неделе, а придя домой съела фунт кедровых орехов и на гривенник клюквенной пастилы. Николай подарил мне сахарнаго лебедя. Дурак! А впрочем и за прикащиков замуж выходят. Папенька тоже был прикащик, да ведь вышел-же в купцы.
* * * Примеряла новое платье и при этом заметила, что с Рождества потолстела в талии ровно на два вершка.
Вечером была у всенощной и любовалась на одного певчаго. Загляденье! Ежели-бы этотъ певчий был богатый купец, то с радостью-бы вышла за него замуж. Николай подарил мне жестянку леденцов. Должно быть влюблён в меня. А что не написать ли ему любовную записку?
* * * Вчера меня смотрел в Прикащичьем клубе мусорщик. Это очень старый купец с шишкой на носу и я очень рада, что он напился с папенькой и обругал его сволочью.
Весь вечер танцовала с очень приятным кавалером. Он блондин с брюнетным отливом и два раза назвал меня бутоном, а маменьку величал мадамой. Разсказывал, что служит кассиром в банке и получает восемь тысяч, а также просил, чтоб я приходила в Воскресенье в Летний сад, после чего повёл меня на хоры и украдкой поцеловал руку. Ах ежели-бы ему придать глаза нашего прикащика Николая и усы певчаго, то он был-бы совсем картинка!
* * * Сегодня Николай подарил мне коробку винных ягод и назвал меня купидоном. После обеда спала и видела во сне кассира. Будто я лечу на воздухе и падаю в его объятия, а он стоит на траве в кустах и держит в руках ружьё, но вдруг сделался шум и я проснулась. Оказалось, что папенька пришёл из лавки домой пьяный и хочет бить маменьку поленом. Такая досада! Даже и сна-то путнаго не дадут до конца увидеть.
* * * Мимо нас провезли одиннадцать покойников. После обеда спала четыре часа, ела клюквенную пастилу и написала Николаю цедулку. Вот она: «Ах скажи мне, мой брюнет, ты влюблён в меня иль нетъ?»
* * * Покойников было девять. Целый день грызла подсолныхи. Вечером пришёл Николай и принёс мне медовую коврижку. Я ему отдала цедулку. Вместо ответа он обнял меня и поцеловал. Это было в корридоре.
* * * Ела мак. Была в бане. Николай принёс мне пяток апельсинов, но лишь только хотел поцеловать, как откуда не возьмись маменька и дала мне по затылку. Папенька и маменька ругали меня целый вечер и сбирались оттаскать за косы, но я спряталась под кровать. Николая выгнали. Прощай, моя любовь! Ну, да, ничего, остался кассир.
* * * Сегодня была с подругой в Летнем саду. Кассир был тоже там. Звал нас пить шеколад, но мы не пошли. Говорит, что не может жить без меня и всё жаль мне руку. Ах, как он мне нравится! Нет, он не в пример красивее Николая.
* * * Сегодня ходила в Гостиный покупать сапоги и видела кассира. Повёл меня в проход и угощал у пирожника сладкими пирогами. Разсказывал, что хочет поступить в гусары и взял у меня на память бирюзовое кольцо змейкой.
* * * Была у Владимирской, у всеношной, виделась с кассиром. Звал меня к себе на квартиру, но я побоялась. Вследствие отказа хотел принять яду, а потом застрелиться, но я просила обождать до Субботы. Обещал.
* * * Целый день ела клюкву и думала: идти-ли мне к нему на квартиру или нет? Решила идти с подругой.
* * * Только и дела — думаю об нем. Даже и покойники не интересуют. Была в бане, но без всякаго аппетиту.
* * * Ах, как мужчины коварны! Ах, как они врут и какие изменщики! Окно моей комнаты выходит на крышу соседняго дома и перед самыми стеклами дымовая труба. Сегодня только что встала поутру и подошла в дезабилье к окошку, как вдруг на трубе заметила трубочиста, хоть и трубочист, а вс-же мужчина. Я отскочила от окошка и начала на него смотреть из-за угла; но какой-же был скандал и как у меня оборвалось сердце, когда я в этом трубочисте узнала кассира. На его мизинце блестело моё бирюзовое кольцо. Я хотела упасть в обморок, но не могла. Коварный мерзавец! Трубочист, а смеет разсказывать, что он кассир в банке и получает восемь тысяч? Пропала и вторая моя любовь! Целый день плакала и не могла съесть даже и фунта орехов. Господи, хоть уж-бы за кого ни-на-есть выдти замуж, а то чувствую, что пропаду ни за копейку!
* * * Целый месяц не писала своего дневника. Во-первых лень, а во-вторых о чём писать? Целые дни сплю и ем и жду, кому-то я достанусь. Глаза опухли от сна да и челюсти болят. Маменька говорит, что это от еды. Вчера у нас на дворе случилась история… Впрочем, это я, кажется, видела во сне. Всё перепутываю, что вижу во сне и что наяву. Вчера по просьбе маменьки съела писать заздравное поминанье и вдруг забыла как зовут папеньку. Насилу вспомнила. Да, история. Вижу я, что вдруг спускается с неба огромная корзина с яблоками… Нет, лучше в другой раз. Страшная лень да и клонит…
На этом месте дневник кончается. В книжке виднеются крошки от булки и раздавлена муха.
1874 г, Николай Лейкин (1841 — 1906)
________________________________
***
Портрет
Бесцветные приглажены седины,
И как ножом прорезаны уста;
Неглубоки чела его морщины,
И — верю — совесть у него чиста.
Погас в его очах самодовольных
Божественный огонь — не знает он
Высоких дум, страшится мыслей вольных,
И жизнь его течет, как легкий сон,
Где жарких грёз неведомо волненье,
Где сердце спит в безгласной тишине,
И прилететь не смеет сновиденье —
Его душа бездействует во сне.
Не верит он порывам светлым чувства,
Не верит он молитвенным слезам
И, равнодушный к чудесам искусства,
Он равнодушен к вечным небесам.
1888
***
Эхо
Закат, как зарево, сиял.
Задумчивый благоухал
Акаций ряд.
Раздался колокольный звон,
Как будто чей-то вздох иль стон,
И вздрогнул сад.
Чу! В ясном небе надо мной
Мелькнул видений смутный рой.
Одно из них
С рыданьем кинулось ко мне
И словно бредит в страшном сне,
И глаз своих
С меня не сводит, и дрожит,
И сквозь рыданья говорит:
«Идем! Идем!»
Змеится тонкий, стройный стан.
Волнистый вьется, как туман,
Хитон на нем.
Объятье слышу белых рук
И речи тихий страстный звук:
«Идем! Идем!»
Но уж тускнеет жгучий взор,
Он помертвел, и в нем укор
Немой застыл.
Ослабли руки, гаснет речь,
Покров спадает с бледных плеч.
Как пара крыл.
В тоске бессильной призрак пал
К моим ногам и умирал,
И вдруг исчез,
Как исчезают облака,
По воле резвой ветерка,
Среди небес.
1889
***
Стоял я над рекой. Еще горел
Последний луч зари на тучах мутно-красных
И на мостах; и ветерок свежел,
И даль терялась в сумраках неясных.
В себе дворцы и храмы отразив,
Струилася Нева, стесненная гранитом.
И мерных волн немолчный перелив,
Будил мечты о чем-то позабытом.
О чем? Душа ответа не дала;
Но были те мечты прекрасны и печальны,
Как белой полночи немая мгла,
Как вздох любви, как поцелуй прощальный.
1890
Иероним Иеронимович Ясинский (1850, Харьков — 1931, Ленинград)
Учился на естественном отделении физико-математического факультета Киевского (до 1870, а затем — Санкт-Петербургского университета, но курса не кончил (Ясинский решил жениться на Вере Петровне Ивановой, а поскольку студентам не было разрешено вступать в брак, оставил университет.), посвятив себя журналистике.
И. И. Ясинский прожил долгую, богатую событиями жизнь. Сам он так описывает события 1917 года: «Выбитый из седла февральскою революциею, я был посажен в седло великим Октябрьским переворотом. Депутация от Кронштадтских матросов обратилась ко мне с просьбой приехать в крепость и прочитать лекцию о большевизме в её литературном преломлении». В возрасте 70 лет автор нескольких контрреволюционных романов, таких как «Первое марта» (1900) и «Под плащом Сатаны» (1911), И. И. Ясинский решил вступить в партию большевиков. В архиве ИРЛИ сохранился «Анкетный лист» Ясинского (Всероссийская перепись членов РКП(б)), где обозначено время вступления его в партию большевиков — июнь 1920 года.
__________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Воскресенье, 16.02.2025, 21:12 | Сообщение # 1577 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Собираются дни,
как кристаллы смерзаются в память.
Память, ты — холодна, ледяная картина в былом.
Но исторгнет душа
свой горячий, страдающий пламень,
Чтобы лёд растопить,
чтобы память дышала теплом.
Ах, ты, память страны.
Ты моя!
Ты — моя и чужая.
Ты — смятение душ, убывающей нации хрип.
Снова порох и кровь,
снова истину с грязью мешая,
Над землёю встаёт сумасшедшего времени гриб.
Я пытаюсь забыть, всё, что билось,
горело, металось,
Как нагар, из души вынуть памяти чёрную смоль.
Но никак не могу
оторвать даже самую малость,
И с надсадой живу, и ношу эту горькую боль.
Собираются дни и смерзаются, будто бы слёзы,
На щеках у России,
на битом шрапнелью лице.
Вот и снова ОКТЯБРЬ.
Зажигаются свечи и звёзды
Над Россией моею, бредущей в терновом венце.
***
Живём в тревожном 21-м веке…
О, Боже! Заклинаю и молю:
Не уроните небо, человеки!
Я с вами боль и горечь разделю.
Не уроните небо в бездну, люди,
Где обитает современный ад,
И где среди военных, чёрных буден,
Стоит на страже вечности солдат.
Достоинства, любви не уроните,
Все те, кто убивают небеса.
И лучше в небе молнию ловите,
Чем выстрелов убойных голоса.
Над Украиною подняться мне бы
И крикнуть миру горькие слова:
Не уроните в лютый космос небо
И землю, что пока ещё жива!
***
НА ПЕРЕДОВОЙ
Чужой, хохол, ты или свой?
Скорее, стал чужой, не правый.
Ты гибнешь на передовой,
Своею преданный державой.
А ведь была – единой – Русь,
И Киев был один когда-то…
Скажу – словами обожгусь,
Что ты мне был роднее брата.
Был ты – живой и я – живой…
Как два огня,
два русских света,
Мы бьёмся – на передовой
И вспоминаем Пересвета.
А в поле свист: – Убей! Убей!
Нас не спасут уже молитвы.
И держит в небе Челубей
Своё копье для новой битвы.
И раскровавлены луга,
И в центре замкнутого круга
Стоят два брата, два врага,
Чтоб на земле – убить друг друга.
***
Горчит полынь, горчит тысячелистник,
Исходит плачем стылая земля!
И как страницы горькой русской жизни
Листает ветер жухлые поля.
Качаются забытые растенья,
Бегут столбы полям наперерез.
И вдоль земли скользят немые тени,
В молчании сошедшие с небес.
***
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна…
Михайло Ломоносов
Не дымится пространство, уж тихо и поздно,
По дороге небесной ходит светлый Господь.
И заснула Россия, и речкою звёздной
Проплывают планеты и лунный ломоть.
Сколько плотных веков над землёй просквозило,
Сколько звёздных миров прокатилось над ней.
И горючей тоской зазвенела Россия
Над печалью соборов, над сонмом полей.
Может быть, оживёт в новом времени Пушкин,
Может, Лермонтов бросит скитаться в раю,
Сдвинет с ним и со мной белопенные кружки,
И они зазвенят в сумасшедшем краю.
Полетит этот звон по дороге небесной,
Задохнётся дорога, от века темна…
И шагнёт Ломоносов на землю из бездны,
И пройдёт по земле ледяная волна.
***
Взметнётся вихорь чернокрылый,
Поднимет пашни, тёмный лес,
Как будто мир земной на вилы
Поднимет огненный Гефест.
Взметнутся дальние причалы,
Погосты, омуты, кресты.
И это будет лишь начало,
Где нет ни дна, ни высоты.
И плоть земная обнажится,
Уйдут на небо цепи гор,
И жаркой лавой обагрится
Геракла каменный топор.
Уйдут навечно к звёздам – люди,
Достигнув царства своего.
И жизнь спасением не будет
Ни для кого, ни для кого…
***
Двери не заперты. Выйду из дома.
Брошусь, как в воду, в траву.
Свет из земли полыхнёт незнакомый.
Кто там? – в тиши позову.
Кто там? Быть может, далёкие предки
Светят величьем своим.
Райская птица воспрянет на ветке,
В небо – и пламя, и дым.
Кто там? И выйдет из недр Радонежский,
Явится Дмитрий Донской,
И над полями поднимется Невский –
Скажет с душевной тоской:
– Что же ты пал, богатырь, среди поля,
Где твой норóвистый конь?
Где твоя доля? И в поле доколе
Меч не поднимет ладонь?
Вымолвит Сергий: – Отчизну забыли,
Прóдали вечную Русь?
Пели, речами трезвонили, пили:
Вот вам и нерусь, и гнусь
Встали над вами и треплют Россию,
Мера запретов пуста.
Душу России, как плоть, износили,
Нет ей пути и Креста.
Дмитрий Донской, низко долу склонённый,
Старцу в ответ произнёс:
– Как же виниться земле полонённой,
Коли ей путь – на погост!
Встанем за правое русское дело,
Мы ли не бились за Русь?
Отче, направь моё бренное тело,
Я до врага доберусь.
Невский воздел в небеса свои руки:
– Благослови нас, Господь!
Всё на своя возвращается круги:
Битвы и дух наш, и плоть.
И осенил их крестом Радонежский,
Как наречённый Отец,
И оказались Донской вместе с Невским
В танке, спешащем в Донецк.
***
Выхвачу у демократа-вора
Спрятанный за пазухой стилет.
Он завёрнут в тряпку триколора,
Где в помине русской крови нет.
Фронтовик, несущий свои годы,
Скажет мне под сполохом Побед:
– Знамя русской крови и свободы –
Это алый, светоносный цвет!
***
Наши сердца – раскалённые тигли:
Бьёмся и в войнах горим всякий раз.
В наших сердцах мы заставы воздвигли,
Где полыхает боями Донбасс.
Небо остыло и сердце озябло,
Встань и держись, неубитый солдат!
Наша твердыня ещё не ослабла,
Нас согревают рассвет и закат.
Жив Севастополь и жив Мариуполь!
Скольков вбивается в небо ракет,
Будто иглой зашивается купол
Алых небес и встаёт Пересвет.
Дрогнут враги и раскрутится пламя,
В чёрных долинах, как будто в аду.
И боевое раскроется знамя,
Как над Рейхстагом в победном году!
***
ПРОБУЖДЕНЬЕ
Я час назад проснулся. Замер.
И, словно сам себе чужой,
Лежу с открытыми глазами,
Лежу с распахнутой душой.
Пытаюсь мир вернуть из боли,
Пытаюсь эту боль постичь.
Из боли, будто из неволи,
Я боевой бросаю клич.
Я жду победы, жду успеха…
Я крикнул, кажется, в зенит.
Но тишина в ответ, лишь эхо
Над спящей Родиной звенит.
Рассвета порванное знамя
Сгорело над страной большой…
Лежу с открытыми глазами,
Лежу с обугленной душой.
***
Рассвет – подозрительно грустный.
Что стало с посёлком родным?
Неужто – мой край захолустный
Уже не предстанет иным?
Не вскинет гречишные крылья,
Подсолнухом не расцветёт.
Себя не накормит обильно,
Гнездовье души не найдёт?
* * *
Где прошлое? Еле заметно…
Век нынешний – злая печаль,
В нём крови и боли – несметно.
В грядущем – унылая даль.
Лаз в прошлое давнее – узкий,
Грядущее – вовсе дыра…
На гору взбирается русский,
И скачет, как лошадь – гора!
* * *
Мы – дикие, полые люди,
Никак не восполним себя.
Нас ýбыло и не пребудет…
Неужто, живём – не любя
Себя и затасканных буден,
Природы, глядящей со дна.
И, может, поэтому к людям,
Как зверь, равнодушна она.
***
Моя земля – она едина,
Неразделима на куски.
Моя земля – песок и глина,
Источник веры и тоски.
Моя земля – она живая,
В ней теплота материка.
Деревьев крепь сторожевая
Восходит прямо в облака.
Я в этом мире многомерном,
Как будто ветка на стволе.
Я для своей России верным
Всегда останусь на земле.
Моя земля покрыта прахом
И вдовьей горькою золой.
Летит душа орлиным взмахом
Над потрясённою землёй.
Ей в горе жить невыносимо,
Ей тяжело стонать во мгле…
Моя любовь невыразима
К моей истерзанной земле!
***
Снова томится и душу мне застит
Край мой угрюмый, слепая тоска.
Поле родное, открытое настежь,
Нет на селе твоего мужика.
Срубы замшелые смотрят убого,
Сердце деревни сгорело дотла.
И проступает, как вена, дорога
На пустыре у больного села.
Рухнули слёзы на старую школу,
На зерносклад, от разора пустой,
Где одинокий скрывается голубь,
Вставший, как Ангел, в селе на постой.
***
Сердце доброе скажи – веришь почему
Злому гению – тому, кто в обман поверг
Эту землю? Этот мир окунул во тьму,
Чтоб библейский белый день над землёй померк?
Сердце русское, скажи – стонешь почему?
Отчего твоя тоска расцвела окрест?
Может, ведомо тебе – или – никому:
Отчего скорбит народ и влачит свой крест?
Вот и снова на земле грянула война…
Снова взрывами, дымясь, задохнулся век.
Русь великая моя, ты стоишь одна,
В дýши сыплется с небес порох или снег.
Над Отчизной, что грустит в пепле и золе,
Раскатился, разметал крылья чёрный вран.
Но орёл к нему летит с радугой в крыле:
И врага на части рвёт, и повержен враг.
Как по травушке мороз, по морозу след.
Так и в мире, и в душе отстоится день.
И над Родиной моей возгорится свет,
Возгорится и затмит Мировую тень!
***
В ДОЛГУ
Я у Всевышнего в долгу:
Меня ловили силы мрака.
Молиться Богу не могу,
Поскольку грешен, как собака.
Я у лесных цветов в долгу:
Я продавал их, чтобы выжить…
Когда-то верил, что смогу
Взрастить цветы и поле вышить.
Я у земли моей в долгу!
Ведь не брала меня забота,
Как мало на своём веку
На пашню уронил я пота.
У мамы я своей в долгу
За все обещанные роли.
За то, что влёт и на бегу
Я причинил ей много боли.
Я у страны своей в долгу,
Что смог сегодня оглядеться,
Что дал извечному врагу
Над бедной Родиной слететься.
И если я не помогу
Отчизне, воину, калеке,
Останусь, видимо, в долгу
У самого себя навеки.
***
Спаси меня, Господи, неотторжимый
От сердца России, от русской души.
Какие бы нас ни глушили режимы,
Какие б ни путали нас миражи,
Мы молим единого Господа Бога
О нашем народе, чтоб выстоял он.
Верши свою проповедь,
Господи, строго.
Тебе мы несём за поклоном поклон.
Спаси меня, Господи, верный и правый,
От зла, от болезней, от смуты в душе.
Не надо мне злата и ветреной славы,
А надо Всевышнего чуда уже.
Владимир Петрович Скиф (настоящая фамилия — Смирнов), родился 17 февраля 1945 года в поселке Куйтун Иркутской области.
________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 19.02.2025, 16:04 | Сообщение # 1578 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Со всей страною говорить
Всем горлом, всем ознобом...
* * *
Разбит наш дом.
Он превратился в прах.
Как мне срастить
Обломки прежней жизни?
Как отыскать
На новых берегах
Пути к потерянной
Моей большой Отчизне?
Как отыскать? –
На языке каком
Окликнуть их,
Кому назвать
Приметы?
И я иду по снегу
Босиком...
Стоит зима.
И косяком к нам – беды...
***
Я иду по слепящему снегу,
Оступаюсь в горящую
Русь.
Никогда не склонюсь я
К побегу.
О победе в надежде
Молюсь.
Что мне воздух полей этих
Волглых,
Что дорог мне твоих
Маята?
Свет небес бесконечных
И долгих?..
Я стояла тогда у моста...
Тихо шли по дороге
Буренки,
Словно сны с голубого
Листа...
***
На крюк Россию взяли,
Как тучного быка.
Распяли и разъяли,
А прежде шкуру сняли, -
Кромсает нож бока.
Кому Норильск с Чукоткой,
Кому Тюмень и лес?...
А кровь все хлещет глоткой,
Рекой течет с небес, -
Народ овечкой кроткой
Идет в чужой замес...
***
Мы попадаем под колеса...
Мы сходим с рельс.
Летим с откоса...
Своей ли волей,
Волей рока.
Невесть какого скомороха
Так неожиданно жестоко
К нам повернулось мирозданье,
Событья.
Ход времен.
Эпоха.
И поведя надменно бровью
Они нам шлют
Свое посланье.
Грозят нам мороком
И кровью...
И нас уж нет -
Одно преданье...
И никакие пароходы
К нам в трудный час
Не подплывут:
Мы тонем в омуте свободы,-
Волна растет, сметая броды,
И ближний берег
Наг и крут...
***
Земля - как пух. Земля - как воск,
Земля - как пламя.
Здесь не шиповник дикий рос –
Здесь рдело знамя.
Оно летело к нам сюда
Тысячелетья,
Перелетая города,
И мор, и плети...
И вдруг исчезло без следа,
Ушло,
Взметнулось в никуда,
Как сон,
Как ветер...
***
Россия - волость вольная,–
Незрим и жгуч огонь..
Дорога - даль продольная,
Прямая,
Не окольная,–
Как неба ширь –ладонь.
Она,
Как в сказках пишется –
Белей,
Чем снег...
Ей Бог в окошке видится,
Ей конский топот слышится
Сквозь дрему век,
Когда ковыль колышется,
А горизонт все движется
За край земли
И рек...
***
Какая тишь стоит над миром…
Уснул мой город…
Далеко
Бросает свет полоской узкой
Чье-то яркое окно…
Белеет снегом занесенный
Проспект…
И словно покрова
На снег ложатся запоздало
Чеканных листьев кружева…
Не шелохнется тополь тонкий,
Он зачарованно глядит,
Как серп луны прозрачный,
Ломкий
Туманным облаком кадит.
В саду скамеек темных тени
Легли полосками на снег
Строкой немых стихотворений,
И ветер приискал ночлег…
А тишь стоит,
Стоит над миром…
Мне в тишь такую – не уснуть…
Застыло всё.
Лишь звезды в небе
Неслышно строят
Млечный Путь…
***
Прости меня. Не потакай молве,
Что поздно я пришла
К тебе
Проститься…
Что ни в одной
Не значишься
Строфе,
И что зачеркнута
Любви страница,
За то, что было и чему случиться...
Такие ветры, что не встать траве,
И сквозь каменья
Зернам
Не пробиться…
Прости меня...
Уходят поезда
Просроченных,
Упущенных мгновений…
Такая быстрая, опасная езда
По рельсам памяти,
В иные измеренья,
И ни одна не светится звезда –
Ни прошлого, ни та,
Что во спасенье…
***
Я почему-то жить –
Не тороплюсь.
Мне кажется, что впереди
Всего так много будет…
Я день не отпущу
Пока не наслажусь
Неторопливо вкусом
Буден…
Они мне так милы и дороги….
А праздничный
Претит мне звон.
Я так люблю седую пыль дороги –
Идти по ней
Без шума и знамен…
Мне кажется, что много мне отмерено,
И ни к чему сдвигать свершений срок…
Когда душа в бессмертии уверена,
То не спеша
Возводит свой чертог…
***
Я хочу прикоснуться взглядом
К скалам твоим и кручам,
И назвать каждый выступ зубчатый,
Как назвала бы сыновей,-
Именем звучным.
Смуглый хозяин мест этих,
Вечер,
Спустился с небес к тебе,
Чтобы встретить
На крышах твоих
Горячие маки,
И воды Зангу пропуская сквозь пальцы
Ввысь уходящие песни создать…
Над гроздью объемной
Тихо склоняюсь,
Слышу,
Как грезит в ущелье родник.
К звуку речи твоей приобщаюсь,-
Так неизбежен путей наших стык.
Мне твои истины трудные
Любы,
Сомкнуты губы твои
И скупы…
Взыскуют деянье с меня
Неприступные
Горы твои,
И уступы судьбы…
***
Пласты пород обнажены,-
Ракушечник,
Белесый гравий
В его ушах - гул глубины,
Его душа – воспоминанье…
Как помнят каменные губы
Прохладу девственной воды…
Непродолжительны и скупы
В горах армянские дожди…
Моря ушли,
Беды не зная,
Петь на других
Материках…
Но жаждет моря,
Изнывая,
Белесый гравий
На горах…
***
Мне не увидеть разлета бровей,
И глаз твоих темных,
Влекущих…
Мы в зоне воздействия
Разных полей –
Ты весь – в настоящем.
Мой голос – в грядущем…
В бурьяне и терниях тропы предтеч,
И плечи – в ознобе рассвета…
И только вдали
Пробивается речь,
Где камни ворочает
Лета…
***
Тревожная, черная мысль
Вся ночь мою душу
Снедает:
Мне снится –
Коварная рысь
Кровавый разбой
Затевает…
И вот она рядом уже,
Приблизилась к цели
Заветной, –
Стоит на моем
Рубеже
И силой грозит мне
Несметной…
И вся она в прищуре
Глаз,
В стремительном росчерке
Воли…
Метнулась…
И нет больше нас...
Последние сыграны
Роли…
***
Я видела тебя во сне.
Струился свет,
И леденило крышу..
Мерцали рыжие фонарики в окне,
И знала я,
Что я тебя
Увижу.
Я шла бесшумно.
По большим путям,
Раскинув руки,
Словно для объятья…
По разметавшимся
По всем дорогам, снам,
Которые должна была
Осмыслить и понять я.
За пологом пурги,
За толщей снегопада
Угадывала я
Твое тепло и свет.
И как за Каином
Легко ступала Ада,
Я за тобою шла
На голоса примет…
Ты был везде, -
В движении, в дыханье,
Ты был угоден жизни,
И любим…
И тысячи явлений и названий
Я замыкала
Именем
Твоим…
***
Я распахнула черные ворота –
Свои глаза…
А по земле текут,
Скрипят подводы…
Грядет гроза!..
Открыто сердце,
И душа открыта, –
Как ширь
Полей!..
Темнеет небо…
Воздух рвут копыта…
И шалый ветер
Гривы мнет коней…
Они идут…
Им нет числа и счета.
И, нескончаем, движется
Поток…
И рушатся границы,
Как ворота,
И чья-то тень уже у поворота
Растет и множится,
И целит боль в висок
Не как-нибудь, а с ходу бьет, и с лета…
И нет здесь Запада!
Здесь нет Востока! –
Страница первая Грядущего пролога…
И метка черная лежит
У самых ног…
***
Кто принял вызов?
Поднял кто
Перчатку?
Не предал –
Кто?
Так Господа моли
Помочь!
Ломай в смиренье
Шапку! -
Мы проиграли бой!
Надежду!
Душу!
Схватку!
Еще лишь час –
И нет у нас
Земли...
***
Просторы тяжелые подняли веки,-
Таким ожиданьем глаза их полны…
Ну что мне сказать вам,
Долины и реки,
Вам,
Солнечных бликов
Литые
Челны?
Навстречу мне руки Ваагна* простерты,
Зеленое пламя весенних одежд…
Я мимо иду
Ваших пристаней теплых,
По белым камням
Невозможных надежд…
***
Я – завязь живая
Грядущих основ,
Несущая силу и слово
Истока.
Чужда я законов больших городов,
И крови,
Текущей в жилах Востока.
И всех наслоений
Причуды и гений
Во мне не живут,
Не справляют свой праздник.
Земли не стряхнула еще я с коленей,
Я слушаю недра. И неба я данник…
Вокруг меня травы, приторны, пряны.
Их заросль густая, их царство,
Их век…
И первозданно дышит поляна,
Веков усмиряя стремительный бег…
А я как былинка,
Стою и качаюсь,
Руки сложив,
И веки смежив…
А я постепенно в себя превращаюсь,-
Срок на исходе,
Кокон ожил…
И в этом пространстве,
От века желанном,
Все стороны света –
А я посреди…
Подобна я глине на круге
Гончарном,
И вертится круг,
И всё впереди…
***
Но если ни направо, ни налево
Ступить нельзя,
То, значит, – ввысь?
То, значит, – в небо?
Или пешочком, краем света,
Туда, где камни
Точит Лета?
Ушло из глаз,
Исчезло лето…
Но на вопрос мой
Нет ответа.
И под ногами
Грязь и слизь…
***
Что день,
Что век,
Что всех распадов
Сила?
Всегда повержена,
Всегда жива…
К работе алчная,
Я всех простила…
Упрямства своего
Вбиваю в скальный грунт
Упрямые слова…
Я тверже камня.
Сдержанней гранита.
Высоко в небо
Вознесен
Мой храм.
И лавою земля моя
Покрыта,
Которой я
И Богу не отдам…
***
Как прошел этот год…
Как недели летели…
Все печали да хвори,
Да хмурая мгла…
Часто дети болели,
И проливы мелели,
И границ этих бед
Очертить я уже не могла…
И тогда,
Заглянув за предел,
Как за борт, за ограду,
Я направила лодку
Бог знает куда…
Может, вовсе в ничто,
Может, к Китежу-граду…
И пред ней расступилась
Вода…
***
Мне так давно не можется,
Не спится мне давно…
Дом оскудел, корежится,
Не вымыто окно…
А мне о том тревожиться
От века не дано…
Стоит,
Гудит невнятица,
Сумятица в мозгу.
Жизнь к черту, к ляду катится –
Очнуться не могу…
Летит крутыми спусками
На шаткие мостки…
Просторы стали русские
Тесны ль ей и узки?..
Иль слышатся пророчества
В далеких небесах?..
И умереть мне хочется,
Или убить
Свой
Страх…
***
Но каждый день мой – только день.
Не битва.
Сто компромиссов,
Уйма полуслов.
И в этом дне
Расплывчато и слитно
Лицо друзей моих,
Лицо моих врагов…
И я живу,
Живу без донкихотства,
Предубежденность пряча
И порыв…
Я чувствую своё с врагами сходство…
***
И я не знаю
Как мне быть –
Страну свою в какие руки
Отдать,
Доверить,
Поручить?
Кругом предатели
И шлюхи…
А ветер снова взялся выть,
И люди дохнут,
Словно мухи…
***
Я не знаю,
Где ты,
Когда снегом заносит твой город,
Что искрится на крышах осколками
Льда…
Когда движется ночь,
И дождем проникает за ворот….
Я тебя не увижу,
Не встречу уже никогда…
Может к лучшему то,
И подбить мне удастся итоги,
Той эпохи,
Что канула в бездну ночей?…
Я не знаю, где ты.
Здесь стоят непроглядные смоги,
И Великая Вечность
Приближается к жизни моей…
***
И нам придется все же
Притерпеться,
Чтоб вновь глаза
Поднять…
Мы проиграли…
Никуда не деться,
Хоть тронься разумом,
Ополоумь,
Иль спять…
И, обхвативши голову руками,
В недоумении качайся
Сотни лет…
Нас больше нет…
Так смейтесь же над нами,
Пока ваш час,
И дремлет наш
Ответ…
***
И, может быть,
Уже в последний бой
Нас поведет
Былых времен
Наследство, –
Шаг –
И бросок,
Безжалостный и злой,
Туда,
Откуда
Невозможно
Бегство…
***
Туманы с тучами слились,
И небо – серый студень…
Ручьи как реки растеклись,
Базар немноголюден…
Визжит пила на лесопилке,
И заполняет звуком дали.
Пройдешь –
И мягкие опилки
Набьются в мокрые
Сандалии.
Забор обвила повилика…
Проходят серо дни, безлико…
Безликостью не тяготясь своею…
Здесь вызревают зерна тихо,
И я их торопить не смею…
***
Сохранить Россию
Боже,
Помоги!..
Чтобы небо - синее,
Тропы в даль —
Легки.
Горе черным вороном
Не клевало глаз...
Помоги нам,
Господи!
Хоть в последний
Раз...
***
И мы осмелимся рвануться
В никуда
Земную почву
Покидая
Под ногами.
И отзовется нам,
Ответит даль тогда,
Когда прогнет
Хребет
Под скакунами.
И ржанье весело откликнется
Звезде,
И звон рассыплется по пыли
Придорожной...
Мы были здесь!
А нынче мы - везде!
Восставшие из были
Позапрошлой...
***
Нас вьюга нянчила в подоле
Под небом смут
И мятежа.
Нас холил ветер в чистом поле,
И пело острие ножа...
Тянулись долгие столетья,
Смешались говоры племен,
С землей - поземка,
С небом - ветер,
В своем дыханье ледяном...
А мы все вдаль глядим,
Как дети –
Владыки будущих
Времен...
***
Когда распрямляться
Пружине
Назначенный час подойдет –
Запомните! –
Память –
Не стынет –
И счет свой обидам
Ведет...
Как сжатая сила
Вулкана,
Как плач заколдованных
Недр, –
Так прошлого подвиг и рана,
Предвестье
Грядущих побед!..
***
Два города.
Две вечных правоты.
В моей душе
Две огненные вспышки.
Монументальность,
Разворот,
Домишки –
Мой Ереван.
Стихии мощь –
Москва...
Два притяженья...
И душа меж ними
Кружит,
Как мотылек,
Боясь присесть...
Два города,
Два имени,
Над ними –
Я.
Чтобы сказать:
"Я есть!"
***
Я превращаюсь почти в собаку,
Почти в дворнягу,
Приблудну кость...
Я на крылечке здесь рядом
Лягу,
Скажу вам тихо:
"Я только гость,
Что послан небом
В придачу к пище
Земной
И прочим
Иным благам.
Рюкзак мой старый –
На пепелище,
Его я тоже
Оставлю вам..."
Оставлю вам я
Свои каморки,
Свои котомки...
Бумажный хлам
Я осторожно
Сложу в коробки,
А ветер - листья -к моим ногам
Сметет устало,
Где я стояла
Давно. Когда-то
В стране иной...
Ступай же, ветер! –
Я все сказала...
И ты, прохожий,
Иди,
Не стой...
Сэда Вермишева (1932 - 18 февраля 2020)
_________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 21.02.2025, 19:59 | Сообщение # 1579 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Стало в городе постыло,
я подамся до села –
там жила прабабка Мила,
очень правильно жила.
А когда туда приеду,
как в насмешку над собой,
заведу за жизнь беседу
с покосившейся избой.
Мне расскажут половицы
про скрипучий свой недуг,
и ворчливо забранится
старый бабушкин сундук:
– До каких таких пределов
под замком добро стеречь!?..
И дымком заплесневелым
поперхнётся гулко печь.
И прабабушка к обеду
выйдет, памятью светла…
Я когда-нибудь приеду,
наплевав на все дела.
***
В доме пахнет пирогами.
В доме чисто вымыт пол.
Я давно хожу кругами,
Глядя искоса на стол.
Там укутан в покрывало
Хлопотливый мамин труд.
Уходя, она сказала:
– Не таскайте,
пусть дойдут…
Но какой же запах вкусный!
И с самим собой в борьбе,
Я тащу: сестре – с капустой,
С мясом – папе и себе…
Мама громко нас ругает,
Отводя смешливый взгляд.
Если пахнет пирогами,
Значит в доме мир и лад!
***
Конопатая девчонка
Довела меня до слёз.
У неё косая чёлка
И слегка курносый нос.
На неё взглянуть не смею
И, в мучительной тоске,
Я от робости немею
Даже вызванный к доске.
Мы сидим за партой рядом.
А пишу ей – в интернет.
Вечерами долгим взглядом
Я сверлю её портрет.
Конопушки посчитаю:
Раз, два, три, четыре, пять…
И всю ночь о ней мечтаю…
А с утра молчу опять.
***
Татьяне Алексеевне Сидоровой,
учительнице литературы
Татьяна Алексеевна,
Влюбленная в предмет,
Глядит на класс рассеянно,
Как будто класса нет.
Она – Татьяна Ларина,
Любовь её светла.
Мятежная испарина
На чистый лоб легла.
Отброшены сомнения,
И пишется само
Беспечному Евгению
Любовное письмо.
И мы сидим притихшие,
На нас из-за окна
Глядит глазами-вишнями
Серьёзная весна.
***
Богом посланная милость –
Тёплый солнечный денёк.
Это лето зацепилось
Паутинкой за пенёк.
Продолжает труд тяжёлый
Забубённая пчела.
Пацаны бегут из школы
На окраину села.
Промелькнут по косогору –
Мимо пасеки, на брод.
А пескарь в такую пору
И на голый крюк берёт!
***
Над покосившейся крышей
Серп недозрелой луны.
С близкого берега слышен
Свист монастырской шпаны.
Лип разлохмаченных тени
Не достигают земли.
Отзвуки всенощных бдений
Эхом тускнеют вдали.
В утреннем мороке гулком,
Будто бы впав в забытьё,
Шляется по переулкам
Зоркое детство моё.
***
Дождь с восторгом встречен лужами —
вон как пенится вода…
У окна, насквозь простуженный,
ворошу свои года.
Здесь я очень-очень маленький.
Ах, как мама молода!
Дом с кирпичною завалинкой,
сад — в нём яблонь два ряда…
Школьный двор. Я чуть встревоженный
с гладиолусом в руке
и, как школьникам положено,
в новом сером пиджаке…
Старый дом, дождями стиранный,
вот с тобой прощаюсь я —
обзаводимся квартирою.
Вот и новые друзья…
Не поспеть за жизнью мчащейся.
Стены техникума… Но
не прилежный я учащийся —
танцы, девушки, кино…
Вот с погонами сержантскими
в ладном воинском строю.
И готовы все сражаться мы,
все — за Родину свою.
Ведь она — одна пока у нас,
друг литовец, друг бульбаш,
Могилёв, Орёл и Каунас… —
весь Союз пока что наш…
Дальше, брызжа многоточьями,
покатились времена:
крах страны, рожденье дочери…
Быстро выросла она…
Как судьбу не перелистывай —
чем пытливей, тем больней…
Ветра свист, дорога мглистая,
тень моя летит по ней…
Всё ещё бурлит и пенится
в лужах стылая вода…
Ах, судьба, годов ты пленница!..
Над дорогою звезда.
***
Проводница уж так строга,
будто главная в МПС.
Еду в Белые Берега
сквозь насупленный Брянский лес.
Там песок побережный бел,
точно сахарный рафинад!
У меня там всего-то дел,
что рыбалка да променад
по исконно грибным местам –
там чудес и красот – не счесть!
Если нету чего-то там,
уж не знаю, где это есть…
В ожиданье к стеклу приник,
чай в стакане остыл давно.
Проводницы тигриный рык
не даёт распахнуть окно,
за которым светлеет мга.
Разветвляется путь стальной –
вот и Белые Берега!
Проводница, махнём со мной!..
***
В котомке квас да мятный пряник,
Большою думой светел лик –
В моей отчизне каждый странник
В своем убожестве велик.
Пряма, как лезвие, дорога.
Бела, как помыслы, луна.
Спокойно спит моя страна,
В своем величии убога.
Со старины привычна к боли,
К обилью жертвенных кровей…
Обрывки снов пасутся в поле,
Их караулит соловей.
***
Сдвинув в сторону плетень,
Бог поставил мету
Из окрестных деревень
Именно на эту.
В холода дворы теснейr
Прижимались к тыну,
Отмирали по весне,
Пережив годину.
Быт размерен,
у людей
Вкусы простоваты:
Сговорясь, в апрельский день
Все белили хаты.
Дружно – вспашка,
Дружно – сев,
И любой при деле.
Здесь и немцы, обрусев,
Под гармошку пели.
***
Отец шагнул в родимый дом
Из огненного круга.
Четыре года сын с отцом
Не видели друг друга.
Война впечатала свой след
В их судьбы, точно в глину.
Отцу исполнилось сто лет,
Четыре года – сыну.
Суровый, будто трибунал,
Молчит в дверях мужчина.
Пацан родителя узнал,
Тот не припомнил сына.
***
Всю-то жизнь мой отец слесарил,
Почитая свой труд за честь.
Под руками его плясали
Все металлы, что в мире есть.
Размечал заготовки, резал
И паял, и клепал – за грош.
И шутил:
– Я тебе из железа
Чёрта сделаю, если хошь…
А теперь, как его не стало,
Прихожу я с вопросом:
– Бать,
Из какого, скажи, металла
Мне для сердца броню склепать?
Слишком много на нём отметин –
Так болит, что уж мочи нет…
Прошуршал над погостом ветер
И принёс мне отцов ответ:
– Ты, сынок, только с виду умный,
А на деле – совсем дурак.
Тех, кто ходит с плитой чугунной
Вместо сердца, полно и так.
Ты подумай-ка головою:
С железякой в груди ты б смог?
А болит… Знать, оно живое,
И ты этим гордись, сынок…
***
Улочка, наспех запорами клацая,
Бредит, ко сну отходя.
Пряный настой расплескала акация
После шального дождя.
Неподалеку прононсом диспетчера
Сонно бормочет вокзал.
Стихло.
Стыдливо из Космоса вечного
Месяц рога показал.
Дедова липа над крышей сутулится,
Скрыв от напастей жильё…
Если бы этой не было улицы,
Я бы придумал её!
***
РОДИНА
Дойдёшь до чёрного столба –
Сверни направо:
Твоя здесь скорбная судьба,
Твоя держава.
Твой худо-бедный огород
В тени крапивы,
Тебя заждались у ворот,
Рыдая, ивы.
В лугах не кошена трава
Четыре срока.
А мать… а мать ещё жива,
Да одинока.
Ждёт обветшалая изба
Тебя так долго.
Сверни у чёрного столба, –
Нет выше долга.
***
Вырастая до прежнего роста,
человек возвращался с погоста.
Шли минуты,
и делалось легче,
расправлялись ладони и плечи,
возвращались дела и заботы,
воскресение шло за субботой.
Всё предельно понятно и просто:
человек возвращался с погоста.
***
Родина любимей не становится
С добавленьем прожитых годов.
По моей судьбе промчалась конница –
Глубоки отметины подков.
Выбоины тотчас же наполнила
Светлая небесная слеза.
Сердце от рождения запомнило
Родины усталые глаза,
Спрятанную в сумерках околицу
И дымки лохматые над ней…
Родина любимей не становится,
Родина становится нужней.
***
В деревне Коровье Болото
Совсем не осталось коров,
Да и от деревни всего-то –
Двенадцать замшелых дворов.
Воюет старик-долгожитель
С колодезным журавлём:
– Помрём-то когда же, скажите?
Ведь всё же когда-то помрём…
Горбатятся крыши косые,
Хребтами белеют плетни…
Храни, Вседержитель, Россию!
И эту деревню храни.
***
Убереги меня, Судьба,
Не от невзгод, не от болезней –
От суматохи бесполезной
И от позорного столба.
Не дай забыть своё родство,
Чтоб не краснеть отцу и деду;
Дай счастье знать, что я не предал
На этом свете никого.
Что все и всем отдал долги,
Что был не пасынком Отчизне…
От пустяковой, зряшной жизни,
Судьба, меня убереги.
***
Селеньице Былины.
Ухабы да бугры.
Здесь больше половины —
бесхозные дворы.
Давно деревню эту
метлой житейских вьюг
развеяло по свету,
не тронув лишь старух.
Куда пойдёшь от дома,
в котором прожил век,
где тишина знакома,
как близкий человек?
Не гаснут в хатах свечи,
блюдутся все посты.
До города — далече,
до неба — полверсты.
***
Ходили слухи, бабка ведьма:
мол, ей и сглазить — плюнуть раз.
Давно пора ей помереть бы,
да ведьмам слухи — не указ.
Вот и жила неторопливо,
мирясь со злобой языков,
и взглядом жгучее крапивы
стегала души земляков.
Скупа на ласковое слово,
копной волос белым бела
и подозрительно здорова…
До той поры, как померла.
С кончиной каверзной старухи
утихомирилась молва…
А на девятый день округе
хватать не стало волшебства.
***
Долго не пишется…
Яблони ветка
лезет в окошко, тихонько звеня…
Тут вот на днях прицепилась соседка:
«Ты, — говорит, — напиши про меня.
Я ж, погляди-ка, страдаю от веку:
брошена, дети — сиротки, как есть…»
Как же, ну как объяснить человеку:
судеб разбитых на свете — не счесть.
Нынче хорошее встретится редко,
чаще — предательство, злоба, враньё.
Ну а соседка… Да что там соседка!
Я ведь уже написал про неё:
в этом стихе и вот в этом, и в этом —
долго верёвочку горькую вью…
Нет. Обзывает хреновым поэтом —
хочет фамилию видеть свою.
***
Много яблок по деревне.
только знают пацаны,
что у бабушки Андревны —
просто диво, как вкусны!
И поэтому, наверно,
успевает только треть
урожая у Андревны
окончательно созреть.
Шибко сердится Андревна —
мол, коту под хвост труды, —
собирая на варенье
уцелевшие плоды.
И который год, не знаю,
всё стращает пацанву:
— Вот ужо, кого споймаю —
ухи-т начисто сорву!..
А потом вздыхает глухо
и, беседуя со мной,
говорит:
— Дурна старуха —
нешто слопать всё одной?
***
Кажется, я не умру никогда…
Речка дымится над вспаханным полем.
Вслед отступающим страхам и болям
смотрит насмешливо с неба звезда.
Ей говорю: «Не меня сохрани,
но береги без конца, год за годом
тех, кто с моим неизменным уходом
могут пред миром остаться одни…»
Сорванный лист устремлён в никуда —
то ли падение, то ли паренье.
Дочка вишнёвое варит варенье…
Кажется, я не умру никогда.
Андрей Владимирович Фролов
_________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 25.02.2025, 00:55 | Сообщение # 1580 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| НАДО ЖИТЬ
или Коттедж на колёсах
Этот удивительно славный сон снился мне во второй раз. Но нынче я его не досмотрел. Не досмотрел самое лучшее в нём, когда после концерта меня приглашают на банкет в огромном зале, и у меня разбегаются глаза от обилия еды на столах. И прервал этот чудный сон Коленвал, нудный мужичишка, которого просто распирают самые сумасбродные идеи: то — как из кефира самогон делать, то — как обмануть «однорукого бандита» и стать миллионером, то — как получить приглашение на презентацию. Его никто не слушает, а наш кот Горлопан сразу же начинает издавать какие-то оскорбительные звуки, пока Коленвал не пнёт его ногой. Лишь Диоген — худая рыжая дворняга — смиренно смотрит не него слезящимися глазами и помахивает в такт его словам хвостом.
Вот и сейчас Коленвал разбудил меня, чтобы сообщить:
— Послухай, Партайгеноссе, есть идея.
Он всегда так начинает. При этом у него обиженный вид, как у актёра Брундукова в фильме «Афоня», когда тот просит рубль. Я пошевелился под многослойным одеялом, и холод мгновенно отыскал щель, чтобы облобызать мои затекшие члены. Старая кушетка, найденная мной на помойке, жалобно всхлипнула, и подвал отозвался звуком упавшей капли воды. Чтобы отвести разговор про его новую идею, я с наивным видом спрашиваю:
— И почему тебя назвали Коленвалом?
— Сто раз объяснял, — кипятится он, стаскивая спортивную шапочку со своей пожухлой головы. — Водка такая была. Народная. Дешёвая. Три, шестьдесят две стоила. Буквы на ней враскоряку стояли — одна выше, другая ниже, на коленвал похоже. Ну, я её всегда и брал с корешами. Я же не спрашиваю, почему у тебя кличка Партайгеноссе, и как ты вообще попал в наше избранное общество?
— Это не кличка. Это должность такая была — партсекретарь по-немецки.
О том, как я попал в бомжи, я уже давно никому не рассказываю — даже себе самому запретил думать об этом. Что случилось, то случилось. Назад не вернёшь. Назад можно вернуть только деньги, отданные в долг, да и то не всегда…
— Ну, я ещё понимаю, — продолжает Коленвал, — почему кота назвали Горлопаном, а вот псина чем провинилась, что её обозвали Диогеном?
— Это Псих дал ему такую кличку — философ… тот, что умер полтора года назад, ты его не застал. Он нашёл щенка в бочке из-под краски. Вот и назвал его по имени древнего философа Диогена, который тоже когда-то жил в бочке.
У Коленвала кожа на лбу собирается в поношенное плиссе, некоторое время он сосредоточенно молчит и, наконец, спрашивает:
— А как этот философ сюда попал? Ему что — Канатчиковой дачи мало?
Я не отвечаю, потому что Псих был мне симпатичен, и мне не хочется говорить о нём с Коленвалом. Но, чтобы он снова не начал талдычить о своей идее, я его спрашиваю:
— Пожрать что-нибудь принёс?
— Да что ты! Все наши «супермаркеты» обошёл, ни в одном даже завалящего батона не нашлось. Может, до меня конкуренты навели шмон?
— А из вчерашнего ничего не осталось?
— Горлопан всё схавал.
Чтобы не думать о жратве, я вспоминаю, как Псих пил водку. Он сначала долго смотрел на стакан, потом осторожно брал его большим и средним пальцами и медленно подносил к губам. Замирал на минуту, закрыв глаза, и, наконец, выливал в рот неторопливо, беззвучно без единого движения губ. В этом было что-то ненормальное, пугающее для человека, который видел Психа впервые. Но я скоро привык к его странностям, которые заключались не только в поглощении водки, и они мне начали казаться просто привычками одинокого человека. Псих действительно был философом и работал ранее в каком-то институте, где занимался проблемами эстетики. Он очень любил Канта и спирт. Ему прощали неравнодушие к немецкому философу, а вот пристрастия к спирту — не смогли. Откуда в таком институте водился спирт, я допытаться у него не смог, но факт: каждый день Псих где-то его раздобывал и объяснял это производственной необходимостью. Он показывал мне как-то эпиграмму на себя из институтской стенгазеты, и очень ею гордился. Она мне запомнилась:
Я живу теперь по Канту.
У меня ученый вид.
Я носил бы аксельбанты,
Только канцлер не велит.
Зло с добром мешая разом,
У меня с душою флирт.
Отвергаю чистый разум,
Принимаю чистый спирт…
Меня отвлекает голос Коленвала:
— Так ты послухай насчёт идеи. Она самая, что ни есть, жизнетрепещущая. Из этого подвальчика нас вот-вот попрут. Уже заходили какие-то хмыри, когда ты свой обход делал. Музыканта тоже не было, а я отвертелся, сказал, что, мол, кота своего ищу. Горлопан как чувствовал, затесался куда-то.
Но они всё поняли правильно. Предупредили, чтобы через двадцать четыре часа и духу нашего тут не было… Так что я тут присмотрел одно место, коттедж на колёсах.
Я смотрю на Коленвала, и он мне чем-то напоминает Психа, хотя между ними целая пропасть. Они стоят по обе стороны от неё, как отражение один другого, преломленное фантастическим образом тьмой, исходящей из её чрева. Психа тоже одолевали идеи, но это были идеи глобального характера. Например, о влиянии биологического кода человека на единый генетический код Вселенной и, таким образом, получении возможности корректировать эволюцию Мироздания. Это был нормальный тип параноика с глобальным уклоном. В то же время Псих не был чужд сентиментальности и мог заплакать, прочитав о брошенном младенце.
— Я не виню этих женщин, они — невесты времени, а дети их — возмездие его!
Он любил стихи и много знал наизусть самых разных, порой совершенно безвестных авторов. Я думаю, что он и сам писал когда-то стихи и некоторые из них читал, выдавая за чужие. Перед смертью, когда я зашёл к нему в больницу, он мне тихо, тихо прочёл:
* Я сто раз умирал. Я привык
Умирать, оставаясь живым.
Я, как пламя свечи, каждый миг
В этой вечной борьбе невредим.
Умирает не пламя, свеча.
Тает воск, а душа горяча.
И в борьбе пребываю, уча
Оставаться собою самим…
Он не сказал, чьи это стихи, и я подозреваю, что он их написал сам под влиянием какого-нибудь древнего восточного поэта.
Хлопнула дверь, и крадущейся походкой к столу прошествовал Музыкант. Он кладет аккуратно и как-то даже торжественно свою дерматиновую сумку и облегченно вздыхает.
— Ты что, продал свою трубу? — с радостным удивлением почти кричит Коленвал. Музыкант снова вздыхает и тихо говорит:
— Скучные, пещерные люди. Им тряпки да жратва мозги, разъели аки черви навозные.
Он садится на стул, длинный, нескладный мужик лет пятидесяти, с манерами районного интеллигента, бросает длинноперстные руки на выщербленную поверхность стола и говорит небрежно, кивая на сумку:
— Остатки чужого пира. Отобедать бы надо.
Коленвал бросается к столу и выкладывает из сумки какие-то пакеты, нарезку и присвистывает:
— Ого, да тут и бутылка горючего! Где ты это раздобыл? Я же только что всю округу обшарил.
— На Брестской.
— Как тебя туда занесло?
Музыкант что-то объясняет, а я думаю, что он вряд ли когда-нибудь продаст свою трубу, на которой, по его словам, играл сам Эдди Рознер и даже оставил инициалы на ней. Музыкант просит за неё десять тысяч долларов, как за реликвию, но ему никто не верит. Может быть, и впрямь на ней играл знаменитый джазмен, во всяком случае, она выглядит старой и заслуженной, с едва различимыми буквами «Э. Р.».Музыкант сам когда-то играл на трубе в оркестре Дворца Культуры, но, когда жена выгнала его из квартиры, ушёл сначала в комнату, которую снял, а потом, когда оркестр и Дворец Культуры перестали существовать — на улицу, ибо платить за жильё стало нечем, а найти новую работу он не смог. Единственное, что у него оставалось дорогого — это труба, и, может быть, он нарочно назначил за неё такую большую цену, чтобы её никто не купил.
У меня с Музыкантом ровные, хорошие отношения. Я немного жалею его, он знает это, и не обижается. У него есть два брата и сестра. Все они неплохо устроены, но Музыканта они знать не хотят, так же как и он их.
Снова хлопает дверь, и вкатывается большой клубок из сильно потёртого меха, всклокоченной шерсти и пепельно-серого островка кожи, на котором поблескивают глаза и задиристо топорщится нос.
— А вот и мадам Кирюня! — кричит Коленвал, — издаля унюхала колбасу. Ну и нюх! Пошибче, чем у Диогена,
Кирюня вяло огрызается, снимая с себя шубу и громадную лохматую шапку. Бросает их на кушетку Коленвала и подходит к висящему на канализационной трубе зеркалу. Заскорузлыми, толстыми пальцами поправляет редкие клочковатые волосы и говорит вслух сама себе:
— Ничего. Ещё на две драки хватит.
— Что, опять подралась с Крохой? — язвительно спрашивает Коленвал, раскладывая снедь.
Кирюня не отвечает и толкает меня в бок:
— А ты что развалился? Особого приглашения ждёшь?
Говорит она добрым по-матерински голосом, да и вообще она не злой, сострадательный человек, а её периодические драки с Крохой — такой же бездомной и одинокой женщиной, как и она — это, скорее, некий ритуал, потеха для себя, а больше — для других, сродни любому спортивному состязанию. Часто после такой драки сердобольные люди давали им деньги и сопереживали по поводу телесных повреждений. И, похоже, что больше всего ей нравилось именно сострадание.
Я смотрю на Кирюню, на её немного бугристое, как осеннее поле, погасшее лицо, её впитавшие застывшую тьму зимних сумерек глаза, и вспоминаю, что Псих называл её Нутром неба. Я вылезаю из своего кокона и подвигаюсь к столу.
— Партайгеноссе, а где колбаса партии? — не унимается Коленвал. У него хорошее настроение и, скорее всего, это связано с его новой идеей. Он разливает водку по разнокалиберным питейным принадлежностям, но у всех оказывается поровну. Я беру фарфоровую чашку без ручки, бутерброд с шибко пахнущей рыбой и сажусь на ложе. Мне не хочется пить водку сразу после сна, она обжигает и без того немощную плоть, но и отказаться не хватает смелости, чтобы снова не нарваться на насмешки. Пусть они и беззлобные, и даже, можно сказать, снисходительные, но в моём возрасте любые шутки почему-то неприятны.
Я начинаю думать о Психе и мысленно с ним разговаривать. Вообще я стал замечать, что мне приятнее говорить с мёртвыми, в крайнем случае — с отсутствующими, которых воображаю такими, какими они были в лучшие минуты нашего общения, понимая меня так же, как и я понимал их. Живые мне, как правило, неприятны своей тупостью, непоследовательностью, жестокосердием и жадностью, от них можно ждать всего, что у годно, в отличие от мёртвых. Я представляю, как Псих, раза два обвив одной ногой другую, держит стакан двумя пальцами и, нежно обнимая его, говорит:
— У тебя много родственников. Почему ты не хочешь осесть у кого-нибудь из них? Например, у сына или у сестры? Валандаешься с отбросами вроде меня…
Разговор у нас идёт на одной и той же ноте, которую я назвал бы умиротворённой, как течение равнинной реки, с долгими не тягостными паузами. Я отвечаю и одновременно слушаю себя как бы со стороны.
— Это наказание. Должны же мы ответить за то, что дали негодяям развалить страну. На самоубийство у меня воли не хватает, потому что я — слабак. Но и жить, как ни в чём не бывало, тоже не могу. Вот и отдал квартиру сыну. Он-то не виноват в этом бардаке. Пусть живёт. А жену я ещё при Черненко похоронил. Обноски на себе ношу, как вериги, и горжусь этим, даже зауважал себя за то, что на поступок сподобился.
— Ты же ведь фигурой был, не пешкой. Что же не позаботился допрежь, как повытурили вас из всех кабинетов?
— А кто знал, что из меченой башки Горбача, как из драконова яйца, вылупится это иудово племя?
— Надо было знать. Перестали вы питаться Высшим Разумом, перестали понимать мир, вот и засохли, как древо без воды. А все сухое огонь пожирает. Это древний закон.
Голос Психа заглушают крикливые слова Коленвала:
— …Да рвать отсюда надо, пока не загребли! Я ж говорю, там целый коттедж на колёсах. И место — лучше не придумать, в закутке, сразу и не найдёшь. Будем там, как у Лужка за пазухой.
— Жди! Пригреет он там тебя, аж сопли полезут из всех дырок, — возражает Музыкант. — Из этого попрут, другой найдём.
— А ты сначала найди, — вступает в разговор Кирюня, — да попробуй зайди туда. Распилили «железный занавес» на металлические двери в каждую конуру…
Но Коленвал не сдаётся:
— А ты, Партайгеноссе, почему не голосуешь?
Но я предлагаю сначала пойти всем и посмотреть на найденный Коленвалом «коттедж», а уже потом решать…
…После почти теплого подвала меня пеленает холодная позёмка, она завивается меж домами в круговерть, забирается за воротник, и я прижимаю его поплотнее к телу. Встречные сторонятся нас, обходя, чтобы случайно не коснуться, и только дети не обращают внимания и пробегают, задевая своими шелестящими куртками.
Я немного отстаю и снова слышу голос Психа:
— Самое недолговечное чувство в человеке — это любовь. Честолюбие, жадность, злобство, зависть живучи, как споры ядовитых грибов. А вот любовь, даже всепоглощающая, приходит, как жиличка, ненадолго, и покидает сердце, оставляя следы разрушения и тлена. А между тем, сильнее, чем любовь, чувства нет. Может быть, поэтому она и сгорает так быстро… Ты любил?
— Да. Но это было давно, и я уже почти не помню этого сумасшествия.
— И ты не жалеешь, что потерял её?
— Наверно жалею. Но больше всего жалею, что потерял пространство. Иногда я чувствую, что задыхаюсь в тесноте домов, человеческих тел, машин, окриков «Низзя!» Мой мир сузился до размеров скотного двора.
— А ты посмотри на небо, и тебе станет легче. Страшнее другое — потерять будущее. Без него всё остальное теряет смысл. Вера в будущее — это и есть вера в Бога. А Бог —это Вечность Будущего.
Я невольно смотрю на небо, но ничего, кроме снежной мглы, не вижу. Мне просто холодно и одиноко. Нога моя скользит, и я машинально хватаюсь за чью-то руку. Человек шарахается от меня и торопливо обгоняет нашу компанию. Впереди всей процессии идёт Коленвал, я вижу, как бодро подпрыгивает его спортивная шапочка, и как он иногда оглядывается на перекатывающуюся и тяжело дышащую за его спиной Кирюню, на Музыканта и на меня, матерно подгоняя нас.
Мы проходим вдоль длинного забора и оказываемся на заброшенных железнодорожных путях. Холодно, пустынно, убого. Сколько уже лет эти запорошенные снегом ржавые рельсы не знают весёлого перестука колёс и теплоты прикосновения к ним человеческих рук?
В тупике виднеется одинокий старый пассажирский вагон, какие ходили по дорогам страны после войны. Мы подходим к нему, и Коленвал, встав на единственную подножку, с трудом открывает тяжёлую дверь. Я стою поодаль, шагах в пяти, и с любопытством смотрю на этого обшарпанного железнодорожного трудягу с заколоченными досками окнами. Снегопад прекратился, и в размывах тяжёлых туч, медленно уходящих на юг, проглянула предвечерняя синева неба.
Усиливается ветер.
Я стою и читаю выцветшие от давности надписи на потемневшей зелени вагона: «проверка тормозов», «МЖД СССР», «количество мест — 60», и недавние, сделанные мелом: «ЦСКА — чемпион!», «Гони в Саратов», «Пошли вы на...» и почти под самой крышей: «Россия».
Внутри вагона большинство полок выломано, а в дальнем углу свалены, как попало, бюсты, видимо, из красных уголков станций и депо, лозунги на красных полотнищах, какие-то книги и папки с бумагами.
Коленвал воодушевленно говорит:
— Окна забьём, как следует, оставим только пару со стёклами, поставим буржуйку, общий стол, и каждому — по купе. Я присмотрел унитаз для туалета, а под вагон бочку подкатим. И всё будет, как в лучших домах Лондона и Парижа.
Потом он смотрит на потускневшее лицо Музыканта, на его гримасу и поспешно добавляет:
— Зато нас отсюда ни одна зараза не турнёт. Свой дом на колёсах. Да и кому нужна эта старая рухлядь? Всё, отъездила, отлетала.
— А что? Тут и для меня можно будет угол отгородить. Вот только без света будет худо, — Кирюня смиренно улыбается и садится на одну из полок.
— Почему это — без света? Я что, зря двадцать два года вкалывал электриком в ЖЭКе? — приободрился Коленвал и начал расписывать, каким будет наш коттедж на колесах…
Выйдя из вагона, мы расходимся на поиски съестного, и я ухожу в облюбованный мною район, где дворы забиты иномарками, в подъездах сидят консьержки, а окна занавешены дорогими шторами. Там стоят несколько контейнеров, в которые частенько скидывают просроченные к употреблению продукты. К тому же, у меня налажена связь с уборщиками мусора.
Первый же контейнер встречает меня незнакомой надписью мелом: «Столовая по случаю переучета шницелей закрыта навсегда». Тем ни менее, я заглядываю в вонючее нутро и нахожу только несколько перевязанных стопок книг, среди которых «Воскресенье» Л. Толстого, «Двенадцать» А. Блока, несколько томов Тургенева, Платонова, фадеевскую «Молодую гвардию», «Русский лес» Л. Леонова, сборники стихов…
В другом контейнере повезло больше: не вскрытая нарезка колбасы, банка шпротов, хлеб и полбанки пива. Я ещё долго брожу по знакомым издавна местам такого родного и такого чужого мне города. Я вспоминаю: здесь был дом детского творчества, куда нас приглашали на праздники и выставки. Теперь — это офисы каких-то коммерческих фирм. Стоит с забитыми окнами и следами недавнего пожара бывший детский сад, омертвело смотрят глазницами окон цеха завода металлоизделий, бойко развевается триколор над бывшим зданием райкома. В окнах тьма и настороженность, такие же, как и в глазах охранников новой власти.
Поскрипывает снег под ногами, вспорхнули синицы с дерева, вздрогнула качнувшаяся под ними ветка, сбросив хлопья снега, донёсся женский голос:
— Денис, иди ужинать! — и мне становится легче, сердце неведомо как освобождается от липкого груза воспоминаний и обид. Я возвращаюсь в наш подвал первым, и меня охватывает грусть, как при расставании с родным домом. За два года жизни в нём я успел привыкнуть к этим плачущим трубам, бормочущим стоякам, тусклому свету единственной лампочки, к моему ложу и старому креслу, в котором так любил сидеть Псих, и даже к коту Горлопану, безмятежно спящему на топчане Музыканта.
Диогена нет. Он живёт, в основном, на улице и только иногда забегает в надежде, что ему перепадёт что-нибудь с нашего стола.
Во влажных сумерках подвала я почти физически ощущаю сидящего в кресле Психа и говорю ему о скором переезде в старый вагон. Псих равнодушно отвечает:
— Не забудь взять книги. Не оставляй их. Нельзя бросать живое существо, даже если оно никому не нужно. А в хороших книгах живая душа страдает.
Я ему рассказываю, что нашел сегодня несколько книг на помойке, но не взял их, а взял колбасу.
— Ну, не взял, и не взял. Значит, пришло время колбасы, а время книг ушло. Страшно не это, — продолжает он. — Страшно то время, которое последует за временем колбасы.
— Ты преувеличиваешь, Псих. Человечество прекрасно чувствует себя без книг, без всех этих романов и стихов, без опер и симфоний.
Я говорю это с нарочитой издевкой, но Псих не обращает внимания на мой тон и произносит тихим ровным голосом:
— Провидение беспощадно и чуждо жалости. Всё, что происходит, происходило, и будет происходить, давно записано в его небесных скрижалях. И другого ничего не может быть, как бы самонадеянное человечество не изгалялось в своём сумасбродстве. Никто не в силах остановить ход истории, предначертанный Провидением. А Россия... Она уже «как гость на празднике чужом».
— Но ведь есть же святые и их молитвы о спасении!
— Да, есть. Но на каждого святого уготован свой крест.
—Что же теперь сидеть и ждать своей участи?
—Надо жить. Просто жить, как велит совесть твоя, разум твой и вера. Надо жить, - повторят Псих и умолкает, растворяясь в полоске света падающего на кресло через открывающуюся дверь.
…Две недели мы приводим вагон в порядок, утепляем его, ставим что-то вроде буржуйки и унитаз, а Коленвал пробрасывает от какой-то линии провод и вешает лампочку. Долго спорим, что делать с бюстами и лозунгами. Бумага само собой пойдёт на растопку. Наконец Кирюня разрешает наш спор:
— Бюсты я оставлю себе. Люблю решительных мужиков.
День нашего переезда совпал с последним днём сырной недели и кануном Великого поста. С утра мы разошлись в поисках еды для праздничного стола по случаю новоселья и по разным другим нуждам и неотложным заботам.
…Прежде, чем заняться промыслом, отправляюсь к дому, где жил когда-то, и живёт теперь сын с разумной, хорошо умеющей считать, женой и сыном, — внуком моим. Дорога неблизкая: сперва нужно ехать на трамвае, потом на метро и, наконец, идти пешком минут десять. На этом пути всегда случаются какие-нибудь неприятности, поэтому я редко позволяю себе это путешествие в прошлое.
Вот и теперь у входа в метро меня останавливает милиционер, упитанный до невменяемости, с дубинкой у пояса и устало говорит:
— Ваши документы.
Он долго перелистывает паспорт, потом смотрит на меня одновременно с удивлением и подозрительностью, задает пару дурацких вопросов и отпускает с миром.
… Я осторожно подхожу к родному дому, чтобы не столкнуться лицом к лицу со знакомыми или, тем более, родными. Мне очень хочется увидеть их, обнять внука, поговорить с сыном... Душа моя рвётся к ним, не внимая доводам разума. Усиливается ветер, бросая, редкие снежинки с такой колкостью, что я поднимаю воротник и прячу в нём лицо.
— Ну вот, думаю я, и природа помогает мне оставаться незамеченным.
Я подхожу к дому так, чтобы видеть издалека свой подъезд и окна квартиры, и долго, долго стою, не отрывая от них слезящихся на ветру глаз. Молча проглатываю слова немудрёной молитвы:
— Господи, помилуй детей и внуков наших и прости меня, грешного…
Снегопад густеет, превращаясь в метель, и меня начинает колотить дрожь. Вспоминаются слова Психа:
— Дайте мне точку опоры, и я поставлю мир на прежнее место.
Разум всё-таки одерживает победу в очередной раз, и я отправляюсь в обратный путь, так и не увидев своих дорогих.
…К вечеру мы собираемся в нашем новом обиталище, принеся с собой самую разнообразную снедь. Последней вкатывается Кирюня, подталкивая впереди себя двух обшарпанных пацанов лет девяти-десяти,— бездомных детей. По-матерински она увещевает их:
— Замёрзнете ведь. Вон, какая метель занялась, с ног сшибает, а тут отогреетесь да насытитесь, чем Бог послал да добрые люди подкинули.
Сообща мы устраиваем шикарный стол. Коленвал включает транзистор и жарче распаляет печь. И только Музыкант сидит на своей полке и тупо рассматривает трубу. Его цепляет Коленвал:
— Ты что, давно не видел её? Вчера только ходил с ней в музей музыкальных инструментов. Да, кстати, что тебе сказали?
Но Музыкант молчит, продолжая слепыми глазами смотреть на свою реликвию. Потом подносит ее к губам, и из застывшего горла трубы вырываются первые два такта «Прощания славянки». Но он тут же откладывает её и тяжело вздыхает. Глаза его наполняются какой-то тревожной мыслью, он смотрит на нас и вдруг виновато, по-детски, улыбается. И тут Коленвал произносит своё знаменитое:
— У меня есть идея!
И Горлопан орёт в ответ благим матом. Коленвал успокаивает его пинком и продолжает:
— Я сдеру с этих мошенников миллион! Нет, два миллиона! Партайгеноссе, ты когда-нибудь считал, сколько спичек в коробке? Должно быть пятьдесят. Я проверил сто коробок. Во всех было не больше 47, c в основном 43-44. Вот гады - буржуи, на спичках даже нас дурят. Я уже консультировался, как написать заявление в суд на спичечные фабрики. С каждой потребую по миллиону за обман и моральный ущерб!..
Но его никто, кроме меня, не слушает. Эту обличительную речь прерывает Кирюня:
— Давай-ка за стол, прокурор голозадый!
Мы неспешно, занимаем места за столом. Кирюня усаживает пацанов около себя, дает им тарелки и вилки, а Коленвал священнодействует с бутылкой водки по только ему известному обряду. За стёклами вагона завывает ветер, слышно, как шуршит по крыше снег. Вагон подрагивает от внезапных порывов мятущегося над землёй воздуха, но тихое потрескивание дров в печке, музыка в транзисторе и нежно обволакивающий душу глоток водки рождают в нас бесшабашное настроение.
Мы хорошо сидим. Мир где-то там, далеко от нашего тупика, шелестит колёсами иномарок, долларами, платьями красавиц и крылышками надежд. У меня на коленях уютно устроился Горлопан, я машинально провожу пальцами у него за ухом, и он тихо и блаженно мурлычет. Кирюня кормит пацанов и о чём-то их расспрашивает. Музыкант держит в одной руке вилку с огурцом, в другой трубу, а Коленвал всё пьёт и пьёт водку, но почти не пьянеет…
Вдруг вагон вздрагивает, издавая радостный металлический звук. Сначала насторожился Горлопан. Потом и нам стало не по себе от явного ощущения движения и поскрипывания колёс. Погас свет, и мы окончательно поняли, что вагон куда-то едет. На какое-то время мы потеряли способность говорить и двигаться. Первыми пришли в себя пацаны и бросились к выходу. Мы очнулись. Кирюня побежала вслед за ними, но успела остановить только последнего:
— Куда ты, глупыш! Не в Америку-чай, увезут. Ну, оттащат на пару вёрст, и опять встанем на мёртвый якорь.
Я зажигаю свечу, припасённую на крайний случай, и тихий ровный свет возвращает покой и смирение. Музыкант подносит трубу к губам, и марш «Прощание славянки» наполняет движущийся по ржавым рельсам вагон. Звуки трубы разрываются в надломе и тоске, вызывая отчаянное желание изменить, переиначить всё вокруг. Сквозь звуки марша я слышу голос Психа, идущий как-будто из нутра мира:
— Это было со мной, это и тебя достигла мольба России: «Стою у сердца каждого и стучусь».
И я понимаю, я внезапно озаряюсь ответом, что мне делать. Я встаю, иду к выходу и хочу открыть дверь, но дорогу мне преграждает Кирюня:
— Не надо. Пойди, помоги мне. В моей загородке Коленвал повесился.
Николай Васильевич Беседин
___________________________
* Из афганских поэтов в книге Ю.Семенова : «Дипломатический агент»
На безвестную жизнь мелочей
Как внимательно солнце глядит,
Мелкоту не лишая лучей,
И никто им не будет забыт.
Человек, если вправду велик,
Малых сил презирать не привык,
Он глубоко в их душу проник –
как внимательно солнце глядит.
***
СВЕЧА
Я сто раз умирал, я привык
умирать, оставаясь живым.
Я как пламя свечи каждый миг
в этой вечной борьбе невредим.
Умирает не пламя – свеча,
Тает плоть, но душа горяча.
И в борьбе пребываю, уча
Быть до смерти собою самим..
* * *
Дали месяцу серп для чего
и пустили в небесную гладь?
Чтоб с людей не от мира сего
И с мечтателей жатву собрать.
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 05.03.2025, 07:58 | Сообщение # 1581 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Я научилась просто, мудро жить…
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.
Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.
Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.
Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.
1912 г.
***
Молитва
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
1915 г.
***
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор всё как будто больна.
1917 г.
* 21 мая 1917 г.
В Кронштадт выезжает президиум Исполнительного Комитета Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. В этой делегации примут участие представители всех фракций.
В Кронштадте, на несколько месяцев раньше, чем в других городах и селах России был ребром поставлен и в пользу Советов решён главный вопрос 1917 года: какой класс будет править?
***
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее, —
Мне голос был.
Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернялся скорбный дух.
1917 г.
***
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
1922 г.
***
Клятва
И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!
1941 г.
***
Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!»
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон — смерть.
И стоит везде на часах
И уйти не пускает страх.
1941 г.
***
Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
1942 г.
***
Победа
1
Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.
2
Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча, —
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.
3
Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей, —
Так мы долгожданной ответим.
***
И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку, и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.
1945 г.
***
Москва… как много в этом звуке…
Пушкин А. С.
Как молодеешь ты день ото дня,
Но остаешься всегда неизменной,
Верность народу и правде храня,
Жаркое сердце вселенной!
Слышны в раскатах сирен трудовых
Отзвуки славы московской…
Горький здесь правде учил молодых,
Жизнь прославлял Маяковский.
Плавный твой говор, рассвет голубой,
Весен твоих наступленье!
Солнечный праздник нам — встреча с тобой.
Мыслей и чувств обновленье.
1949 г.
***
Пусть миру этот день запомнится навеки,
Пусть будет вечности завещан этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной смерти спас.
Ликует вся страна в лучах зари янтарной,
И радости чистейшей нет преград, —
И древний Самарканд, и Мурманск заполярный,
И дважды Сталиным спасенный Ленинград
В день новолетия учителя и друга
Песнь светлой благодарности поют, —
Пускай вокруг неистовствует вьюга
Или фиалки горные цветут.
И вторят городам Советского Союза
Всех дружеских республик города
И труженики те, которых душат узы,
Но чья свободна речь и чья душа горда.
И вольно думы их летят к столице славы,
К высокому Кремлю — борцу за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит, как помощь и привет.
21 декабря 1949 года
***
И Вождь орлиными очами
Увидел с высоты Кремля,
Как пышно залита лучами
Преображённая земля.
И с самой середины века,
Которому он имя дал,
Он видит сердце человека,
Что стало светлым, как кристалл.
Своих трудов, своих деяний
Он видит спелые плоды,
Громады величавых зданий,
Мосты, заводы и сады.
Свой дух вдохнул он в этот город,
Он отвратил от нас беду, —
Вот отчего так твёрд и молод
Москвы необоримый дух.
И благодарного народа
Вождь слышит голос:
“Мы пришли
Сказать, — где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!”
Декабрь 1949
***
Так будет!
Не надо нам земли чужой,
Свою мы создаем, —
И одарил ее водой
Могучий водоем.
Не засуху, не недород,
Не раскаленный прах —
Благоухание несет
Здесь ветер на крылах.
Не будет больше черных бурь,
Губящих как самум,
Увидит свежую лазурь
Пустыня Кара-Кум.
И дети, ясным вечерком
В тени гоня овец,
Уже не ведают, о чем
Печально пел отец…
Но что в моей стране труда
Теперь произошло,
То лучезарным навсегда
В историю вошло.
1951 г.
***
Родная земля
В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.
1961 г.
Анна Андреевна Ахматова (11 (23) июня 1889 - 5 марта 1966)
_________________________________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Среда, 05.03.2025, 08:01 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 18.03.2025, 09:58 | Сообщение # 1582 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Говорят, под Новый год… Почти сказка
У ярко освещенной витрины с дорогими игрушками стояла нескладная девочка-подросток. Казалось, она не чувствовала мороза, не замечала своей крупной размеренной дрожи.
Мимо нее, весело смеясь, проходили с подарками богатые люди. Она не слышала их. Чуть погодя и некого стало слышать, улица опустела – до Нового года оставалось чуть больше часа.
Ровно за час раздался скрип тормозов, и из остановившегося «мерседеса» вышел блестящий молодой ученый, член Академии наук, консультант крупнейших зарубежных корпораций, красавец Александр Орлов. Он ехал к своей невесте Жанне, балерине Большого театра, с которой был продлен контракт, и решил, кроме дорогих подарков, купить ей еще игрушку.
– Кто ты, девочка? Что ты здесь делаешь одна? – спросил Александр, заметив несуразное существо.
– Я – девочка? – обернулась девочка. – Ну ты даешь! Я – проститутка.
Александр инстинктивно отшатнулся, но приличия требовали продолжить разговор, и он сказал:
– Ты вся промерзла.
– Невезуха! – объяснила девица. – Ни одного клиента. Представляешь? Довели страну.
Александр понимал, что надо бы повернуться и уйти, но врожденная интеллигентность не позволяла сделать это.
– Где Новый год встречаете? – светски спросил он.
– Где, где… – начала девица, но тоже что-то удержало ее от рифмы. Наверное, тоже врожденная интеллигентность Александра. – Нигде, – закончила она.
И сейчас еще можно и нужно было оборвать разговор, но как будто остановилась перед Александром тень Федора Михайловича Достоевского и как будто бы Федор Михайлович прошептал: «Нужно, чтобы каждому человеку было куда пойти».
– Я приглашаю вас, – неожиданно для себя, девицы и Федора Михайловича сказал Александр.
– Сто долларов, – сказала девица, твердо зная, что сейчас ей красная цена сорок, а по случаю возможного скорого окоченения даже тридцать. По всему телу пролетело: «Хоть бесплатно, но в тепло», но она повторила: – Сто.
– Да, да, – машинально ответил Александр.
***
– Жанна! Жанна!
– Алекс! Наконец-то!
Они обнялись.
– Познакомься, пожалуйста, это Надя, она проститутка. Представь себе, чуть не замерзла на улице.
– Проститутка? – Жанна подошла, щуря подслеповатые от беспрерывного чтения стихов глаза. – Очень приятно. – С невыразимой грацией она протянула пришелице свои чудесные руки и сказала: – Будем подругами.
Наде никогда не случалось бывать в таких богатых домах. Каждую вещь, которую она видела, ей хотелось взять и унести.
В камине в гостиной, где находились все трое, весело потрескивали березовые дрова. Тихо отворилась дверь, и вошла мама Жанны Лада Вениаминовна.
– Мама! Ты посмотри, кто у нас! Алекс привел проститутку! Она замерзала на улице.
– Какая прелесть, – всепонимающе улыбнулась Наде Лада Вениаминовна. – Будьте как у себя дома.
– Ой, у меня такой бардак!
– Тогда будьте как у себя в борделе.
– Спасибо.
– Саша, – отнеслась Лада Вениаминовна к будущему зятю, – вы сейчас так напоминаете своего дедушку. Он тоже любил приводить домой проституток.
Фраза была несколько двусмысленной, но она неожиданно рассеяла остававшееся напряжение, и все весело засмеялись.
Вскоре стали собираться гости: крупные банкиры, бизнесмены, деятели культуры. Странно, но почему-то Надя чувствовала себя среди них абсолютно своей.
Ее внимание привлек один высокий красивый старик, профессор консерватории. Он был, как оказалось, неизлечимо болен.
– Завтра умру, – доверительно сказал всем профессор.
Никто не мог сдержать слез.
– А что с тобой? – вырвалось у Нади.
– Рак легких.
– Ой, плюнь! У нас одного сутенера залечили сволочи. «Рак легких, рак легких!» Деньги тянули. А у него оказалась простуда. Нужно выпить стакан водки с перцем – и как рукой снимет.
Старик горько улыбнулся, но перед ним на серебряном подносе уже стоял стакан водки с перцем.
– Модест Ипполитович, – сказали все, – а вдруг?! Что вы теряете?
Слабеющей рукой профессор опрокинул в умирающее тело стакан водки… и ему стало лучше. После второго стакана ему стало хорошо.
– У меня никого нет! – крикнул после третьего стакана водки полностью возвращенный к жизни Модест Ипполитович. – Был сын Сергей, он погиб в Чечне, защищая Родину… Надя, позвольте мне удочерить вас!
– Давай.
Она сказала это просто, обыденно, но все вдруг ясно почувствовали, что в нашей жизни есть место чудесам. В перезвоне бокалов слышалось: «Есть, есть, есть место чудесам».
По радио попросили отгадать какое-то слово из трех букв. Правильный ответ давал выигрыш 1 000 000 рублей. Надя кинулась к телефону и дозвонилась первой.
Было без пятнадцати двенадцать, когда в квартиру нетерпеливо позвонили. Надя кинулась к двери и первой открыла ее. Вошли трое в масках с автоматами.
Гости, за исключением уже неизлечимо пьяного Модеста Ипполитовича, привычно повернулись лицом к стене, расставили ноги и подняли руки. Надя поняла, что сейчас у нее украдут ее недолгое, но такое веселое счастье. Она подскочила к самому здоровому из налетчиков и с криком «Довели страну!» сорвала с него маску.
Наступила предсмертная тишина. Тишину разбавил шум неверных шагов. К красавцу бандиту шел Модест Ипполитович.
– Сережа! – шептал он. – Сынок!.. Ты жив?
– Отец! – сказал Сережа, не сводя глаз с Нади. – Я жив. Я сбежал от дедовщины. Сейчас граблю богатых и отдаю все бедным.
– Так ты пришел грабить?
– Нет, я пришел отдать.
Они горячо обнялись. Двое товарищей Сережи дали каждому из гостей по бриллианту, по рубину и по пачке печенья.
Куранты начали бой. Все кинулись к столу – нужно было успеть проводить старый год.
С десятым ударом проводили старый, с двенадцатым встретили новый.
В полуночных новостях передали, что Госдума приняла закон «Любить ближнего как себя самого», что в стране открыты новые месторождения нефти, золота, титана и платины, что футбольный клуб «Спартак» куплен английским миллиардером.
Вообще в первую ночь Нового года повсюду на территории России творились неслыханные чудеса. Так, чиновник Криворуков не взял от одного из своих гостей взятку. Долго потом он не мог объяснить себе, как это случилось. Жена водила его к психиатрам, те только руками разводили. Промучившись, так и не найдя объяснения, потратив все сбережения на лечение, в полной нищете и одиночестве Криворуков через год умрет. Но все это будет потом.
А сейчас Сережа и Надя, взявшись за руки, идут по заснеженной Москве. Кто не верит в чудеса, может дальше не читать.
Сережа и Надя оказались возле той самой витрины с дорогими подарками, с которой начинался наш рассказ.
– Всё как в сказке, – сказала Надя.
– Так может везти только в новогоднюю ночь, – сказал Сергей.
Он сложил руки рупором и громко крикнул:
– Так может везти только в новогоднюю ночь! Люди, будьте счастливы! Вы слышите меня?
– Слышим, – раздался из ночи хрипловатый мужской баритон.
Перед Сережей и Надей объявился армейский патруль.
– Кто тебя за язык тянул? – спросил старший наряда. – Я тебя, дезертира, по голосу узнал.
Через секунду снежная пелена поглотила Сергея.
Надя одиноко стояла перед витриной, она не помнила адреса Жанны, не знала ее телефона, но почему-то верила, что счастье теперь не отвернется от нее.
И только она подумала так, только эта радостная мысль осветила все закоулки ее души, как послышался скрип тормозов, у обочины остановился «мерседес». Весело смеясь, Надя подбежала.
Из-за приоткрытой дверцы веселый голос спросил:
– Свободна?.. Залезай!
«Поперло, – весело подумала Надя, – пошел клиент».
«Мерседес» исчез, как и появился, – неожиданно. Перед праздничной витриной никого больше не было.
***
Жена-невеста
Вечером жене говорю:
– Девушка, где я вас мог видеть?
Это у нас такой условный сигнал – мол, как ты сегодня?
Она:
– Сегодня даже не мечтай, сегодня я себя плохо чувствую, очень устала – весь день без воздуха.
И главное – смотрит как-то враждебно. И наверное, чувствует, что неправа – еще больше раздражается:
– Что ты спрашиваешь, сам бы мог заметить, но ты же только о себе думаешь. Это у меня к тебе чувства, а у тебя ко мне одни инстинкты, и даже в них ты меры не знаешь!
Какая мера-то?.. Минздрав ничего не предупреждал.
Еще сказала, что она забыла, когда я ей цветы дарил и когда последний раз шампанским угощал. Потом знаешь что сказала? «Жена – всю жизнь невеста».
Вот занесло ее! Двенадцать лет замужем – все невеста. И инстинкт, между прочим, – это не прихоть, а приказ космоса. Приказ! Его умри, но выполни.
Я вижу – она в таком состоянии, что ей бесполезно объяснять про космос. Взял незаметно ключи от машины, говорю:
– Пойду прогуляюсь, что-то тоже воздуха не хватает.
Сел в машину и рванул на улицу. У нас они там стоят, которые космосу помогают. Подъехал к одной, спрашиваю:
– Сколько?
– Четыре тысячи.
– Четыре?!
– Да.
– Абонемент, что ли, на год?
– За час. Деньги вперед.
Думаю: «Это если рабочий день восемь часов, если даже с выходными, то получается… восемь на четыре и еще на двадцать два… получается… не хуже, чем у министров, а может, и получше. Неплохо устроились… министры-то. Хотя их тоже каждый день… трясут будь здоров».
Говорю:
– Что значит «деньги вперед»? А если товар залежалый?
Она мне:
– Не на рынке.
В смысле – пробовать не даем.
Конечно, немного я растерялся, спросил:
– Четыре тысячи чего?
Она:
– Можешь в евро, можешь в рублях.
Ну тут уж я нашелся, говорю:
– Лучше в рублях.
А потом, когда окончательно прояснило, как я заору:
– Четыре тысячи?! Да у меня жена за четыре тысячи неделю пашет без воздуха, без шампанского. Совесть у тебя где?
Она сказала, где у нее совесть, и тут еще вижу, бегут ко мне два мордоворота. Я по газам.
Еду, думаю: «Ничего себе! Четыре тысячи, хамство какое! За что, собственно? А мне деньги даром, что ли, даются?.. Четыре тысячи! Это не напасешься! Куда правительство смотрит? Чем президент занят? Знают они, по каким ценам народ живет, горе мыкает?!»
Я плюнул даже… Попал в лобовое стекло – ничего не видно сразу, но зато так ясно стало, что проституция – это позорное явление нашей жизни. Позорище! Грязь!.. Это же – грязь! Где грязь стоит четыре тысячи? Если два раза в неделю весь в грязи, это два на четыре и еще на четыре… тридцать две тысячи! Совсем, что ли, они с ума сошли? А в семью тогда что? Детям что останется? Дети растут не по дням, а по часам. Что творят, гадюки!.. А если каждый день в грязи? Это четыре тысячи на тридцать дней… Сколько примерно?.. Это сразу даже не сосчитаешь.
Потом успокоился немного, подкатил к супермаркету, взял шампанского, конфет, цветов два букета – и домой.
Вхожу – жена плачет и улыбается, говорит:
– А я видела, как ты незаметно ключи взял, еще подумала: «Может, он за цветами?»
Я говорю:
– Интересная ты. А куда еще я мог поехать?
Тут же всё на стол, а есть-пить не стали, весь день без воздуха – сразу в постель.
Легли, она локтем мне в бок ка-ак даст, говорит:
– Офицер, сигареткой не угостите?
Это у нас сигнал такой.
– С удовольствием, – говорю, – этого добра у меня!.. Хотя… Минздрав предупреждает: чрезмерное курение вредит вашему здоровью.
***
Совесть
Под самое Первое апреля всей семьей пошли в кино: теща, это жены мать, я сам, жена сама и наш с женой общий сын лет десяти.
Перед фильмом журнал пустили. В магазине кладут на пол сто рублей и снимают, кто поднимет и что будет делать. Все, конечно, сразу бегут к выходу. Там их останавливают, спрашивают: «Где же ваша совесть?» – и отбирают сто рублей.
Вдруг смотрю – я в очереди. И теща на весь зал кричит:
– Витю показывают! Это наш Витя!
И тут показывают, как я эти сто рублей с пола поднимаю, сую в карман и спокойно стою дальше.
В зале кто-то басом говорит:
– Ну и морда!
Теща тоже громко говорит:
– Нет, это не наш Витя!
Я спокойно стою в очереди, к выходу не спешу. Тогда режиссер засылает ко мне двух артистов. Оба аж посинели от холода. У нее на руках ребенок в драненьком весь – кукла оказалась, – у него ботинки на босу ногу.
– Не видел кто наших последних ста рублей?
И опять крупно меня. Я смотрю на них, но видно, что не слышу, о чем речь. Наверное, о своем о чем-то задумался. Тогда артист разворачивается, ка-ак пнет меня, я еле на ногах устоял. Спрашивает:
– Не на-хо-ди-ли вы ста рублей?
Я говорю:
– Время – без двадцати шесть. – И хотел отвернуться от них.
Тут ложная мать кричит:
– Убейте меня, не знаю, на что завтра купить кусок мяса грудному ребенку!
Народ на их искусство реагирует вяло, больше озирается – куда это сто рублей пропали.
Тогда фальшивая мать кричит:
– Помочь нам некому, мы неизвестные сироты из детского дома для глухонемых!
Тихо сразу стало в зале и в том магазине, всем стыдно сделалось, что совести у людей мало осталось.
И тут опять крупно меня. И что-то у меня в лице дрогнуло, я лезу в карман. Бас в зале говорит:
– Молодец, морда!
Теща плачет, кричит:
– Это наш Витя! Витечка наш!
Я лезу в карман, говорю:
– Учитывая, что вы сироты и что не в деньгах счастье, жертвую вам три рубля.
И тут все полезли по карманам, стали совать им кто рубль, кто червонец. И все чуть не светятся. Сотни две те набрали. Но они не рассчитывали на такой оборот, и режиссер им ничего не говорил. Стоят нерадостные. Отец совсем потерялся. Говорит мне:
– Что же вы, сукин сын, ничего больше не хотите нам дать?
И мать ребенка опустила, одной рукой за голову держит.
Я им говорю:
– Я и так от семьи оторвал. У самого семеро глухонемых детей, потому что жена алкоголичка все из дома тащит. Спасибо теще, хоть и спекулянтка, а выручала. Но вчера… царствие ей небесное, преставилась, а хоронить не на что.
Народ мне на гроб теще сбрасываться уже не стал – не до конца еще у людей совесть отогрелась.
А в зале ржут: над артистами, которые ребенка за голову держат, надо мной, что убиваюсь из-за их неблагодарности, и над тем, что я сто рублей выронил, когда за тремя лазил.
Народу журнал понравился. Бас сказал:
– Умереть со смеху.
И все радовались, что еще у людей немного осталось совести.
Только теща сказала:
– Ну и морда же наш Витечка!
Анатолий Трушкин
_______________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Вторник, 18.03.2025, 10:00 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 28.03.2025, 11:20 | Сообщение # 1583 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Мы не от старости умрем —
От старых ран умрем…
С. Гудзенко
Опоздало письмо.
Опоздало письмо.
Опоздало.
Ты его не получишь,
не вскроешь
и мне не напишешь.
Одеяло откинул.
К стене повернулся устало.
И упала рука.
И не видишь.
Не слышишь.
Не дышишь.
Вот и кончено все.
С той поры ты не стар и не молод,
и не будет ни весен,
ни лет,
ни дождя,
ни восхода.
Остается навеки
один нескончаемый холод —
продолженье
далекой зимы
сорок первого года.
Смерть летала над нами,
витала, почта ощутима.
Были вьюгою белой
оплаканы мы и отпеты.
Но война,
только пулей отметив,
тебя пощадила,
чтоб убить
через несколько лет
после нашей победы.
Вот еще один холмик
под этим большим небосклоном.
Обелиски, фанерные звездочки —
нет им предела.
Эта снежная полночь
стоит на земле
Пантеоном,
где без края могилы
погибших за правое дело.
Колоннадой тяжелой
застыли вдали водопады.
Млечный Путь перекинут над ними,
как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
уходят Карпаты
под торжественный купол,
где звезды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы.
Это скорбные вехи
пути моего поколенья.
Я иду между ними.
До крови закушены губы.
Я на миг
у могилы твоей
становлюсь на колени.
И теряю тебя.
Бесполезны слова утешенья.
Что мне делать с печалью!
Мое поколенье на марше.
Но годам не подвластен
железный закон притяженья
к неостывшей земле,
где зарыты ровесники наши.
***
Как я спал на войне,
в трескотне
и в полночной возне,
на войне,
посреди ее грозных
и шумных владений!
Чуть приваливался к сосне —
и проваливался.
Во сне
никаких не видал сновидений.
Впрочем, нет, я видал.
Я, конечно, забыл —
я видал.
Я бросался в траву
между пушками и тягачами,
засыпал,
и во сне я летал над землею,
витал
над усталой землей
фронтовыми ночами.
Это было легко:
взмах рукой,
и другой,
и уже я лечу
(взмах рукой!)
над лугами некошеными,
над болотной кугой
(взмах рукой!),
над речною дугой
тихо-тихо скриплю
сапогами солдатскими
кожаными.
Это было легко.
Вышина мне была не страшна.
Взмах рукой, и другой —
и уже в вышине этой таешь.
А наутро мой сон
растолковывал мне старшина.
— Молодой, — говорил, -
ты растешь, — говорил, -
оттого и летаешь…
Сны сменяются снами,
изменяются с нами.
В белом кресле с откинутой
спинкой,
в мягком кресле с чехлом
я дремлю в самолете,
смущаемый взрослыми снами
об устойчивой, прочной земле
с ежевикой, дождем и щеглом.
С каждым годом
сильнее влечет
все устойчиво прочное.
Так зачем у костра-дымокура,
у лесного огня,
не забытое мною,
но как бы забытое, прошлое
голосами другими
опять окликает меня?
Загорелые парни в ковбойках
и в кепках, упрямо заломленных,
да с глазами,
в которых лесные костры горят,
спят на влажной траве
и на жестких матрацах соломенных,
как убитые спят
и во сне над землею парят.
Как летают они!
Залетают за облако,
тают.
Это очень легко —
вышина им ничуть не страшна.
Ты был прав, старшина:
молодые растут,
оттого и летают.
Лишь теперь мне понятна
вся горечь тех слов,
старшина!
Что ж я в споры вступаю?
Я парням табаку отсыпаю.
Торопливо ломаю сушняк,
у лесного огня хлопочу.
А потом я бросаюсь в траву
и в траве молодой засыпаю.
Взмах рукой, и другой!
Поднимаюсь опять
и лечу.
***
Годы двадцатые и тридцатые,
словно кольца пружины сжатые,
словно годичные кольца,
тихо теперь покоятся
где-то во мне,
в глубине.
Строгие годы сороковые,
годы,
воистину
роковые,
сороковые,
мной не забытые,
словно гвозди, в меня забитые,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.
Пятидесятые,
шестидесятые,
словно высоты, недавно взятые,
еще остывшие не вполне,
тихо сегодня живут во мне,
в глубине.
Семидесятые годы идущие,
годы прошедшие,
годы грядущие
больше покуда еще вовне,
но есть уже и во мне.
Дальше — словно в тумане судно,
восьмидесятые —
даль в снегу,
и девяностые —
хоть и смутно,
а все же представить еще могу,
Но годы двухтысячные
и дале —
не различимые мною дали —
произношу,
как названья планет,
где никого пока еще нет
и где со временем кто-то будет,
хотя меня уже там не будет.
Их мой век уже не захватывает —
произношу их едва дыша —
год две тысячи —
сердце падает
и замирает душа.
1976 г.
***
…И уже мои волосы — ах, мои бедные кудри! —
опадать начинают,
как осенние первые листья
в тишине опадают.
Дух увяданья, звук опаданья неразличимый
исподтишка подступает,
подкрадывается незаметно.
Лист опадает, лес опадает,
звук опаданья неразличимый
в ушах моих отдается подобно грому,
подобно обвалу и камнепаду,
подобно набату.
Катя, спаси меня!
Аня, спаси меня! Оля, спаси меня!* —
губы мои произносят неслышно —
да нет, это листья,
их шорох, их шелест,
а чудится мне,
будто я говорю,
будто криком кричу я.
Лес опадает, лист опадает,
падает, кружится
лист одинокий,
мгновенье еще,
и уже он коснется земли.
Но — неожиданно, вдруг,
восходящим потоком
внезапно подхватит его,
и несет,
и возносит все выше и выше
в бездонное небо,
и — ничего нет, наверно,
прекрасней на свете,
чем эта горчащая радость
внезапного взлета
за миг до паденья.
* Три дочери — Екатерина, Ольга и Анна.
***
Вы помните песню про славное море?
О парус,
летящий под гул баргузина!
…Осенние звезды стояли над логом,
осенним туманом клубилась низина.
Потом начинало светать понемногу.
Пронзительно пахли цветы полевые…
Я с песнею тою
пускался в дорогу,
Байкал для себя открывая впервые.
Вернее, он сам открывал себя.
Медленно
машина взбиралась на грань перевала.
За петлями тракта,
за листьями медными
тянуло прохладой и синь проступала.
И вдруг он открылся.
Открылась граница
меж небом и морем.
Зарей освещенный,
казалось, он вышел, желая сравниться
с той самою песней, ему посвященной.
И враз пробежали мурашки по коже,
сжимало дыханье все туже и туже.
Он знал себе цену.
Он спрашивал:
— Что же,
похоже на песню?
А может, похуже?
Наполнен до края дыханьем соленым
горячей смолы, чешуи омулиной,
он был голубым,
синеватым,
зеленым,
горел ежевикой и дикой малиной.
Вскипала на гальке волна ветровая,
крикливые чайки к воде припадали,
и как ни старался я, рот открывая,
но в море,
но в море слова пропадали.
И думалось мне
под прямым его взглядом,
что, как ни была бы ты, песня, красива,
ты меркнешь,
когда открывается рядом
живая,
земная,
всесильная сила.
***
Здесь обычай древний
не нарушат.
В деревянный ставень постучи —
чай заварят,
валенки просушат,
теплых щей достанут из печи.
В этих избах,
в этой снежной шири,
белыми морозами дыша,
издавна живет она —
Сибири
щедро хлебосольная душа.
Если кто и есть еще,
быть может,
что шаги заслыша у ворот,
на задвижку дверь свою заложит,
ковшика воды не поднесет,
и влечет его неудержимо
встреча с каждым новым пятаком —
пусть себе трясется эта жила
над своим железным сундуком!
Сколько раз
меня в крестьянской хате
приглашали к скромному столу!
Клали на ночь
только на кровати,
сами ночевали на полу.
Провожая утром до ограды,
говорили,
раскурив табак, -
дескать, чем богаты,
тем и рады.
Извиняйте, если что не так!..
В дом к себе распахивая двери,
не тая ни помыслов,
ни чувств,
быть достойным,
хоть в какой-то мере,
этой высшей щедрости
учусь.
Чтоб делить
в сочувственной тревоге
все, что за душой имею сам,
с человеком,
сбившимся с дороги,
путником,
плутавшим по лесам.
Чтобы, с ним прощаясь у ограды,
раскурив по-дружески табак,
молвить:
— Чем богаты, тем и рады.
Извиняйте, если что не так!
***
Вот приходит замысел рисунка.
Поединок сердца и рассудка.
Иногда рассудок побеждает:
он довольно трезво рассуждает,
здравые высказывает мысли —
ну, и побеждает в этом смысле…
Сердце бьется, сердце не сдается,
ибо сердце сердцем остается.
Пусть оно почаще побеждает!
Это как-то больше убеждает.
***
— Что происходит на свете? https://rutube.ru/video/6ef367c605abfb33753f93848edc0b66/
— А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы?
— Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.
— Что же за всем этим будет?
— А будет январь.
— Будет январь, вы считаете?
— Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.
— Чем же все это окончится?
— Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены?
— Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
— Что же из этого следует?
— Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю,что все это следует шить.
— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны ее кабала и опала.
— Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!
— Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..
***
Вдали полыхнула зарница.
Качнулась за окнами мгла.
Менялась погода —
смениться
погода никак не могла.
И все-таки что-то менялось.
Чем дальше, тем резче и злей
менялась погода,
менялось
строенье ночных тополей.
И листьев бездомные тени,
в квартиру проникнув извне,
в каком-то безумном смятенье
качались на белой стене.
На этом случайном квадрате,
мятежной влекомы трубой,
сходились несметные рати
на братоубийственный бой.
На этой квадратной арене,
где ветер безумья сквозил,
извечное длилось боренье
издревле враждующих сил.
Там бились, казнили, свергали,
и в яростном вихре погонь
короткие сабли сверкали
и вспыхивал белый огонь.
Там, памятью лета томима,
томима всей памятью лет,
последняя шла пантомима,
последний в сезоне балет.
И в самом финале балета,
его безымянный солист,
участник прошедшего лета,
последний солировал лист.
Последний бездомный скиталец
шел по полю, ветром гоним,
и с саблями бешеный танец
бежал задыхаясь за ним.
Скрипели деревья неслышно.
Качалась за окнами мгла.
И музыки не было слышно,
но музыка все же была.
И некто
с рукою, воздетой
к невидимым нам небесам,
был автором музыки этой,
и он дирижировал сам.
И тень его палочки жесткой,
с мелодией той в унисон,
по воле руки дирижерской
собой завершала сезон…
А дальше
из сумерек дома,
из комнатной тьмы выплывал
рисунок лица молодого,
лица молодого овал.
А дальше,
виднеясь нечетко
сквозь комнаты морок и дым,
темнела короткая челка
над спящим лицом молодым.
Темнела, как венчик терновый,
плыла, словно лист по волнам.
Но это был замысел новый,
покуда неведомый нам.
***
— Кто-то так уже писал.
Для чего ж ты пишешь, если
кто-то где-то, там ли, здесь ли,
точно так уже писал!
Кто-то так уже любил.
Так зачем тебе все это,
если кто-то уже где-то
так же в точности любил!
— Не желаю, не хочу
повторять и повторяться.
Как иголка,
затеряться
в этом мире не хочу.
Есть желанье у меня,
и других я не имею —
так любить, как я умею,
так писать, как я могу.
— Ах, ты глупая душа,
все любили,
все писали,
пили, ели, осязали
точно так же, как и ты.
Ну, пускай и не совсем,
не буквально и не точно,
не дословно, не построчно,
не совсем — а все же так.
Ты гордыней обуян,
но смотри, твоя гордыня —
ненадежная твердыня,
пропадешь в ней ни за грош.
Ты дождешься многих бед,
ты погибнешь в этих спорах —
ты не выдумаешь порох,
а создашь велосипед!..
— Ну, конечно, — говорю, —
это знают даже дети —
было все уже на свете,
все бывало, — говорю.
Но позвольте мне любить,
а писать еще тем паче,
так —
а все-таки иначе,
так —
а все же не совсем.
Пусть останутся при мне
эта мука и томленье,
это странное стремленье
быть всегда самим собой!..
И опять звучит в ушах
нескончаемое это —
было, было уже где-то,
кто-то так уже писал!
***
Всего и надо, что вглядеться, — боже мой,
Всего и дела, что внимательно вглядеться, —
И не уйдешь, и никуда уже не деться
От этих глаз, от их внезапной глубины.
Всего и надо, что вчитаться, — боже мой,
Всего и дела, что помедлить над строкою —
Не пролистнуть нетерпеливою рукою,
А задержаться, прочитать и перечесть.
Мне жаль не узнанной до времени строки.
И все ж строка — она со временем прочтется,
И перечтется много раз и ей зачтется,
И все, что было с ней, останется при ней.
Но вот глаза — они уходят навсегда,
Как некий мир, который так и не открыли,
Как некий Рим, который так и не отрыли,
И не отрыть уже, и в этом вся беда.
Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,
За то, что суетно так жили, так спешили,
Что и не знаете, чего себя лишили,
И не узнаете, и в этом вся печаль.
А впрочем, я вам не судья. Я жил как все.
Вначале слово безраздельно мной владело.
А дело было после, после было дело,
И в этом дело все, и в этом вся печаль.
Мне тем и горек мой сегодняшний удел —
Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,
Каких сокровищ под ногами не заметил,
Каких созвездий в небесах не разглядел!
***
Что делать, мой ангел, мы стали спокойней,
мы стали смиренней.
За дымкой метели так мирно клубится наш милый Парнас.
И вот наступает то странное время иных измерений,
где прежние мерки уже не годятся — они не про нас.
Ты можешь отмерить семь раз и отвесить
и вновь перевесить
и можешь отрезать семь раз, отмеряя при этом едва.
Но ты уже знаешь как мало успеешь
за год или десять,
и ты понимаешь, как много ты можешь за день или два.
Ты душу насытишь не хлебом единым и хлебом единым,
на миг удивившись почти незаметному их рубежу.
Но ты уже знаешь,
о, как это горестно — быть несудимым,
и ты понимаешь при этом, как сладостно — о, не сужу.
Ты можешь отмерить семь раз и отвесить,
и вновь перемерить
И вывести формулу, коей доступны дела и слова.
Но можешь проверить гармонию алгеброй
и не поверить
свидетельству формул —
ах, милая, алгебра, ты не права.
Ты можешь беседовать с тенью Шекспира
и собственной тенью.
Ты спутаешь карты, смешав ненароком вчера и теперь.
Но ты уже знаешь,
какие потери ведут к обретенью,
и ты понимаешь,
какая удача в иной из потерь.
А день наступает такой и такой-то и с крыш уже каплет,
и пахнут окрестности чем-то ушедшим, чего не избыть.
И нету Офелии рядом, и пишет комедию Гамлет,
о некоем возрасте, как бы связующем быть и не быть.
Он полон смиренья, хотя понимает, что суть не в смиренье.
Он пишет и пишет, себя же на слове поймать норовя.
И трепетно светится тонкая веточка майской сирени,
как вечный огонь над бессмертной и юной
душой соловья.
***
День все быстрее на убыль
катится вниз по прямой.
Ветка сирени и Врубель.
Свет фиолетовый мой.
Та же как будто палитра,
сад, и ограда, и дом.
Тихие, словно молитва,
вербы над тихим прудом.
Только листы обгорели
в медленном этом огне.
Синий дымок акварели.
Ветка сирени в окне.
Господи, ветка сирени,
все-таки ты не спеши
речь заводить о старенье
этой заблудшей глуши,
этого бедного края,
этих старинных лесов,
где, вдалеке замирая,
сдавленный катится зов,
звук пасторальной свирели
в этой округе немой…
Врубель и ветка сирени.
Свет фиолетовый мой.
Это как бы постаренье,
в сущности, может, всего
только и есть повторенье
темы заглавной его.
И за разводами снега
вдруг обнаружится след
синих предгорий Казбека,
тень золотых эполет,
и за стеной глухомани,
словно рисунок в альбом,
парус проступит в тумане,
в том же, еще голубом,
и стародавняя тема
примет иной оборот…
Лермонтов. Облако. Демон.
Крыльев упругий полет.
И, словно судно к причалу
в день возвращенья домой,
вновь устремится к началу
свет фиолетовый мой.
***
Двадцать восьмого марта
утром я вышел в кухню.
Чайник на газ поставил.
Снег за окошком падал.
В шкафчике, на газете,
луковица лежала.
Глупая толстая луковица.
Барышня провинциальная.
Но две зеленые стрелки
у ней на макушке были.
Две зеленые струйки
фонтанчиком из нее били.
Снег за окошком падал,
крупка в окно хлестала.
В шкафчике, на газете,
луковица расцветала.
Луковица на газете.
Зеленая, как кузнечик.
Этакий Чипполино.
Луковый человечек.
Чай погуще завариваю.
С луковкой разговариваю.
Что-то ей, видно, ведомо
такое, что мне не ведомо.
Свое она что-то знает.
Знает, что снег растает.
А снег все никак не тает.
А луковица расцветает.
Юрий Давидович Левитанский
_________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 03.04.2025, 07:58 | Сообщение # 1584 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Плацебо
После недели проливных дождей, похолодания и шквалистого ветра, наконец вернулось тепло — комфортное, без лишнего жара, с не спеша плывущими по небу белыми облаками.
Погода располагала к времяпровождению на открытом воздухе, и на лавочке около подъезда многоэтажного дома сидели две женщины. Одной на вид было лет семьдесят пять, очень полная, с широкоскулым, почти без морщин, неулыбчивым серьёзным лицом, с коротко стриженными прямыми волосами, окрашенными в ярко-рыжий цвет. Вторая, в массивных очках с тёмными линзами, была значительно худее и выглядела помоложе, хотя её загорелое лицо с крупным прямым носом было испещрено морщинами.
Женщины сидели на лавочке уже довольно давно. Все последние новости были рассказаны и обсуждены, поэтому сейчас в основном молчали, глядели на проезжавшие по двору машины, прохожих, и лишь изредка обменивались короткими репликами по тому или иному поводу.
Дверь подъезда распахнулась, и из неё проворно выбежал мальчишка с маленькой лохматой собачкой на поводке. Резко затормозив, он тихо, даже как-то робко поздоровался с женщинами, осторожно прошёл мимо, после чего вновь припустил и быстро скрылся за ближайшими кустами.
Ни одна из сидевших на приветствие мальчика не отреагировали, лишь проводили его взглядами.
— Опять, поди, на детскую площадку с собачонкой своей побежал. — Та, что была постарше и крупнее, недовольно поморщилась. — Хоть кол им на голове теши, сто раз уж говорено было, чтоб с шавками своими за дом гулять ходили, нет, сюда прутся.
Вторая пожевала губами и кивнула в ответ:
— Не говори, Петровна, никого не слушают, шибко умные стали все. Так ведь ещё и слова им не скажи! Что ты!.. Вчера днём парнишка из семьдесят девятой на самокате своём чуть не сшиб меня, стервец. Я из ЖЭКа домой шла, за квартиру платить ходила, так он из-за угла как вылетит... Как не знаю кто... Ну и вечером уже, матери его говорю, дескать, носится ваш как угорелый, никого не видит. Так она мне знаешь, чего отвечает: ну он же ребёнок, у него энергии много. Представляешь? Нет, чтоб извиниться да всыпать этому по первое число, она его же ещё и защищает. Энергии у него много...
— Вот-вот, — с готовностью согласилась рыжеволосая Петровна. — Они счас такие. Прохоровы, вон, из третьего подъезда, на четвёртом этаже которые живут...
— Знаю, ага...
— Утром сегодня собрались куда-то ехать. Так он, сам-то, на машине своей встал прям посреди дороги, перегородил, ни пройти ни проехать. Я ему говорю: а ежели «скорая» поедет или «пожарка»? Стоит щерится. Так нет же, говорит, никакой «скорой», а мне только вещи по-быстрому загрузить и всё, чтоб далёко не таскать. А ежели кто поедет, так я отъеду сразу. Ага, отъедет он... Дождёшься от них. Пять шагов лень ступить, чуть не в подъезд заехать надо.
— Ой, не говори... — протяжно вздохнула та, что была в очках. — Слова им не скажи.
— Не-ет, что ты... Сам же виноватый и останешься.
— Да. Ни стыда ни совести у людей не стало.
На какое-то время женщины снова умолкли. Потом Петровна повернулась к своей соседке:
— Слышь, Сергевна, а Любу-то с больницы выписали, нет? Не знаешь?
— А вот не знаю, — озабоченно подняв брови, та отрицательно помотала головой. — Я, как дожди-то зарядили, так дочку её и не видала, с неделю уж, однако, или боле.
— Долго она чего-то в этот раз лежит там.
— Недели три уж, наверное.
— Бо-ольше! — махнула рукой Петровна. — Месяц уж будет.
— Неужто месяц?
— Месяц, месяц... Точно тебе говорю.
— Не поправится никак.
— Ну.
И снова замолчали, прислушиваясь к детским крикам, доносившимся с игровой площадки.
Минут через пять из соседнего подъезда, опираясь на тросточку, вышла невысокая старушка. Одета она была слишком тепло для такого дня: в длинном плотном кардигане, голова повязана хлопковым платком, на ногах трикотажные чулки и мягкие войлочные туфли. Лицо у старушки было восково-бледное, словно давно не видевшее солнце. Сощурив глаза, она с лёгкой улыбкой посмотрела на ясное небо.
— О! — Сергеевна встрепенулась, поправила на носу очки и легонько пихнула локтем в бок свою соседку. — Так вот же она, Люба-то! Легка на помине.
Петровна прищурилась:
— Гляди-ка, и правда. Андревна! — махнула она рукой.
Вышедшая повернулась на возглас и приветливо закивала.
— Иди к нам, посидим! — позвала её Сергеевна.
Когда та подошла, сидевшие на лавочке пододвинулись, освобождая место.
— Садись, садись... Только что тебя вспоминали. Как она там, думаем.
— Выписали, стало быть?
Любовь Андреевна поздоровалась и осторожно села на лавочку, предварительно проверив рукой, не холодная ли та:
— Ну да, вчера вот выписали, — голос её был слаб. — После обеда уж Ирина привезла.
— А мы сидим, говорим, чего-то больно долго ты на этот раз... А ты вот она, легка на помине. Богатая, видать, будешь.
— Ой... богатая... Я теперь уж любое богатство отдать готова, лишь бы здоровье годков бы на десяток вернуть. Нынче, думала, и не выкарабкаюсь, совсем худо было.
— Чего так?
— Не знаю. Износилась, видать, дальше некуда. И помирать бы время уже, так и пожить ещё хочется.
— Чего туда спешить-то?.. — хмыкнула Петровна. — Успеется.
— Это точно, успеется, — задумчиво согласилась Любовь Андреевна. — Если б не врачи, так и не знаю, сидела б сейчас с вами или нет.
— Чего там тебе делали такого?
— Так, чего… — Любовь Андреевна пожала худенькими плечами. — Особо-то, вроде, ничего и не делали, всё как обычно: уколы, таблетки, процедуры всякие... Но, подруженьки мои, скажу вам, все такие добрые, внимательные... Слов нет, как я радёшенька была. Прям, на душе светлее делается. Сто раз на дню спросят, как дела, как самочувствие. И врачи, и сестрички... Чуть чего, так сразу: Любовь Андреевна, вам что-то нужно? удобно ли? Мне кажется, из-за этого, наверное, и поднялась только. — Глаза её потеплели, ласково улыбнувшись, она поправила прядку седых волос, выбившихся из-под платка.
Петровна и Сергеевна переглянулись.
— Ну так правильно, — грубовато усмехнулась Петровна, — Ирина твоя денег им дала, вот они и скакали вокруг тебя. Задарма-то сейчас никто ничего делать не станет.
— Почему? — не переставая улыбаться, посмотрела на неё Любовь Андреевна.
— Чего почему?
— Почему денег-то дала?
— Ну а как? — Петровна привстала, поправила подол своего платья и села поудобней. — Думаешь, они там за здорово живёшь с тобой валандались: чего надо? удобно ли? Ага, жди, как же...
— Нет, ты, Петровна, чего-то не то говоришь, — Любовь Андреевна мотнула головой и нахмурила редкие брови. — Не может этого быть.
— Да как не может-то? — хмыкнула та. — Я чего ж, вру, по-твоему? Андревна, ты, прям, какая-то… я удивляюсь. Вроде, не первый год на свете живёшь и раньше в больницах этих лежала. Всегда они, что ль, такие были, врачи эти?
— Ну... не всегда, конечно. Так и что с того?
— Да вот то! Нужна ты им как собаке пятая нога. Вот чего им всем нужно, — она протянула руку и быстро потёрла большим пальцем об указательный перед самым лицом Любови Андреевны. Потом добавила: — Эта, как её… плацеба.
— Какое ещё плацебо?
— Ну... навнушала ты сама себе, вот и всё. Что хорошие они там все, что ухаживают за тобой по доброте душевной.
— Ничего я себе не навнушала, так и было.
Петровна повернулась всем своим крупным телом к Любови Андреевне и внушительно, размеренно произнесла:
— Никому ты там сто лет не нужна. Без денег-то. Ясно?
Краешки губ Любови Андреевны дрогнули и опустились книзу:
— Неправда. Зря ты, Петровна, наговариваешь. Зря.
— Ничего не зря, — поддержала подругу Сергеевна, тоже подавшись телом вперёд. — Твоя Ирина сама нам сказывала.
— Чего она сказывала?
— Что денег там давала. И врачам, и сёстрам. Чтоб пригляд за тобой лучше был. А уж по скольку давала, не знаем, не расспрашивали.
Любовь Андреевна растерянно пожевала бесцветными губами, погладила тонкими пальцами трость, ткнула ею камушек, лежавший возле ног, потом, ни на кого не глядя, чуть слышно произнесла:
— Не может этого быть.
— Да какой интерес нам врать-то? Мимо она как-то шла, Ирина-то твоя, мы и спросили её, как у тебя дела. Она и говорит, дескать, ничего, лечится помаленьку, ну и сказала, что денег дала.
Лицо у Любови Андреевны посерело:
— Мне она ничего такого не говорила.
— Ну правильно, тебе-то она чего говорить будет. — Сергеевна сняла очки и протёрла их краем юбки.
— Не-ет, Андревна, — уверенно кивнула Петровна, — в наше время задарма никто ничего делать не будет. Держи карман шире. Ты ему денег сперва дай, тогда он, может, ещё подумает, а так… Плевать им на всех, а на нашего брата, на стариков, тем более.
— Ага, — поддакнула Сергеевна, — нынче доброго-то от людей не жди, пальцем о палец без денег не ударят.
— Да... Ох, времечко настало. Дожили. Так что, Андревна, выбрось из головы плацебу эту свою, — снова сделала внушение Петровна.
На некоторое время все умолкли. Потом Любовь Андреевна, опираясь на тросточку, поднялась с лавки.
— Пойду я, — тихо пробормотала она, глядя себе под ноги.
— Ты куда? — удивлённо вскинула брови Петровна. — Только же вышла, посиди ещё с нами.
— Нет. Пойду. Зябко чего-то...
Через три дня Петровна с Сергеевной снова сидели на той же самой лавочке, компанию им составляли ещё две женщины.
Время близилось к обеду. Погода по-прежнему радовала. Высоко в небе кружили ласточки. Со стороны игровой площадки слышались детские голоса. Где-то сигналила машина. На клумбе между подъездами ярко цвели флоксы, люпины, мальвы; с цветка на цветок перелетали пчёлы и шмели.
Из-за угла дома выехала легковая машина, подъехала к соседнему подъезду и остановилась. Из автомобиля вышла женщина средних лет. Пикнув сигнализацией, она в задумчивости направилась к дому.
— Ирочка, — ласковым голосом окликнула её Петровна, — ты уж и не здороваешься с нами.
Женщина вскинула голову:
— А? Да, здравствуйте. Извините, Зинаида Петровна, задумалась просто...
— Об чём думаешь-то?
Ирина не спеша подошла к сидевшим на лавочке и тихо произнесла:
— Мама сегодня умерла. — Губы её мелко задрожали. — Ей буквально на следующий день, как выписали, снова плохо стало. Я с работы вечером прихожу, а она лежит. Спрашиваю, что случилось, не отвечает, в потолок только смотрит. Я давление померила — совсем низкое. Дала таблетку, толку никакого. Часов уже в двенадцать ночи «скорую» вызвала, они приехали, увезли её. Два дня не могли понять, чего да как, никакой динамики, а сегодня утром — часов семь было, я только встала — позвонили, ну и... сказали, что… умерла. — Женщина всхлипнула, достала из сумочки бумажную салфетку и промокнула глаза. — Ничего не понимаю. И главное, ей ведь уже лучше было, из больницы выписали, а тут... — Она пожала плечами. — Даже не знаю, что и думать.
***
Берёза — дерево сорное
Был конец апреля. По асфальтовой дороге вдоль голого ещё берёзового леса размеренно катил рейсовый автобус. Когда вдали показались дома небольшой деревушки, с места поднялся пассажир — мужчина лет шестидесяти в куртке камуфляжной расцветки, в резиновых сапогах, с полупустым рюкзачком в руках — и, подойдя к водителю, попросил высадить его. Выйдя из автобуса, мужчина повёл плечами, словно бы разминая их, закинул рюкзачок за спину, осторожно спустился с крутой насыпи и направился в березник.
В кронах деревьев жирными пятнами чернели вороньи гнёзда. Птицы, завидев идущего человека, подняли настоящий гвалт. Не обращая внимания на этот грай, мужчина углубился в лес. Пройдя метров сто, он остановился возле высокой, толстой, туго обтянутой белой берестой берёзы, ласково погладил её и, задрав голову, тихо спросил:
— Ну, рассказывай, как тут у вас дела, что нового?
Словно бы размышляя о чём-то, мужчина постоял у дерева ещё немного и побрёл дальше.
В безоблачном небе ярко светило солнце, но здесь, в лесу, было прохладно. В небольших овражках, в тенистых местах ещё лежал грязно-серый снег, от которого веяло зябкой сыростью. Однако на полянах, там, где снег сошёл, сквозь прошлогоднюю листву кое-где уже пробивались молодая травка и ранние первоцветы.
Казалось, что у мужчины нет никакой особой цели в этом лесу. Он просто неспешно шагал, иногда останавливался, что-то говорил деревьям, о чём-то спрашивал их, подолгу разглядывал попадавшиеся на его пути муравейники, запрокинув голову, прислушивался к перестуку дятлов.
Через некоторое время он вышел к неширокой речушке. Талые снега напитали её мутной водой, и она бурливо неслась, крутясь воронками под обрывистыми берегами. Мужчина достал из рюкзака раскладной стульчик, бумажный пакет и бутылку молока. Усевшись на стульчик рядом со старой раскидистой вербой, густо усыпанной мохнатыми жёлтыми серёжками, он вынул из пакета бутерброды с колбасой и сыром и стал есть, глядя на быстрое течение и щуря глаза от ярких солнечных бликов, скакавших по волнам. Поев, мужчина спрятал стульчик обратно в рюкзак, туда же убрал пакет, опустевшую бутылку и, постояв ещё какое-то время у воды, не спеша зашагал в обратную сторону.
Немного погодя он вышел на хорошо натоптанную тропинку, где ему вскоре повстречался невысокий худенький парнишка лет пятнадцати. Мальчик нёс пластиковую пятилитровую бутылку, доверху наполненную прозрачной жидкостью с лёгким желтоватым оттенком.
Когда паренёк поравнялся с мужчиной, тот спросил:
— Никак, это сок берёзовый у тебя?
Мальчик остановился:
— Да.
— Ух ты! — удивился мужчина. — Где ж ты столько набрал?
Парнишка пожал плечами:
— Здесь, в лесу.
— Здорово. Неужели всё с одной берёзы?
— Да нет, с четырёх.
— И за сколько это набралось?
— Со вчера.
— Из деревни сюда бегаешь?
— Ну.
— Молодец, — похвалил мужчина. — А как ты его берёшь, сок-то? Покажи, если не секрет.
— Пойдёмте, покажу. Вон они, рядом.
Мальчик, сойдя с тропинки, пошёл в сторону, мужчина зашагал следом. Пройдя шагов двадцать, они подошли к старой ветвистой берёзе. С одного её бока, сантиметрах в тридцати от земли, был сделан топором довольно большой и глубокий затёс. С нижнего края зарубины в ствол был вбит с наклоном к земле металлический уголок, по которому одна за одной стекали в двухлитровую банку, стоявшую ниже, капли берёзового сока. При этом вокруг затёса всё было сыро от сока, текущего мимо желобка прямо по стволу на землю.
— Вот, — показал на банку мальчик. — Я её только что перелил, к утру опять накапает. А там ещё три штуки, — паренёк мотнул головой в сторону.
Мужчина присел возле берёзы на корточки и нахмурился.
— А зачем так много затесал-то? Смотри, сколь сока у тебя зазря пропадает, мимо течёт.
— Да-а... — мальчик небрежно махнул рукой. — Мне и так хватит.
— Тебе-то, может, и хватит, но замазывать же потом сложнее.
— Чего замазывать? — не понял парнишка.
— Как чего? Затёс этот. Его ж надо будет замазать потом. Глиной, воском или пластилином, на худой конец.
— Зачем?
— Ну ты, друг, даёшь! — мужчина покачал головой. — Что значит, зачем? Она ж так у тебя погибнет. Берёза-то. Соком изойдёт, заболеет и засохнет. Не жалко?
— Берёзу, что ли? А чего её жалеть? Этого добра навалом. У меня батя говорит, берёза — дерево сорное. Они ж самосевные. Чуть где пахать или косить перестали, так там и нарастают сразу.
Мужчина выпрямился, посмотрел на мальчика и вздохнул:
— Так-то оно, может, и так, но... Вот я тебе одну штуку расскажу... Я ведь родом тоже из этой деревни, что и ты. Родился здесь, вырос, в армию отсюда ушёл, а потом, после армии, в городе жить остался. И всю жизнь так в городе и прожил. И вроде бы всё хорошо там у меня, семья, дети, сейчас уж и внуки есть, а сюда вот, на родину, всё равно тянет. Понимаешь? Душа-то, она здесь, как ни крути. Раньше, пока мать с отцом, другая родня живы были, приезжал, а потом — всё, никого, считай, не осталось. Кто помер, а кто, как я вот, тоже уехал. Коснись, так и переночевать не у кого. И вот приехал я как-то, походил-походил по деревне, а акромя тоски ничего и не выходил — всё переменилось! И сюда потом, в березник вот этот пришёл. И знаешь что... Понял вдруг, что берёзы-то те же самые здесь стоят, что и тогда были. Понимаешь? Когда молодой-то я ещё был. Они-то никуда не делись. Я здесь пацаном вот таким же, как ты, бегал, а она, — мужчина похлопал рукой по берёзе, с которой капал в банку сок, — уже стояла и, может, помнит меня того, маленького. Там, в деревне, никого уж из родных нету, а они, берёзы эти — есть. И как понял я это, так мне сразу словно бы легче на душе сделалось, словно старых знакомых повстречал. Вот как. С тех пор сюда и езжу. Не в деревню, а в березник. Пару раз в году. Похожу, поговорю с ними, и вроде как сил даже прибавится, и душа радуется. И охота мне, понимаешь, чтоб и дальше они тут стояли, берёзки эти. Иначе, что же у меня от родины останется? А ты говоришь, этого добра навалом. Навалом, да не совсем. Вот этой вот, — мужчина снова похлопал по дереву, — больше нигде нету, одна она такая. Не будет её, к кому я приеду? Но моё-то дело уж под гору идёт, ещё с десяток лет, может, поезжу, да и всё, а тебе-то самому будет потом к кому ездить?
Паренёк пожал плечами:
— Я не думал об этом.
— А вот подумай. — Мужчина посмотрел на наручные часы. — Ладно, пора мне, а то на обратный автобус опоздаю. — Он протянул мальчику руку. — Бывай, земляк!
Тот пожал протянутую ладонь и серьёзно сказал:
— Я это... я замажу, вы не переживайте.
— Ну вот и ладно. — Мужчина улыбнулся и, подмигнув парнишке, широко зашагал прочь.
***
Семнадцать дел
Напротив ворот женского монастыря, скрипнув подвеской, остановился грязный серый УАЗик с синей полосой на бортах. В жёлтом свете фар, высветивших закрытую калитку, мельтешили капельки занудливого осеннего дождя. С переднего пассажирского сиденья из машины вышел высокий крепкий мужчина в штатском. Поглубже натянув кепку, он поднял воротник куртки, открыл заднюю правую дверцу и произнёс:
— Выходите, не бойтесь.
На дорогу, внимательно глядя себе под ноги, осторожно вышла женщина средних лет и сразу же раскрыла над головой зонт. За ней из УАЗика выбрался ещё один мужчина, в форме полицейского с капитанскими погонами на плечах.
Тот, что был в штатском, стараясь не наткнуться на спицы зонта, чуть склонил к женщине голову:
— Значит, делаем, как договорились. Сейчас вы посмотрите на мужчин, которых мы вам предъявим, и, если среди них будет тот, кто выхватил у вас сумочку, вы нам на него укажете. Пока без протокола. Вы же запомнили того? Главное — не бойтесь. Хорошо?
Женщина кивнула:
— Хорошо.
Капитан накинул на голову капюшон форменной куртки и с сомнением произнёс:
— Не знаю, Михалыч, мне кажется, зря мы сюда приехали.
— Зря, не зря, но проверить надо. Да и надо же вообще с чего-то начинать. Вот с этих гавриков и начнём. Мало ли... Давай стучи.
Полицейский в форме подошёл к калитке и затарабанил по ней кулаком. Вскоре дверь отворилась.
— Чего надо? — хмуро спросил всклокоченный бородатый старик, служивший при монастыре сторожем. Увидев перед собой представителя закона, отступил в сторону. — А-а... милиция пожаловала...
— Игуменью зови, — приказал старику капитан. — Скажи, дело есть. Да только — эй! слышь! — прямиком к ней, и больше никому ни слова, что мы приехали! Понял?
— Понял, понял... — пробормотал сторож и, повернувшись, исчез в темноте.
Через несколько минут из калитки вышла низенькая пожилая женщина, одетая с ног до головы в чёрное. Поверх монашеской рясы на ней был накинут целлофановый дождевик.
— Здравствуйте, матушка, — вышел на первый план полицейский в штатском. По всей видимости, он был у приехавших за старшего. — Нам бы ваших постояльцев посмотреть. Не возражаете?
— Доброго здоровья, — произнесла монахиня и чуть заметно поклонилась одной головой. — А ежели возражаю, так уедете?
Полицейский сдержано засмеялся.
— Ну... вы ж не возражаете?
— А чего стряслось?
— Да тут вот... — Мужчина переступил с ноги на ногу. — У женщины одной сумочку из рук вырвали. Вдруг, кто из ваших, мало ли...
— Ну что ж, смотрите. Если кто из наших, прятать не будем. Вам сюда их позвать или сами пройдёте?
— Лучше сюда.
Игуменья повернулась к старику-сторожу:
— Николай, сходи, позови всех сюда.
— Подождите, — остановил старика полицейский. — С вами наш сотрудник пойдёт. На всякий случай. Чтоб никто там по дороге случайно не потерялся. — Он посмотрел на того, который был в форме. — Юра, сходи с ним. Сюда всех приведёте, но пусть стоят за воротами, и ты там за ними приглядывай. А сюда, на улицу, по одному потом пусть выходят. По очереди. А то толпой всех смотреть толку меньше будет.
Кивнув, капитан ушёл вместе со сторожем, игуменья осталась у калитки, а полицейский в штатском, закурив, вернулся к УАЗику.
— Скажите, — женщина, приехавшая с полицией, поёжилась и почти совсем опустила себе на голову зонт, закрываясь им от ветра, — а что тут мужчины делают? Здесь ведь женский монастырь.
— Что делают? — переспросил полицейский, затягиваясь сигаретой. — Живут, вот и всё. Под тип как приблудные. Вроде как деваться им больше некуда. Бомжи всякие, уголовники бывшие, пьяницы... А эти, — он мотнул головой в сторону игуменьи, — их не гонят. Подкармливают, одежду кое?какую дают, которую обычные прихожане в церковь монастырскую приносят. Ну и те, конечно, не просто живут, а работают. Тут же бабки одни. Монахини-то. Старенькие, сами не могут тяжёлую работу делать. Вот. А эти им, значит, снег зимой чистят, землю под огород копают, ремонтируют чего-нибудь, когда надо, тяжести таскают. В общем, всё, что для монастыря нужно. Живут они, понятное дело, отдельно. Там у них домик свой есть, на отшибе, за заборчиком. Получается, вроде бы как при монастыре, но в то же время сами по себе.
— Понятно, — кивнула женщина. — И вы думаете, кто-то из них мог пойти на это? Я имею в виду кражу.
— Ну а почему бы и нет? Контингент ещё тот, поэтому проверить надо. Пару раз мы у них тут беглых находили, с колонии-поселения убегали.
— А сколько их тут?
— Да по-разному, когда как. Летом меньше, зимой больше. Бывает, что человек пять, а иной раз и двадцать пять наберётся.
Через пару-тройку минут с той стороны ворот послышался разнобой мужских голосов. Кто-то кому-то что-то выговаривал, кто-то ругался, но громче всех был слышен голос капитана, требовавший тишины и порядка.
Полицейский в штатском вошёл во двор, что-то сказал там, потом вернулся к потерпевшей.
— Ну всё, давайте начнём. Только внимательней, пожалуйста. Не торопитесь, не волнуйтесь, они вас не видят, так что... Юра, давай! — крикнул он.
И из калитки по одному стали выходить «постояльцы» женского монастыря. Один, второй, третий... Потерпевшая внимательно смотрела на каждого, но всякий раз отрицательно мотала головой.
Моросящий дождь не унимался, а плотно укрытое облаками небо делало осеннюю черноту непроглядной и мрачной.
Седьмой, восьмой, девятый... Возраст у многих было трудно определить. Заросшие, бородатые, просто небритые, худые, с одутловатыми лицами, у многих тюремные татуировки на руках, одеты кто во что горазд. С хмурыми, но чаще просто безразличными лицами, они один за другим выходили за ворота монастыря, послушно вставали в свет фар и ждали дальнейшей команды.
Но женщина каждый раз говорила: «Нет, не он». Полицейский в штатском снова просил её не торопиться, смотреть внимательней, но та лишь мотала головой: «Нет, не этот».
Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый... Пока они выходили, монахиня, ни на кого не глядя, стояла в стороне и молча перебирала чётки. Шестнадцатый, семнадцатый. За семнадцатым из ворот вышел капитан.
— Ну всё, больше нету.
Тот, что был в штатском, ещё раз посмотрел на потерпевшую:
— Точно нет среди них вашего? Вы уверены?
— Нет, нету. Уверена, — кивнула женщина. — Тот моложе был и одет лучше.
— Ну что ж. Отрицательный результат — тоже результат. Садитесь в машину, сейчас обратно поедем.
Женщина с капитаном забрались на заднее сиденье, а тот, что был за старшего, подошёл к игуменье.
— Ну всё, матушка. Спасибо вам. Извините, что потревожили так поздно, но, сами понимаете, — служба. Дело расследуем, так что... Надо всё проверить.
Монахиня чуть заметно улыбнулась и кивнула:
— Я понимаю.
Полицейский собрался уже было уходить, но вдруг снова повернулся к игуменье:
— Матушка, вопрос можно? Ну, а всё-таки, зачем вы их всех тут у себя привечаете? Я ж знаю, они тут у вас и пьют, и дерутся, и всякое бывает. Вас-то, понятное дело, не трогают, но контингент-то ведь ещё тот, — повторил он слова, ранее сказанные потерпевшей. — Ну держали бы двух-трёх как работников и всё. А то вон сколько мы их насчитали — семнадцать человек! Зачем столько?
Монахиня задумчиво пожала худыми плечами и глянула снизу-вверх на полицейского:
— Не знаю. Может, затем, чтоб у тебя, милок, на семнадцать дел меньше было?
Поселенов Алексей Николаевич
___________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 05.04.2025, 14:06 | Сообщение # 1585 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
***
Всё было до меня: десятилетья
того, что счастьем называем мы.
Цвели деревья,
вырастали дети,
чередовались степи и холмы,
за ветровым стеклом рождались зори
очередного праздничного дня, —
был ветер,
берег,
дуб у лукоморья,
пир у друзей, —
все это без меня.
Моря и реки шли тебе навстречу,
ручной жар-птицей
в руки жизнь плыла…
А я плутала далеко-далече,
а я тогда и ни к чему была.
Ты без меня сквозь годы пробивался,
запутывался и сплеча рубил,
старался, добивался, любовался,
отпировал, отплакал, отлюбил…
Ты отдал все, что мог, любимой ради,
а я? —
всего глоток воды на дне,
сто скудных грамм в блокадном Ленинграде.
Завидуйте,
все любящие,
мне!
***
Вот и город. Первая застава.
Первые трамваи на кругу.
Очень я, наверное, устала,
если улыбнуться не могу.
Вот и дом. Но смотрят незнакомо
стены за порогом дорогим.
Если сердце не узнало дома,
значит, сердце сделалось другим.
Значит, в сердце зажилась тревога,
значит, сердце одолела грусть.
Милый город, подожди немного, -
я смеяться снова научусь.
***
Знакомый, ненавистный визг…
Как он в ночи тягуч и режущ!
И значит — снова надо вниз,
в неведенье бомбоубежищ.
И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкою тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.
Как назло, лестница крута, -
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.
Здесь времени потерян счет,
пространство здесь неощутимо,
как будто жизнь, не глядя, мимо
своей дорогою течет.
Горячий мрак, и бормотанье
вполголоса. И только раз
до корня вздрагивает зданье,
и кто-то шепотом: «Не в нас».
И вдруг неясно голубой
квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!»
Мы голосу не сразу верим.
Но лестница выводит в сад,
а сад омыт зеленым светом,
и пахнет резедой и летом,
как до войны, как год назад.
Идут на дно аэростаты,
покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
ища осколки по примятой,
белесой утренней траве.
***
А знаешь, все еще будет! https://rutube.ru/video/b9a75c64a36a1af78284f34f288952a1/
Южный ветер еще подует,
и весну еще наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и еще меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, все еще будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолеты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря…
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье — что онo? Та же птица:
упустишь — и не поймаешь.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годится,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста…
Знаешь, как отпразднуем
Встречу!
***
Так было, так будет
в любом испытанье:
кончаются силы,
в глазах потемнело,
уже исступленье,
смятенье,
метанье,
свинцовою тяжестью
смятое тело.
Уже задыхается сердце слепое,
колотится бешено и бестолково
и вырваться хочет
ценою любою,
и нету опасней
мгновенья такого.
Бороться так трудно,
а сдаться так просто,
упасть и молчать,
без движения лежа…
Они ж не бездонны —
запасы упорства…
Но дальше-то,
дальше-то,
дальше-то что же?
Как долго мои испытания длятся,
уже непосильно борение это…
Но если мне сдаться,
так с жизнью расстаться,
и рада бы выбрать,
да выбора нету!
Считаю не на километры — на метры,
считаю уже не на дни — на минуты…
И вдруг полегчало!
Сперва неприметно.
Но сразу в глазах посветлело
как будто!
Уже не похожее на трепыханье
упругое чувствую
сердцебиенье…
И, значит, спасенье —
второе дыханье.
Второе дыханье.
Второе рожденье!
***
Не отрекаются любя. https://rutube.ru/video/a999ff3e43b04bc603848c67c871f020/
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придешь совсем внезапно.
А ты придешь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам…
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.
***
А ты придёшь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно,
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
неполюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трех человек у автомата,
и будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю, что там…
И вьюга заметет пути
на дальних подступах к воротам…
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счетчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно все отдать,
и до того я в это верю,
что не могу тебя я ждать,
весь день не отходя от двери.
***
Я не люблю себя такой,
не нравлюсь я себе, не нравлюсь!
Я потеряла свой покой,
с обидою никак не справлюсь.
Я не плыву, — иду ко дну,
на три шага вперед не вижу,
себя виню, тебя кляну,
бунтую, плачу, ненавижу…
Опамятуйся, просветлей,
душа! Вернись, былое зренье!
Земля, пошли мне исцеленье,
влей в темное мое смятенье
спокойствие твоих полей!
Дни белизны… чистейший свет…
живые искры снежной пыли…
«Не говори с тоской — их нет,
но с благодарностию — были».
Все было — пар над полыньей,
молчанье мельницы пустынной,
пересеченные лыжней
поляны ровности простынной,
и бора запах смоляной,
и как в песцовых шубах сучья,
и наводненное луной
полночной горницы беззвучье…
У всех бывает тяжкий час,
на злые мелочи разъятый.
Прости меня на этот раз,
и на другой, и на десятый,
—ты мне такое счастье дал,
его не вычтешь и не сложишь,
и сколько б ты ни отнимал,
ты ничего отнять не сможешь.
Не слушай, что я говорю,
ревнуя, мучаясь, горюя…
Благодарю! Благодарю!
Вовек
не отблагодарю я!
***
Мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
Больно многого хочешь,
нету людей таких.
Зря ты только морочишь
и себя и других!
Говорят: зря грустишь,
зря не ешь и не спишь,
не глупи!
Всё равно ведь уступишь,
так уж лучше сейчас
уступи!
…А она есть.
Есть.
Есть.
А она — здесь,
здесь,
здесь,
в сердце моём
тёплым живёт птенцом,
в жилах моих
жгучим течёт свинцом.
Это она — светом в моих глазах,
это она — солью в моих слезах,
зренье, слух мой,
грозная сила моя,
солнце моё,
горы мои, моря!
От забвенья — защита,
от лжи и неверья — броня…
Если её не будет,
не будет меня!
…А мне говорят:
нету такой любви.
Мне говорят:
как все,
так и ты живи!
А я никому души
не дам потушить.
А я и живу, как все
когда-нибудь
будут жить!
***
Улыбаюсь, а сердце плачет
в одинокие вечера.
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Это значит, моя отрада,
слов не надо и встреч не надо,
и не надо моей печали,
и не надо моей тревоги,
и не надо, чтобы в дороге
мы рассветы с тобой встречали.
Вот и старость вдали маячит,
и о многом забыть пора…
Я люблю тебя.
Это значит —
я желаю тебе добра.
Значит, как мне тебя покинуть,
как мне память из сердца вынуть,
как не греть твоих рук озябших,
непосильную ношу взявших?
Кто же скажет, моя отрада,
что нам надо,
а что не надо,
посоветует, как же быть?
Нам никто об этом не скажет,
и никто пути не укажет,
и никто узла не развяжет…
Кто сказал, что легко любить?
***
Нынче улетели журавли
на заре промозглой и туманной.
Долго, долго затихал вдали
разговор печальный и гортанный.
С коренастых вымокших берез
тусклая стекала позолота;
горизонт был ровен и белес,
словно с неба краски вытер кто-то.
Тихий дождь сочился без конца
из пространства этого пустого…
Мне припомнился рассказ отца
о лесах и топях Августова.
Ничего не слышно о тебе.
Может быть, письмо в пути пропало,
может быть… Но думать о беде —
я на это не имею права.
Нынче улетели журавли…
Очень горько провожать их было.
Снова осень. Три уже прошли…
Я теплее девочку укрыла.
До костей пронизывала дрожь,
в щели окон заползала сырость…
Ты придешь, конечно, ты придешь
в этот дом, где наш ребенок вырос.
И о том, что было на войне,
о своем житье-бытье солдата
ты расскажешь дочери, как мне
мой отец рассказывал когда-то.
***
Бои ушли. Завесой плотной
плывут туманы вслед врагам,
и снега чистые полотна
расстелены по берегам.
И слышно: птица птицу кличет,
тревожа утреннюю стынь.
И бесприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.
Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.
Кружит он в скованном просторе,
звеня немыслимой тоской,
как будто человечье горе
осталось плакать над рекой.
***
Твой враг
С любым из нас случалось и случится…
Как это будет, знаю наперед:
он другом назовется, постучится,
в твою судьбу на цыпочках войдет…
Старик с академическим величьем
или девчонка с хитрым блеском глаз —
я не берусь сказать, в каком обличье
он предпочтет явиться в этот раз.
Он явится, когда ты будешь в горе,
когда увидишь, как непросто жить,
чтобы тебе в сердечном разговоре
наипростейший выход предложить.
Он будет снисходительно-участлив
и, выслушав твой сбивчивый рассказ,
с улыбкой скажет:
— Разве в этом счастье?
Да и к тому же любят-то не раз!
Да и к тому же очень под вопросом
само существование любви:
ведь за весной идут другие весны
и новое волнение в крови!
А важно что?
Солидный муж и дети,
чтобы хозяйство и достаток в дом…
Обман? Ну что ж, так все живут не свете,
и что предосудительного в том?
Он объяснит, что жизнь груба, жестока,
что время бросит всякий детский вздор,
и вообще не залетать высоко,
и вообще, зачем наперекор?
Я помню все.
Я слышу вновь как будто.
И мне, признаюсь, страшно потому,
что я сама — на час или минуту —
но все-таки поверила ему!
Да, да, к тебе он постучится тоже,
он пустит в ход улыбку, ласку, лесть…
Не верь ему, он жалок и ничтожен,
не верь ему, любовь на свете есть.
Единственная — в счастье и в печали,
в болезни и здравии — одна,
такая же в конце, как и в начале,
которой даже старость не страшна!
Не на песке построенное зданье,
не выдумка досужая, она —
пожизненное первое свиданье,
сто тысяч раз встающая волна.
Я не гадалка, я судьбы не знаю,
как будешь жить — смеясь или скорбя?
Но все равно всем сердцем заклинаю:
не позволяй обманывать себя!
Любовь, не знающая увяданья,
любовь, с которою несовместима ложь…
Верь, слышишь, верь в ее существованье,
я обещаю, — ты ее найдешь.
1945 г.
***
Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.
Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым…
По-взрослому нахмурив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.
Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.
Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.
Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любуется малыш».
И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«…Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».
1946 г.
***
Загляденье была соседка
Кареглазая, с нежной кожей.
Оборачивались нередко и глядели ей в след прохожие.
А потом она постарела,
Потеряла всё, что имела,
Стала старой старухой грузной
Из вчерашней девчонки хрупкой.
А старик, и смешно и грустно,
Всё гордится своей голубкой.
Как была говорит красавица,
Так красавицей и осталась.
Люди слушают, усмехаются
Дескать вовсе ослеп под старость.
Если б ты совета просила,
Я б дала один единый
Не желай быть самой красивой,
А желай быть самой любимой.
***
Память сердца! Память сердца!
Без дороги бродишь ты, -
луч, блуждающий в тумане,
в океане темноты.
Разве можно знать заране,
что полюбится тебе,
память сердца, память сердца,
в человеческой судьбе?
Может, в городе — крылечко,
может, речка, может, снег,
может, малое словечко,
а в словечке — человек!
Ты захватишь вместо счастья
теплый дождь, долбящий жесть,
пропыленную ромашку
солнцу можешь предпочесть!..
Госпитальные палаты,
костылей унылый скрип…
Отчего-то предпочла ты
взять с собою запах лип.
И теперь всегда он дышит
над июньскою Москвой
той военною тревогой,
незабвенною тоской…
А когда во мгле морозной
красный шар идет на дно —
сердце бьется трудно, грозно,
задыхается оно…
Стук лопаты, комья глины,
и одна осталась я…
Это было в час заката,
в первых числах января.
А когда в ночи весенней
где-то кличет паровоз,
в сердце давнее смятенье,
счастье, жгучее до слез!
Память сердца! Память сердца!
Где предел тебе, скажи!
Перед этим озареньем
отступают рубежи.
Ты теплее, ты добрее
трезвой памяти ума…
Память сердца, память сердца,
ты — поэзия сама!
***
Мать
Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замасленную жесть,
колышет пламя снежная струя,
солдат в бреду…
И возле койки — я.
И рядом смерть.
Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем…
В Москве, на Бронной, у солдата — мать.
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом…
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице… ребячьи голоса…
Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг —
вернувшийся из школы ученик.
Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,
как будто умер он, а не уснул,
московский школьник… раненый солдат.
Он жить не будет.
Так сказал хирург.
Но нам нельзя не верить в чудеса,
и я отогреваю пальцы рук…
Минута… десять… двадцать… полчаса…
Снимаю одеяло, — как легка
исколотая шприцами рука.
За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.
Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час…
О как мне ненавистен с той поры
холодноватый запах камфары!
Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови…
Вот так. Еще. Не уступай! Живи!
…Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь…
Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,
и я таким увидела его,
каким он был на Киевском, когда
в последний раз,
печальна и горда,
ты обняла ребенка своего.
. . . . . . . . . . . . . . . .
В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды…
Все те же Патриаршие пруды,
шестиэтажный дом наискосок,
и снова дети роются в песке…
И, может быть, мы рядом на скамью
с тобой садимся.
Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,
над одиноким мальчиком твоим,
когда он уходил.
Что одинок
тогда он не был…
Что твоя тоска
мне больше,
чем кому-нибудь, близка…
***
Сколько милых ровесников
в братских могилах лежит.
Узловатая липа
родительский сон сторожит.
Все беднее теперь я,
бесплотнее день ото дня,
с каждой новой потерей
все меньше на свете меня.
Черноглазый ребенок…
Давно его, глупого, нет.
Вместо худенькой девушки —
плоский бумажный портрет.
Вместо женщины юной
осталась усталая мать.
Надлежит ей исчезнуть…
Но я не хочу исчезать!
Льются годы рекою,
сто обличий моих хороня,
только с каждой строкою
все больше на свете меня.
Оттого все страшнее мне
браться теперь за перо,
оттого все нужнее
разобраться, где зло, где добро.
Оттого все труднее
бросать на бумагу слова:
вот, мол, люди, любуйтесь,
глядите, мол, я какова!
Чем смогу заплатить я
за эту прекрасную власть,
за высокое право
в дома заходить не стучась?
Что могу?
Что должна я?
Сама до конца не пойму…
Только мне не солгать бы
ни в чем,
никогда,
никому!
***
Вот говорят: Россия…
Реченьки да березки…
А я твои руки вижу,
узловатые руки,
жесткие.
Руки, от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведенные, —
все заботы твои счастливые,
все труды твои обыденные,
все потери неисчислимые…
Отдохнуть бы, да нет привычки
на коленях лежать им праздно…
Я куплю тебе рукавички,
хочешь — синие, хочешь — красные?
Не говори «не надо», —
мол, на что красота старухе?
Я на сердце согреть бы рада
натруженные твои руки.
Как спасенье свое держу их,
волнения не осиля.
Добрые твои руки,
прекрасные твои руки,
матерь моя, Россия!
1962 г.
Вероника Тушнова (14 [27] марта 1911, Казань — 7 июля 1965, Москва)
____________________________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Вторник, 08.04.2025, 06:23 | Сообщение # 1586 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Ляля
Хотите, расскажу о своих предках? Не хотите, а я все равно расскажу. Понимаю, что это никому не интересно, но это интересно мне. И мне же очень хотелось бы, чтобы это было интересно моим детям.
Шёл 1941 год. Моему прапрадеду было уже под 80, точнее 77 лет. Он был военврачом и командовал госпиталем на колёсах, естественно, колёса эти бежали по ж.-д. путям, и все вагоны были забиты тяжело- и легкоранеными красноармейцами. Госпиталь двигался от Ленинграда по направлению, обозначенному в соответствующем приказе, то есть на Восток. И вместе с ним двигался Николай Николаевич Николаев, мой прапрадед. В письмах домой, которые сохранились в нашей семье, он подписывался «Николай 3» (Николай в кубе). Писал он эти письма на тёмно-синих промокашках, складывал их треугольником и адресовал их своей внучке, моей бабушке, по питерской привычке называя ее Лялей. Я читал эти письма, они сохранились…
В пути их немного бомбили, скорее для профилактики, но больше пугали, так как на крышах поезда виднелись не красные звезды, а красные кресты.
Потом поезд дёрнулся и остановился. Машинист увидел развороченные пути и немецкий танк. Это был либо десант, прорвавшийся южнее, или одно из танковых клиньев, вбитых в тело нашего народа немцами. Этого я уже не смог узнать точно. Да это и не важно… Немцы очень педантичный народ, поэтому аккуратно постреляв охрану поезда, начали методично от вагона к вагону расстреливать тяжело - и легкораненых. От вагона к вагону методично и с известной сноровкой.
Мой прапрадед Николай Николаевич был коренным питерцем, слегка по-питерски грассировал и растягивал звуки, был знаком с Андреем Чёрным, сам пописывал вирши, как он их называл, и кроме того, свободно говорил по-немецки (что для того времени было достаточно обычно). Но был за ним ещё один грешок – он очень любил Гёте и многое из «Фауста» знал наизусть.
Он вышел из поезда в форме военврача и валенках и своим стариковским голосом начал громко читать на немецком языке «Фауста». Просто вышел и просто начал читать «Фауста». Немцы очень педантично окружили старичка и с большим интересом слушали немецкого классика в исполнении русского врача. Читал он долго, немцы аплодировали. И так как руки у них были заняты, то в тяжело- и легкораненых красноармейцев они не стреляли.
А потом они взяли руссиш дедушка и сожгли его в топке паровоза. Вот так просто открыли дверцу и двое крепких ребят забросили его сухонькое тело прямо в жерло паровоза.
А потом пришли наши танки, и убили немецких мальчиков, и сожгли немецкий танк, и отремонтировали ж.-д. пути, и поезд снова двинулся к станции назначения.
А выжившие тяжело- и легкораненые ещё долго писали письма моей прабабушке Анне Григорьевне, а она их читала вслух своей дочери, моей бабушке, Ксении Викторовне, которую Николай в кубе называл Лялей.
Интересно, тот огонь, что дал мой предок, дал возможность двинуться поезду с Запада на Восток? Или с Востока на Запад?
Застава
Моя бабушка родилась на Дальнем Востоке. В свидетельстве о рождении указан г. Владивосток и 1927 год. Это не совсем верно, так как бабушка родилась на одном из островов недалеко от Сахалина. На погранзаставе.
Всё население островка составляло 50 человек. Их можно описать очень коротко, так это и делала моя бабушка: папа, мама, я, красноармеец с винтовкой и айны.
Айны очень любили мою бабушку и очень боялись мою прабабушку. А все из-за медведей. Дело в том, что медведей на острове было много, а других продуктов питания мало. И айны этих самых медведей постреливали, мясо ели, жир топили, жилы использовали в качестве ниток, а клыки в качестве украшений. Настоящий каменный век.
Айны очень боялись японцев, которые их достаточно серьёзно геноцидили, поэтому копали свои землянки вокруг заставы. И моя бабушка Ксеня гуляла по их деревне с самого рождения. Заходила под их меховой кров и ела медвежатину. Лапы, спину, шею, лучшее мясо медведя. Бабушка говорила мне, что молодой медведь, с которого сняли шкуру, похож на голую женщину, а по вкусу на нежнейшую говядину.
А вот моя прабабка медвежатину не выносила – её вид вызывал в ней брезгливость, а запах казался с гнильцой даже у только что убитого медведя. Когда она находила девочку Лялю с чёрными косичками и блестящими глазами, жующую длинную полоску жирной медвежьей спины, она приходила в ярость. И тогда айны вспоминали о японцах с теплотой.
Анна Григорьевна выбрасывала медвежьи лапы в мусорные ямы, а на замечания мужа отвечала, что мясо быстро испортилось и она не успела его приготовить. Айнам это не нравилось, так как медведь для них был священным животным, и вообще айны считали, что произошли от медведя, а его поедание было ещё и ритуальным каннибализмом. Племя приглашало на «медвежий праздник» моего прадеда и бабку, но прабабку никогда.
Местный шаман пытался бороться с прабабкой своей магией, но победить эту женщину ничего не могло (она умерла почти в столетнем возрасте в 1991 году). Шаман умер от гриппа…
Мой прадед Виктор Николаевич отрастил длинную бороду и носил айнскую куртку – рупури. Поэтому японцы частенько не могли его отличить от айна. Айны были очень бородаты и совсем не похожи на азиатов. Скорее чертами лица они были похожи на браминов или на заросших цыган. У многих были тёмно-русые, почти сивые волосы и светлые глаза. Очень странный народ…
Однажды прадед Виктор Николаевич ушёл на охоту. Анна Григорьевна занималась домашними делами и не заметила, что дочка ушла с заставы. Мама Аня (так мы называли её в семье) не смогла дозваться Лялю и пошла по землянкам в поисках дочки. Она успела вовремя, над девочкой уже произвели обряд приёма в племя, и старая айнка собиралась наносить ей на губы ритуальные татуировки. Был крупный скандал, Анна Григорьевна была вне себя, айны шкерились от неё по всему острову (поистине демоническая женщина с абсолютно не русской красотой). А мой прадед, вернувшись с охоты, веселился целый день, выяснив, что же произошло. Оказалось, моя бабка сама уговорила добродушных аборигенов принять её в племя и очень хотела получить татуировки на губы и шею. «Потому что красиво…» – объясняла она потом.
Медвежье мясо обладает, судя по всему, чудесным тонизирующим эффектом. Моей бабушке уже за 80, и большую часть своей жизни она занимается спортом… До сих пор участвует в международных соревнованиях и занимает призовые места. Стальная женщина, вскормленная на медвежатине…
Айны – малочисленный народ, но где-то далеко на западе живёт человек, которого они приняли в своё племя и который даже помнит несколько слов на их языке.
Значит ли это, что я тоже в какой-то степени айн?
Письмо
Старшим ребёнком моего прадеда был Вячеслав. «Дядя Вяча», как называли его у нас в семье. Я его немного помню. Это был сухощавый, двухметровый дядька с ладонями широкими, как совковая лопата, и огромными кулачищами, когда он эти ладони сжимал. При всем при этом руки у него были золотые.
Всё моё детство меня сопровождали вещи, сделанные дядей Вячей, – финские ножи в ножнах и с кровотоком, шкатулки под бумаги, обложки для документов, портсигары и прочее. Он жил с женой во Львове почти в самом центре у старого замка, в доме с палисадником. Работал токарем. Остальные токаря его не жаловали – во-первых, пришлый, а во-вторых, он был новатор. Работу свою он любил и старался ее усовершенствовать. У него было много патентов на изобретения. Большие такие, крупноволоконные листы бумаги. Эти патенты подымали норму другим токарям. Токари пробовали набить ему морду. Но дядя Вяча в молодости был чемпионом Карелии по боксу, и набить морду ему получалось крайне редко. Несмотря на то что у него не было ноги и ходил он с костылём.
Он часто напевал «Хорошо тому живётся, у кого одна нога: и ботинок не сотрётся, и штанина лишь одна». Его мучили фантомные боли, казалось, что чешется пятка ампутированной ноги, и почесать её не было никакой возможности. В эти моменты он ругал комбата нехорошими словами, а потом, когда отходил, говорил: «Нет, нормальный мужик, не гадина…»
Как он потерял ногу? Сейчас расскажу…
Дядя Вяча служил в разведке морской пехоты (его пояс с «крабом»-якорем и звездой – наша семейная реликвия). Под Ленинградом было дело. Дали ему задание – перейти линию фронта и добыть языка. Он и ещё двое сбегали к немцам и к утру вернулись в компании пленного. Дядя Вяча нёс трофейный автомат, светило солнце, они остались живы – хорошо… Немец шёл послушно и не рыпался, и дяде Вяче приказали отвести языка к командиру самостоятельно, не передавая охранной команде. На подходе к штабному блиндажу дядю Вячу окликнул почтальон и вручил письмо от матери. Ну что за чудесный день, ещё и письмо пришло…
В письме было написано примерно следующее: дорогой сыночек, твоего дедушку сожгли в паровозной топке, твой отец пропал без вести, твой дядя Миша ранен и может лишиться зрения, твоя сестра Ксеня и я с маленьким Валеркой в Вятке в эвакуации, голодаем и живём на угольном складе. У меня пропало молоко и Валерку кормит Ксеня, разжевывая чёрный хлеб, и, заворачивая его в тряпицу, делает соску. У Ксени в 14 лет появилась седая прядь волос, она работает в госпитале санитаркой, носит раненых и умерших на носилках. Я тебя очень люблю. Бей немчуру.
Дядя Вяча скинул с плеча трофейный автомат и разворотил живот немецкого пленного короткой очередью. Разгневанный комбат выбежал из блиндажа и попытался его разоружить. Получив короткий хук в челюсть, комбат успокоился и, полежав немного, объявил о трибунале.
Нападение на командира в боевых условиях, неподчинение приказу, расстрел пленного – это серьёзно. Вячеслава Викторовича должны были расстрелять перед строем.
Комбат прочитал письмо, которое получил Дядя Вяча, и поэтому младший лейтенант Вячеслав Викторович Николаев был судим за ненадлежащее исполнение приказа и негуманное отношение к пленному. Он был разжалован и отправлен в штрафбат. Под артиллерийским огнём противника форсировал Неву и десантировался на Невский пятачок, где кусок качественной немецкой стали лишил его ноги.
Преступник ли мой двоюродный дед – дядя Вяча? Ведь он расстрелял пленного. Комбат – сволочь? Ведь он отправил молодого пацана в штрафбат. Следует ли мне харкнуть в морду продюсеру фильма «Штрафбат»? Вопросов много.
Война длиною в жизнь
Мой прадед Виктор Николаевич родился в Санкт-Петербурге, учился в военном училище и в 1915 году ушёл добровольцем на фронт. Первая мировая была в самом разгаре, и 18-летний парень шёл на неё, как все 18-летние, с романтическим задором. Воевал храбро, был награждён медалью. Попал к немцам в плен, бежал, был пойман, бит по пяткам железной рейкой. Бежал второй раз, в ноябре месяце переплыл белорусскую речку Березину, голодал, вернулся в строй. Немцев называл «колбасниками» и ненавидел люто.
Революцию принял спокойно, стал военспецом, был направлен в Красноярск, где и познакомился со своей будущей женой Анной. Партизанил в отрядах Щетинкина, воевал с бароном Унгером, с белочехами, затем с японцами. Награждён орденом Красной Звезды и званием «Почётный красный партизан». Был начальником пограничной заставы на Сахалине. Был переведён в Карелию. Участвовал в Зимней войне уже в звании майора, брал Выборг, воевал на Карельском перешейке. Затем в Выборге у него перед самой войной родился младший сын Валерка. После начала Великой Отечественной воевал на Ленинградском фронте, был ранен, контужен, сутки пролежал в воронке, полной воды. Месяц был в бреду, считался пропавшим без вести, затем убитым (похоронка пришла жене, и она слегла, помутился разум). Но выжил, попал в госпиталь, подлечили и отправили к семье в Вятку (Киров).
Вятка была эвакопунктом, куда вывозили из блокадного Ленинграда тысячи людей. Там была картошка, и молоко, и масло. Все это продавалось на рынке.
Когда мой прадед шёл по улице – высокий, красивый, в новой офицерской шинели, – все оборачивались. Он широко шагал по мощёным мостовым старого купеческого города, а за ним семенила маленькая 14-летняя девочка (моя бабка), которая несла на руках годовалого мальчонку, закутанного в бешмет, и тащила на плечах огромный вещмешок. Рядом, как тень, шла его жена и несла чемодан с вещами на рынок для обмена на продукты.
Розовощёкие торговки из ближних сел стыдили прадеда: вот, мол, какой – девчёнок да баб тяжести заставляет таскать, а сам как фон-барон здесь ходит, в то время как все мужики на фронте кровь проливают. Виктор Николаевич (папа Витя) бледнел и начинал играть желваками (эту привычку унаследовал и мой отец, и я тоже).
У него отнялись руки, и, несмотря на широкий шаг, и одеваться и раздеваться он самостоятельно не мог. Широкие плечи и офицерская шинель скрывали его инвалидность. А сам себя он инвалидом не признавал никогда и через одиннадцать лет упорными тренировками вернул себе руки.
Как-то на вокзале Вятки он с дочерью подвергся нападению шпаны. Они встали спиной к спине, положив между собой на землю вещмешок с картошкой и хлебом, и отбивались от местной банды. Ксеня дралась как чёрт, защищая отца, а прадед бил ногами и головой. Кто-то вытащил финку и ткнул ему в живот. Если бы не подошёл поезд с фронтовиками, которые разогнали урок, меня могло бы и не быть на свете. Продукты, правда, сохранить не удалось.
1968
Валерка, младший сын моего прадеда, пошёл в отца. Дядя Вяча, бабушка Ксеня, мой отец пошли в мою прабабку. Тонкокостные, черноволосые с иссиня-белой кожей, под которой голубыми жилками билась жизнь… Валерка был похож на отца. Светлые вьющиеся волосы, тепло-розовая кожа, небесно-голубые глаза, улыбка. Маленьким он был очень симпатичным, потому и выжил в тяжелые военные годы.
Он так умильно смотрел на торговок, что ни одна не могла устоять, каждая давала кусочек масла или ложку молока. Когда в 1943 году ему впервые дали кусочек белого хлеба, он плакал и отказывался его есть. Он не верил, что это хлеб. Хлеб, по его мнению, должен был быть чернильного цвета и пахнуть дёгтем. Его вместе с сестрой и матерью вывезли из Ленинграда по Дороге жизни, по льду – всю дорогу он молчал.
Во время блокады его «спас» товарищ Ворошилов. Бабушка Ксеня в школе выполнила норму Ворошиловского стрелка, из мелкашки она стреляла ворон (голубей уже давно всех съели). Затем ворон варили вместе с перьями, ощипывали, цедили бульон. Мясо ели, бульон пили. Сладковатый, вонючий и приторный бульон из мяса «летающей свиньи». За тот бульон, которым бабушка его кормила, за то, что она отдавала свою пайку, за всю заботу, которой она его окружила, Валерка всю жизнь называл её мама Ляля. У него было две мамы.
Он вырос хулиганистым парнем, гонял на мотоцикле, дрался, курил. Прибивал на каблуки сапог подковы и, разгоняясь на мотоцикле, чиркал по мощеной мостовой ногой. Рой искр и скрежет. Хулиган и обормот… Технику любил беззаветно – машины, мотоциклы…
В 1968 году взбунтовалась Чехословакия. Его отправили в Брно, чешскую глухомань, усмирять зарвавшихся братьев-славян. Он нёсся на мотоцикле по улицам этого городишка в форме советского мотострелка. За ним ехал его ведомый, чернявый парень из Харькова. Заботливые чешские повстанцы натянули стальную проволоку на уровне шеи. Наверно, хотели побороться с красным тоталитаризмом. Но Валерка был опытным мотоциклистом, он разглядел опасность и вовремя свернул левее на тротуар. Дёрнул руль правее… Тут, видимо, вмешалась судьба, т. к. он увидел перед собой тётку в жёлтом пальто, которая держала за руку девочку в таком же пальтишке. Всё это похоже на мелодраму, но факты вещь упрямая. Валерий Викторович Николаев свернул левее и на скорости влетел в подъезд дома в городе Брно. Погиб на месте.
Когда его тело привезли моей прабабке, она первый раз в жизни заплакала – он был её любимцем. Она ходила на Польское кладбище, на котором Валерия захоронили, изо дня в день. С 8 утра до 16 вечера она сидела возле могилы и что-то шептала.
Мой отец пошёл по Валеркиным стопам и занимался мотоспортом. Это была его жизнь, его занятие, он был рождён для скорости. Мама Аня, его бабушка, взяла с него слово, что он никогда не сядет на мотоцикл.
Отец держал слово до пятидесяти лет. Сейчас он, как беспечный ездок-пенсионер, летает на своём байке по ночным улицам.
ЧК
Мама Аня, моя прабабка, появилась на свет в 1900 году в Красноярске. Её отцом был киевский священник по имени Григорий. Фамилия его была Каменский – так что, скорее всего, он был украинцем. Матери она не помнила. Отец был учителем в церковно-приходской школе, учил русских детей и детей сибирских народов письму, чтению, счёту и Слову Божьему. Он умер в 1916 году. А дочку оставили в той же самой школе – воспитанницей. Несмотря на то что Анна Григорьевна закончила только церковно-приходскую школу – она была очень грамотна при письме, а её почерк был недостижимым идеалом для меня (у меня ужасный почерк и крайне низкая грамотность).
На зиму учеников отдавали отцу Григорию «на приют» – их кормили, одевали, и жили они так же при церкви. Иногда приезжал местный купец Полуянов, попечитель приюта, и привозил свежеубиенного лося. Все дети садились за большой стол и лепили пельмени с лосятиной, скидывая их в наволочки от подушек. Наволочки выносили на улицу и подвешивали на деревья, повыше, чтобы «росомахи не достали».
В феврале 1917 года прабабушка получила в подарок от попечительского совета новое пальто, а в России произошла революция. В апреле весь Красноярск высыпал на демонстрацию, оркестр играл вальсы и марши, все дружно начали называть друг дружку «граждане и гражданки».
Мама Аня в это время училась на курсах машинисток (это как в наше время курсы продвинутого пользователя ПК) и начала курить папиросы. Она надела новое пальто, нацепила красный «революцъонный» бант на лацкан и пошла с сокурсницами слушать вальсы и марши. В тот год в стране было жарко, и поэтому апрельский дождь в Сибири никого не удивил. Дождь намочил красный революцъонный бант, и тот потёк краской и испачкал пальто. Оно стало красным, как бант. По приходе домой Анна Григорьевна получила от кастелянши «по мордасам» за испорченную вещь. Пальто было изъято, и прабабке пришлось до тепла просидеть дома.
В октябре в стране произошла ещё одна революция, жизнь стала голодней. Прабабка пошла устраиваться на работу. Как дочку попа при новой власти на работу её не брали. Тогда она устроилась работать машинисткой в ЧК (то есть в тогдашнее КГБ), специалистов не хватало, и на происхождение там никто не смотрел. Она получила продуктовые карточки на месяц и четыре рубля керенками на папиросы – смех, а не зарплата. Три дня она добросовестно печатала на машинке документацию чекистов. На четвёртый день хлеб закончился, и 17-летняя Анна не пошла на работу. Нет хлеба – нет и машинистки. Чисто приютская логика.
История не помнит фамилию начальника горЧК, который приказал двум вооружённым трехлинейками бойцам, в малахае и будённовке, доставить Анну Григорьевну Каменскую на рабочее место и проследить за выполнением ею должностных обязанностей. Но это явно был человек с юмором. Каждое утро за мамой Аней заходил домой конвой и отводил на рабочее место. Через месяц ей снова предложили зарплату в 4 рубля керенками и продуктов на месяц. Анна отказалась. Она выходила замуж за человека, которого увидела на улице, когда её конвоировали к месту несения службы. Каждое утро он провожал их до здания красноярского ЧК и делал ей предложение. Она согласилась…
Этот человек дал ей свою фамилию, троих детей и множество переездов с запада на восток и с востока на запад. Этот человек мой прадед – Виктор.
Когда я маленьким мальчиком врал своему отцу (где я взял патронные гильзы, почему опоздал домой и т. д.), мой папаня мне говорил: «У меня бабушка в ЧК работала, я тебя, шельму, насквозь вижу…»
Я тогда не знал, что она только месяц отработала, иначе врал бы убедительнее.
Читать: «Моя Новороссия. Записки добровольца»
© Евгений Николаев, 2025 https://www.litres.ru/book....-onlayn
__________________________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 08.05.2025, 18:28 | Сообщение # 1587 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Если я заболею, https://rutube.ru/video/df0dea0ae48a80c4b819612e828d5b48/
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.
Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
1940 г.
***
1 января 1941 года
Так повелось, что в серебре метели,
в глухой тиши декабрьских вечеров,
оставив лес, идут степенно ели
к далеким окнам шумных городов.
И, веселясь, торгуют горожане
для украшенья жительниц лесных
базарных нитей тонкое сиянье
и грубый блеск игрушек расписных.
Откроем дверь: пусть в комнаты сегодня
в своих расшитых валенках войдет,
осыпан хвоей елки новогодней,
звеня шарами, сорок первый год.
Мы все готовы к долгожданной встрече:
в торжественной минутной тишине
покоем дышат пламенные печи,
в ладонях елок пламенеют свечи,
и пляшет пламень в искристом вине.
В преддверье сорок первого, вначале
мы оценить прошедшее должны.
Мои товарищи сороковой встречали
не за столом, не в освещенном зале —
в жестоком дыме северной войны.
Стихали орудийные раскаты,
и слушал затемненный Ленинград,
как чокались гранаты о гранату,
штыки о штык, приклады о приклад.
Мы не забудем и не забывали,
что батальоны наши наступали,
неудержимо двигаясь вперед,
как наступает легкий час рассвета,
как после вьюги наступает лето,
как наступает сорок первый год.
Прославлен день тот самым громким словом,
когда, разбив тюремные оковы,
к нам сыновья Прибалтики пришли.
Мы рядом шли на празднестве осеннем,
и я увидел в этом единенье
прообраз единения земли.
Еще за то добром помянем старый,
что он засыпал длинные амбары
шумящим хлебом осени своей
и отковал своей рукою спорой
для красной авиации — моторы,
орудия — для красных батарей.
Мы ждем гостей — пожалуйте учиться!
Но если ночью воющая птица
с подарком прилетит пороховым —
сотрем врага. И это так же верно,
как-то, что мы вступили в сорок первый
и предыдущий был сороковым.
***
У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.
Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.
Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.
Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского занял кольцо.
Вы, прадеды наши, в неволе,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.
Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.
Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной
и белым лебяжьим пером.
Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.
Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.
***
Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.
Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.
Для нее ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.
Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.
Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.
Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.
Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным
даже окиси привкус во рту.
Даже жесткие эти морщины,
что по лбу и по щекам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.
Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.
Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют…
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.
***
Иные люди с умным чванством,
от высоты навеселе,
считают чуть ли не мещанством
мою привязанность к земле.
Но погоди, научный автор,
ученый юноша, постой!
Я уважаю космонавтов
ничуть не меньше, чем другой.
Я им обоим благодарен,
пред ними кепку снять готов.
Пусть вечно славится Гагарин
и вечно славится Титов!
Пусть в неизвестности державной,
умнее бога самого,
свой труд ведет конструктор Главный
и все помощники его.
Я б сам по заданной программе,
хотя мой шанс ничтожно мал,
в ту беспредельность, что над нами,
с восторгом юности слетал.
Но у меня желанья нету,
нет нетерпенья, так сказать,
всю эту старую планету
на астероиды менять.
От этих сосен и акаций,
из этой вьюги и жары
я не хочу переселяться
в иные, чуждые миры.
Не оттого, что в наших кружках
нет слез тщеты и нищеты
и сами прыгают галушки
во все разинутые рты.
Не потому, чтоб здесь спокойно
жизнь человечества текла:
потерян счет боям и войнам
и нет трагедиям числа.
Терпенье нужно, и геройство,
и даже гибель, может быть,
чтоб всей земли переустройство,
как подобает, завершить.
И все же мне родней и ближе
загадок Марса и Луны
судьба Рязани и Парижа
и той испанской стороны.
***
Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.
Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,
островерхие
дети метели —
наша память
о том январе.
Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.
***
Одна младая поэтесса,
живя в достатке и красе,
недавно одарила прессу
полустишком-полуэссе.
Она отчасти по привычке
и так как критика велит
через окно из электрички
глядела на наружный быт.
И углядела у обочин
(мелькают стекла и рябят),
что женщины путей рабочих
вдоль рельсов утром хлеб едят.
И перед ними — случай редкий, —
всем представленьям вопреки,
не ресторанные салфетки,
а из холстины узелки.
Они одеты небогато,
но все ж смеются и смешат,
И в глине острые лопаты
средь ихних завтраков торчат.
И поэтесса та недаром
чутьем каким-то городским
среди случайных гонораров
вдруг позавидовала им.
Ей отчего-то захотелось
из жизни чуть не взаперти,
вдруг проявив большую смелость,
на ближней станции сойти
и кушать мирно и безвестно —
почетна маленькая роль! —
не шашлыки, а хлеб тот честный
и крупно молотую соль.…
А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.
***
Твое письмо пришло без опозданья,
и тотчас — не во сне, а наяву —
как младший лейтенант на спецзаданье,
я бросил все и прилетел в Москву.
А за столом, как было в даты эти
у нас давным-давно заведено,
уже сидели женщины и дети,
искрился чай, и булькало вино.
Уже шелка слегка примяли дамы,
не соблюдали девочки манер,
и свой бокал по-строевому прямо
устал держать заезжий офицер.
Дым папирос под люстрою клубился,
сияли счастьем личики невест.
Вот тут-то я как раз и появился,
Как некий ангел отдаленных мест.
В казенной шапке, в лагерном бушлате,
полученном в интинской стороне,
без пуговиц, но с черною печатью,
поставленной чекистом на спине.
Так я предстал пред вами, осужденным
на вечный труд неправедным судом,
с лицом по-старчески изнеможденным,
с потухшим взглядом и умолкшим ртом.
Моя тоска твоих гостей смутила.
Смолк разговор, угас застольный пыл…
Но, боже мой, ведь ты сама просила,
чтоб в этот день я вместе с вами был!
***
Верь мне, дорогая моя.
Я эти слова говорю с трудом,
но они пройдут по всем городам
и войдут, как странники, в каждый дом.
Я вырвался наконец из угла
и всем хочу рассказать про это:
ни звезд, ни гудков —
за окном легла
майская ночь накануне рассвета.
Столько в ней силы и чистоты,
так бьют в лицо предрассветные стрелы
будто мы вместе одни, будто ты
прямо в сердце мое посмотрела.
Отсюда, с высот пяти этажей,
с вершины любви, где сердце тонет,
весь мир — без крови, без рубежей —
мне виден, как на моей ладони.
Гор — не измерить и рек — не счесть,
и все в моей человечьей власти.
Наверное, это как раз и есть,
что называется — полное счастье.
Вот гляди: я поднялся, стал,
подошел к столу — и, как ни странно,
этот старенький письменный стол
заиграл звучнее органа.
Вот я руку сейчас подниму
(мне это не трудно — так, пустяки)-
и один за другим, по одному
на деревьях распустятся лепестки.
Только слово скажу одно,
и, заслышав его, издалека,
бесшумно, за звеном звено,
на землю опустятся облака.
И мы тогда с тобою вдвоем,
полны ощущенья чистейшего света,
за руки взявшись, меж них пройдем,
будто две странствующие кометы.
Двадцать семь лет неудач — пустяки,
если мир — в честь любви — украсили флаги,
и я, побледнев, пишу стихи
о тебе на листьях нотной бумаги.
***
Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панама
на венке поредевших волос.
Оттеняет терпенье и ласку
потемневшая в битвах Москвы
материнского воинства каска —
украшенье седой головы.
Все стволы, что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей.
Ты заштопала их, моя мама,
но они все равно мне видны,
эти грубые длинные шрамы —
беспощадные метки войны…
Дай же, милая, я поцелую,
от волненья дыша горячо,
эту бедную прядку седую
и задетое пулей плечо.
В дни, когда из окошек вагонных
мы глотали движения дым
и считали свои перегоны
по дорогам к окопам своим,
как скульптуры из ветра и стали,
на откосах железных путей
днем и ночью бессменно стояли
батальоны седых матерей.
Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.
Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках
и солдаты в могилах своих.
Больше нет и не надо разлуки,
и держу я в ладони своей
эти милые трудные руки,
словно руки России моей.
***
Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама — на сундук, а гостям — кровать.
Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.
Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого — пожалеет, кого — поздравит,
кого — подбодрит, а кого — поправит.
Совесть людская. Мама моя.
Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.
Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.
Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.
***
И современники, и тени
в тиши беседуют со мной.
Острее стало ощущенье
Шагов Истории самой.
Она своею тьмой и светом
меня омыла и ожгла.
Все явственней ее приметы,
понятней мысли и дела.
Мне этой радости доныне
не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимей
вся та преемственная связь.
Как словно я мальчонка в шубке
и за тебя, родная Русь,
как бы за бабушкину юбку,
спеша и падая, держусь.
1966 г.
***
Пролетарии всех стран,
бейте в красный барабан!
Сил на это не жалейте,
не глядите вкось и врозь —
в обе палки вместе бейте
так, чтоб небо затряслось.
Опускайте громче руку,
извинений не прося,
чтоб от этого от стуку
отворилось всё и вся.
Грузчик, каменщик и плотник,
весь народ мастеровой,
выходите на субботник
по масштабу мировой.
Наступает час расплаты
за дубинки и штыки —
собирайте все лопаты,
все мотыги и кирки.
Работенка вам по силам,
по душе и по уму:
ройте общую могилу
Капиталу самому.
Ройте все единым духом,
дружно плечи веселя, —
пусть ему не станет пухом
наша общая земля.
Мы ж недаром изучали
«Манифест» и «Капитал»,
Маркс и Энгельс дело знали,
Ленин дело понимал.
Ярослав Смеляков (26 декабря 1912 [8 января 1913] - 1972.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.)
__________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Суббота, 10.05.2025, 07:21 | Сообщение # 1588 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Я погиб в Подмосковном лесу,
В ноябре сорок первого года,
Где закаты, сменяя восходы,
Караул надо мною несут.
Так и спал бы, окутанный тьмой,
Но внезапно какая-то сила
Ненадолго меня воскресила
И незримо вернула домой.
Из того злополучного дня,
Где осколки пронзили мне тело…
Это сколько же лет пролетело?
Внук давно уже старше меня…
Я шагаю, считая года,
Окружающей жизни внимая…
Что за праздник Девятого Мая?
День Победы?! Конечно же! Да!
Я же помню – хрипел старшина
С перебитыми взрывом ногами:
«Мы умрём, но Победа за нами
И Советская наша страна!»
Значит, гибель была не пустой!
Значит, я умирал не напрасно,
Если ныне на площади Красной –
Марш Победы идёт! Но… постой…
Что за странные флаги вокруг?
И в руках, и над площадью тоже…
Почему Мавзолей загорожен?
Чью победу ты празднуешь, внук?
Слышу речь: был фашистам конец,
Красный флаг водружён над Рейхстагом.
Отчего же тогда этим флагом
Не увенчан Кремлёвский Дворец?
Кто вам дуло приставил к виску?
Кто велел, изменяя присяге,
Строем встать под трёхцветные стяги?
Может, белые взяли Москву?
Ты, конечно, не слышишь меня,
Для тебя я – лишь старое фото.
У тебя есть дела и заботы,
В ожидании нового дня.
Мне ж пора возвращаться уже
В день, разодранный бомбовым свистом,
Где «Считайте меня коммунистом!»
Перед боем писал в блиндаже…
***
Евдокии сон был тяжкий –
Через зубы рвался стон…
Будто сын принёс рубашку
И кладёт её на стол.
Просит: «Мама, сделай милость…
Собираюсь в дальний путь,
А рубаха прохудилась!
Ты заштопай как-нибудь.»
«Где ж прореха-то? Не вижу,
Стёкла ль мутные в очках?»
Сын указывает ниже
Комсомольского значка.
Надо ж, дырочка с копейку,
Словно кто цигаркой жёг,
А зашить ещё сумей-ка –
Не берёт её стежок!
«Не выходит, право слово!» -
Опускает руки мать:
«Легче сшить рубаху снова,
Чем худую залатать!»
«Ладно!» - сын улыбкой светит:
«Еду, вроде, не на бал –
Чай, никто и не приметит!
Я же… без вести пропал.»
. . .
Под окном рябины стынут,
На печи пригрелся кот.
Мать рубашку шьёт для сына…
Вот уже который год.
***
Меня нередко упрекают в том,
Что, бросив романтические тропы,
Я шёлковый лирический хитон
Сменил на гимнастёрку агитпропа,
Что пылкую не воспеваю страсть,
Не возношу хвалу любви и вере –
Юродствую, высмеивая власть
В ехидной сатирической манере.
Покорно принимаю сей упрёк,
Пытаясь балансировать на грани!
Однако, наполнять сплетенье строк
Могу лишь тем, что больно душу ранит.
Но не фантазией больна душа моя,
А неприглядной сутью бытия…
***
Денёк погожий катится к концу.
С улыбкою без видимой причины,
Букет сирени поднеся к лицу,
Сидит в кафе, задумавшись, мужчина…
И вдруг вопрос: «Где руку потерял?»
И сразу ясно – этот не отстанет,
Добьётся, что его обматерят
Или побьют… Ответ: «В Афганистане».
«В Афганистане?!» - «На медаль взгляни».
«Должно быть, без руки не жизнь, а мука?
И ты меня, конечно, извини,
Но, понимаешь, вот какая штука.
Ты ж выполнял приказы подлецов,
Жирующих в роскошных кабинетах!
Какую землю и каких отцов
Ты защищал? Ты понимаешь это?
Конечно, ты считаешь, я неправ,
И думаешь, ты этим не запятнан,
Но пенсия и твой пустой рукав
Нас убеждают-то, как раз, в обратном!
А пафосу-то, пафосу теперь!
Подайте, дескать, нам таким героям!
И барабанят в запертую дверь,
И думают, что им тотчас откроют…»
Солдат молчал и вспоминал о том,
Как под палящим азиатским солнцем
Мечтал вернуться в свой далёкий дом,
Где куст сирени веткой скрёб в оконце…
Затем разрыв гранаты… А потом,
В горячечного бреда липких лапах,
Среди кровавой ваты и бинтов
Мерещился сирени сладкий запах.
Ещё он вспомнил, что в столе лежит
Последний, пожелтевший снимок деда,
Который не вернулся, не дожив
Каких-то две недели до Победы.
За что же он, уральский паренёк,
За Сталина или за орден «Славы»,
Сражался и в сырую землю лёг?
В чужую землю, где-то под Бреслау…
Чем убедить того, кто брюхом сыт
И дышит смрадно перегаром виски,
Что ни какие точные весы
Не взвесят орденов и обелисков?
В какие б страны или города
Ни занесла военная судьбина,
Простой солдат сражается всегда -
За дом родной и тех, кого любил он!
И он в далёкой и чужой стране
Сражался не за сытные обеды,
А за любовь, за тихий свет в окне
И за сирень, посаженную дедом…
Но тут воспоминания прервав,
Зашёлся этот тип в словесной рвоте:
«За что, за что, за что ты воевал,
Геройствуя в забытой богом роте?!»
Солдат бы мог, конечно, подойти,
Единственной рукой, за обе твёрдой,
Рискнув сидеть от года до пяти,
Разбить об стол зарвавшемуся морду.
Но он поднялся ровно и без слёз
Перед любителем пустых досужих прений,
И, улыбнувшись, тихо произнёс:
«Я воевал… за веточку сирени…»
***
Иван Петрович был большой
Любитель курочки с лапшой
И жил с женою в Пролетарском переулке.
Но вот, господь не уберёг,
Прочёл в журнале "Огонёк"
Про вальсы Шуберта и хруст французской булки.
Там говорилось на беду,
Что, мол, в семнадцатом году
Страну разрушили большевики (евреи!),
А раньше было - боже мой! -
Не жизнь, а просто рай земной:
Балы, мазурки, фраки и ливреи...
В итоге, получилось так,
Что этот вопиющий факт
Пронзил насквозь его ранимую натуру,
И с той поры Петрович мог
Часами, глядя в потолок,
Переживать за разорённую культуру.
В мозгу кружился мыслей рой -
Он проклинал советский строй
За уравниловку, позор и униженье,
И в даль, где славная пора,
Мадмуазели, юнкера,
Влекло Петровича его воображенье.
Он грезил, будто было так:
Он облачается во фрак...
Ах, нет - в мундир, ведь он лейб-гвардии поручик!
Надев на палец бриллиант
И поправляя аксельбант,
Садится в бричку, приказав: "Вези, голубчик!"
И вот, уже к исходу дня,
Петрович, шпорами звеня,
Учтиво руку подаёт княжне-невесте,
Чей папенька устроил бал...
Но тут Петрович задремал
И очутился во весьма престранном месте.
Не то сарай, не то подвал...
И кто-то вдруг его позвал,
Пихая в бок ногой настойчиво и твёрдо:
"Эй, Ванька, чёрт тебя дери,
Ступай, в конюшне прибери!
Ишь, развалился! Пшёл работать, сучья морда!"
Петрович, не умыв лица,
Бежит и падает с крыльца,
Успев отметить неприятную картину -
Вокруг него, туда-сюда,
Степенно ходят господа
И на Петровича глядят, как на скотину.
Одна из дамочек брюзжит:
"Ах, до чего же груб мужик.
Представьте, если власть они получат!"
"Вы правы, милая княжна,
Им порка добрая нужна!" -
Твердит в ответ лейб-гвардии поручик.
Петрович утирает пот,
Петрович открывает рот,
Чтоб выкрикнуть, что думает об этом,
Но застревает крик во рту...
Он просыпается в поту,
А с губ срывается само: "Вся власть Советам!.."
***
Расступись, честной народ,
Дай манёвру место!
Будет левый поворот,
Будет интересно!
Будет много кумача,
Звёздочек, и даже
Кинофильм про Ильича
По ТВ покажут.
Будет праздничный концерт,
Песни про Победу,
И, наверное, в конце
Пригласят к обеду.
Дальше будет веселей –
К майским демонстрантам
Президент на Мавзолей
Выйдет с красным бантом.
Он указом утвердит
Счастье человеку:
Каждый сможет взять кредит
Или ипотеку.
А заморский буржуин
Заскулит в бесссилье,
Углядев, как из руин
Восстаёт Россия.
Будет славиться в веках
Наше превосходство!..
И не важно, в чьих руках
Средства производства…
P.S.
Что застыл, разинув рот,
Посреди дороги?
Хочешь левый поворот?
Заплати налоги!
***
На столбе висит фонарик,
Светит, сволочь, мне в окно…
Напишу-ка я сценарий
Для российского кино.
Про советские химеры
И страдающий народ,
Под названием, к примеру,
«Зулей… Фрол разинул рот».
(в шести частях с эпилогом)
В первой части всё прекрасно –
Пастораль и благодать.
Потому, что флагов красных
И в помине не видать.
Вот простая деревушка,
Где-то в средней полосе.
В стойле чавкает телушка,
Куры бродят по росе.
Мужичок трудяга-пахарь
Ходит по полю с конём
И расшитая рубаха
Развевается на нём.
Он, как вся честна Рассея,
Изодрав мозоли в кровь,
Садит рожь, картошку сеет,
Жнёт капусту и морковь.
Дома щи детишкам варит
Пышнотелая жена,
И полным-полно в амбаре
Всевозможного зерна.
У часовенки старуха
Бьёт поклоны, лоб крестя.
И никто ни сном ни духом
Об ужасных новостях…
Часть вторая. В небе мглистом
Бледно звёздочки горят.
Появляются чекисты,
Образуя продотряд.
Все, как должно, кровожадны,
Как положено, пьяны –
Все хотят кровавой жатвы
И расправы без вины.
Первым делом, жгут часовню,
Изувечив звонаря,
А затем, себя не помня,
Непотребщину творят.
Из наганов бьют скотину,
Рубят шашками цыплят,
В довершение картины,
Конфискуя всё подряд.
Плачут дети, воют бабы,
Общество возмущено:
«Вы б оставили хотя бы
Нам на всех одно зерно!»
Кто-то там грозится даже
Обратиться в исполком,
Но его берут под стражу,
Объявляя «кулаком»…
Третья часть. Мороз и голод.
Отпечатки волчьих лап.
Мат конвойных. Серп и молот.
Третий год идёт этап.
С голодухи помирают
Девять душ из десяти.
Их тела лежат по краю
Бесконечного пути.
Выражаясь неприлично,
Где-то под Улан-Удэ,
Всех расстреливает лично
Генерал НКВД…
Часть четвёртая. Землянка,
Вся промёрзшая насквозь.
На двоих одна портянка,
На троих - гороха горсть.
Вохра прячется в тулупы,
Контингент разут и гол,
Замороженные трупы
Образуют частокол.
В пятой части страх и ужас
Проявляются сполна.
Тьма сгущается. К тому же,
Начинается война.
Миллионы обречённых
Гонят в бой политруки.
Из состава заключённых
Формируются полки.
Началась артподготовка,
В бой идут одни зэка –
На троих одна винтовка
Без патронов и штыка.
Особист опух от пьянки,
Штрафников поставил в ряд
И велит бежать на танки.
В спину бьёт заградотряд.
Командир в кромешном мраке
Мельтешит туда-сюда.
Тех, кто выживут в атаке,
Ждут расстрелы без суда.
Часть шестая. Над Рейхстагом
Развернулся красный флаг.
Полстраны парадным шагом
Возвращается в ГУЛАГ.
Остальным достались слёзы,
Униженья там и тут,
Голод, гиблые колхозы,
На заводах рабский труд,
Тайный секс на грязной койке,
Ненавистный партбилет…
До начала Перестройки
Сорок долгих горьких лет.
Эпилог. Гулянья в парке…
Завершив сюжета нить,
Крупный план – на иномарке
Надпись: «Можем повторить!»
Титры: «Эта кинолента
Коллективом создалась
По архивным документам,
Рассекреченным вчерась.»
***
Ныне суждений много,
Но главный рефрен таков:
Всякая власть от бога!
(Кроме большевиков.)
А значит, и вывод несложен –
Дабы во грех не впасть,
Простолюдин не должен
Всуе роптать на власть.
И затвердить нелишне вам
Сей постулат простой:
Власть есть воля всевышнего,
А власть предержащий – святой!
Умерь-ка дурные страсти,
Закон к святотатцам строг!
Возводишь хулу на власти –
Отправишься гнить в острог!
Не ухмыляйся кисло,
Начальство не ценишь – сгинь!
Да будет так ныне и присно
И во веки веков. Аминь.
***
Вот, ведь, были времена –
Не было подлее!
Горько плакала страна
Под пятой злодея.
Пировал восставший хам,
Проклятый от веку,
Переделывая храм
Под библиотеку.
А ещё того мерзей –
Злобный пролетарий
Там устраивал музей
Или планетарий,
Чтобы паству просвещать
Стало невозможным
Ни молитвой натощак,
Ни законом божьим.
Вот и шли, как на подбор,
Дураки и дуры
Не к причастию в собор,
А в дома культуры.
Но пришла теперь хана
Бесовскому игу,
С шеи сбросила страна
Тяжкую веригу!
Выйдешь в утреннюю рань -
Что за панорамы!
Лепота! Куда ни глянь,
Кабаки да храмы…
***
Национальную идею
Искали очень много лет,
Но сколь про это ни галдели,
Идеи не было и нет.
И вот нашли идею нации –
Идея в декоммуниZации!
***
В общем, стало быть, у нас,
Точно чирей между глаз,
Не буржуй, не пролетарий -
Объявился новый класс:
Тот, кто с голоду не мрёт,
Полтора имея МРОТ,
Тот теперь, промежду прочим,
Состоятельный народ!
Сообщают – вот те раз! –
Я и есть тот средний класс.
Даже более, чем средний –
Скажем честно, без прикрас!
У меня же энтих МРОТ
Цельных два! И от щедрот
Я могу себе позволить
Раз в неделю банку шпрот.
Я-то думал, я на дне,
А гляди-ка – на коне!
Ой, спасибо Государю
За заботу обо мне!
***
Когда страна была "подвержена зажимам",
Я что-то не встречал борцов с режимом.
Но вот пришли иные времена,
Прошедшее подёрнулось нуаром.
В СССР, согласно мемуарам,
Борцов с режимом стало дохрена...
***
Иноагент Антон Деникин
С иноагентом Колчаком
Дружили с Западом двуликим,
А не грозили кулаком.
Иноагент Петруша Врангель,
Носил черкеску и кинжал,
Но, будучи в баронском ранге,
В Европу-матушку сбежал.
Иноагент Краснов – вот шельма! –
Он изо всех казачьих сил
Не раз у кайзера Вильгельма
Открыто денежку просил.
Я это перечислил вкратце,
Но если вынуть документ,
Среди белогвардейцев, братцы,
В кого ни плюнь – иноагент!
С Антантой ручкаться не лень им,
Когда с финансами провал.
Но негодяй – конечно, Ленин,
Он за границею бывал!
***
О, сколько ныне новшеств милых
Внёс политический момент,
Что скоро даже на могилах
Начнут писать: ИНОАГЕНТ…
***
Погружаясь в глубины истории,
Господин Президент говорил
О единстве большой территории
От Карпат и до Южных Курил,
Вспоминал печенегов и половцев,
Словно в горле застрявшую кость.
О захвате Крестителем Полоцка
Не сказал. Но подумал, небось.
Говорил про сплочение нации,
О святой нерушимости уз,
Про российскую цивилизацию.
Помянул и Советский Союз.
Украины коснулся особенно:
Нашей вечной Руси вопреки,
Украинцев создали озлобленно
Австрияки и большевики.
Как бы там ни желали предатели,
Чтоб российский ковчег сел на мель,
Мы, как предки теперь – собиратели
Наших русских исконных земель!
Говорил много разного прочего,
Обращаясь к началам начал…
Лишь о том, как Союз раскурочили,
Почему-то слегка умолчал.
Дескать, эта история пройдена…
Мне ж подумалось в этот момент:
«В день, когда шла в распыл наша Родина,
С кем ты был, господин Президент?»
***
Любители таскать прогнивший хлам
Со свалки исторических отбросов,
Позвольте, а не кажется ли вам,
Что ваш кумир – упырь, а не философ?
«Фашизм был прав!» - писал Иван Ильин, -
«Лишь допустил фатальную ошибку.»
А те, кто штурмовал и взял Берлин,
Выходит, были правы-то не шибко?
Выходит, ваши словеса пусты,
Когда в пылу торжеств победной даты,
Вы гордо возлагаете цветы
К могиле Неизвестного Солдата?
Уж если вам Россия дорога,
На кой нам «философские работы»,
В которых автор воспевал врага?
Какие же вы, к чёрту, патриоты?!
***
То остыли батареи,
То вода не горяча…
С каждым годом всё бодрее
Рвутся мины Ильича.
Хоть бы раз бабахнул мимо!
Нет же, лупит прямиком!
Вот опять рванула мина –
Город залит кипятком!
То поломка в супер-джете,
То на бирже паралич,
То опять дыра в бюджете…
Дотянулся, старый хрыч!
Круглый год неутомимо
Веселится злобный тать…
Рвутся мины, рвутся мины,
Не давая процветать!
***
В тиши жилища своего
Я задремал под пледом куцым.
Мне снился фейк про СВО…
И я никак не мог проснуться!
А пробудившись, был разбит,
И через парочку мгновений
Припомнил, что за этим бдит
Прокуратура Сновидений.
Поплакался: «Пойду под суд!»
Супруге в кухонной беседе.
Поскольку, явно донесут
В том сне мелькнувшие соседи.
Судачить будут день-деньской
Возле подъезда, на скамейке:
«Гляди-ка, думали, он свой,
А сволочь спит и видит фейки!»
Жена меня приобняла
И предложила чай с малиной,
Пролепетала: «Ну, дела…
А может быть, прийти с повинной?»
Прикинул, что наверняка,
Уж если срок дадут немалый,
Проситься стану в ЧВК –
Всё ж лучше, чем лесоповалы.
Кладу в котомку сухари,
Набор для гигиены личной.
Бельё забыл, чёрт побери!
И… просыпаюсь тут вторично.
И вроде морок невесом,
А словно с плеч сошёл горою.
Так это сон! Или… не сон?
Ой, в дверь стучат. Пойду, открою…
***
В потёртой, промасленной робе
Рабочий стоит у станка,
А в парке резвится квадробер…
Но грань между ними тонка.
Рабочий шагает со смены
Измотан, угрюм и сердит,
А дома ждут голые стены,
Счета платежей за кредит…
Второй, наблюдая за первым,
Клянёт безысходность, притом
Не хочет трепать себе нервы,
А хочет быть просто котом.
И каждый по-своему, криво
Сжигает с реальностью мост:
Один – «полторашками» пива,
Другой - прицепив себе хвост.
Да попросту некуда деться,
Хоть сразу на рельсы ложись,
Когда перспектива у детства –
Унылая взрослая жизнь.
***
стихотворение для детей
(и некоторых взрослых)
Висит на орбите в холодной дали
Над миром искусственный спутник Земли,
Внизу проплывает планета – на ней
Цветут городов мириады огней.
А чтобы огнями цвели города,
Под землю спускаются люди труда,
И благодаря их большому труду,
Заводы в металл превращают руду.
Заводы и спутник, машины и дом –
Всё создано тем же упорным трудом.
И мы не должны забывать никогда
Слова благодарности людям труда.
Но есть и такие людишки притом,
Кто жадность и хитрость считают трудом –
Не пашут, не сеют, не плавят металл,
А лишь умножают себе капитал.
И так происходит, что люди труда
Возводят плотины, дворцы, города,
Но все результаты работы их рук
Чужим капиталом становятся вдруг.
У этой напасти края не видны,
И люди труда неизменно бедны.
Барыш у мошенников очень высок,
А людям труда – только хлеба кусок.
Когда у богатых доход на кону,
Они меж собой затевают войну,
Но в каждой войне погибают всегда
Всё те же обычные люди труда.
Когда-нибудь с обухом встретится плеть,
И люди труда перестанут терпеть
И скажут сурово: «А ну, господа,
Верните-ка нам результаты труда!
Все ваши порядки пускай отомрут,
А в мире царит созидательный труд!
И чтобы никто и уже никогда
Не смел наживаться на людях труда!»
. . .
Висит на орбите в холодной дали
Над миром искусственный спутник Земли,
Внизу проплывает планета – на ней
Цветут городов мириады огней…
***
Когда в кофейне в ленивой прострации
Сидишь средь пирожных приторных груд,
Представь себе: на кофейной плантации
Эксплуатируют детский труд.
Дети доход хозяина множат,
Палит их солнце и суховей,
И потому-то черна их кожа,
Как чёрный кофе в чашке твоей.
Одним – эклер со сладкой начинкой,
Другим с рождения – жизнь раба.
Кому-то кофе с пикантной горчинкой,
А у кого-то горька судьба…
В кофейных сумерках спят фавелы –
С утра на ферму за три гроша.
И даже если хозяин белый,
Чернее кофе его душа.
***
Если ты владеешь полем
По-хозяйски, не внаём,
И владеть плодами волен –
Ты в Отечестве своём.
Ну а вдруг через границы
В это поле враг придёт,
Вот тогда ты будешь биться,
Вот тогда ты – патриот.
Если ж полю ты обслуга,
Твой патриотизм смешон –
Хоть весь век ходи за плугом,
Ты Отечества лишён.
А придёт врагов орава,
Ты хлебнёшь немало бед
За сомнительное право
Гнуть на барина хребет.
Вывод прост и, вкратце, вот он
(остальные неверны):
Хочешь зваться патриотом –
Стань хозяином страны!
***
Среди суматохи и шума
Спешит по земле человек
И шепчет кому-то: «Прошу вас,
Поставьте на паузу век!
Я вдоволь хочу надышаться,
Прервав нескончаемый бег…»
Но нет ни единого шанса
Поставить на паузу век.
Был век предыдущий жестоким
И нынешний также жесток.
Как сыщешь в кровавом потоке
Жестокости этой исток?
Змеятся газетные строчки,
Плюясь ядовитой слюной,
По карте горячие точки
Разбросаны сыпью чумной,
Мишенями в дьявольском тире
Встают из окопов бойцы.
И хижины грезят о мире…
Но бредят войною дворцы.
Куда же, куда же, куда же
Спешит по земле человек?
Не скажет и сам, если даже
Поставить на паузу век.
Под стоны и залпы орудий
От золота пухнут ларцы.
А хижинам мира не будет,
Пока процветают дворцы...
***
Всё, как всегда! В чести приспособленцы,
А люди долга загнаны в долги.
И как всегда, на бирже индульгенций
Идут ожесточённые торги.
Как прежде, цель оправдывает средства.
Мирские власти к совести глухи.
А те, кто с вечера творили непотребство,
С утра спешат замаливать грехи.
Уж лучше - в адском пламени горенье,
Чем тлеть на лицемерия углях.
У входа в рай царит столпотворенье...
Я не люблю стоять в очередях!
Андрей Шигин https://stihi.ru/avtor/avashi
___________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 16.05.2025, 08:59 | Сообщение # 1589 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Оклемались — распутица спит
под безножными тучами в ссылке,
чернозём, будто детской присыпкой
припорошен.
Зима.
Антрацит.
Тыл глубокий. Колышется ночь,
и в зените раскиданы вспышки,
эту нёбную сушь растолочь
папиросы помогут и спички.
"Вы проездом, а мы — до конца
тут на службе " — скребут тыловые,
подметая сугробы с крыльца
и все лица суровые, злые.
Да и сам я почти тыловик,
фронт усердное дело, братуха,
где от сердца до резкого звука
только миг;
где гоняла судьба задарма
целовала в макушку и каску;
там во рве — лишь лопата, кирка
и цыганское небо раскраской.
Только тело своё донести
и забыться в уюте, как прежде,
в этой польской, китайской одежде:
я уже не на фронте, прости.
Злой отдушины крик не впервой,
— мерно тонут порывы и юность —
говоришь, что фельдмаршал Кутузов
не знавал, где состав рядовой?...
где главнее докладами взять
и отрезать на тяге собачьей,
что осталось — в палатке забрать:
есть ли толк видит он или бачит?
Возводились и плавились сны
и соломенной смерти навстречу
мы идём на последнюю сечу
полуживы и полумертвы.
***
Видел мой отец угрюмый,
Как бесстыдно красный флаг...
с кремля подонки грязные снимали,
И как не грозно и убого,
С Кабула наши отступали!
И как бессовестно историю родную,
Стирали демократы бестолковые, вплотную!
И как над комунистами смеялись,
Когда сами, то в грязи валялись!
И как президент наш первый враг!
В 90-ые Бухал и ржал так много!
Видел мой отец угрюмый,
Как соседи наши, по часам,
Права свои качали,
И как контракты заключали,
В его воинский частях!
Видел он те Брежневские окна,
Дискотеки там в дали, в деревне,
Как под пластинку танцевали все!
Как будущее видел он, в карете,
Делая радио он самодельно вместе!
А сейчас видит мой отец угрюмый,
Как подростки нагло и бездумно,
Матерятся, вейпы курят и плюют,
Тик токи смотрят недоумно!
И как правительство нам врёт,
Сделало оно то время, щас,
Когда всё всем должны!
И видит он как мы сейчас,
Живём и радуемся чисто,
В том мире, который построили они,
Отцы, деды и прадеды ведь наши,
Это всё построили не мы!!!!!
Видит он как просто так нам все даётся!
В то время как, его то поколение,
Что уж не вернется!
Трудилось налево и направо!
Так за что души они все отдавали?
Мы ведь сами им говорили "браво!"
Так за что они все воевали?
***
Тяжкое дыхание вывело терпение,
Опракинула надежды разом
И все из за моего же обвинения,
И не в краже нефти или газа,
А в дурном не повиновении
Я у общества точно в сноведении,
За то что не хочу я подчиняться,
Не хочу командывать, бороться,
Словно камень о камень трётся,
Не жалея ни второго, ни первого,
А последнего и подавно бояться!
Я люблю Россию, и свой край,
Готов отдать отчизне душу,
И люблю её, как ангел свой рай,
Но кто это ценит, чувства наружу?
Кому нужны знания и мозги?
голова лишь для причёски, для тоски!
Состояние хуже некуда уже,
Делать что я знаю, но чем это поможет!
Белый свет сильно так тревожит!
Что время уходит все быстрее,
И замирает как вода во льде!
***
Прости, невольная Россия!
Сколько бед, слез и мук..
Тебе мы принесли не в силу,
Но слушать это уже не досуг!
Ты ни в чем не виновата!
Виноваты мы, дети поколений!
Ты для нас уже не сильная утрата!
Все стыдятся собственных волнений!
Знаю, извиняться уже поздно!
Народ твой слишком обезумел,
На словах все отвечают грозно,
Но в деле, себя никто не вразумел!
Мы дураки с запада все брали!
А ты все принимала,и давала,и прощала!
Тебя ценить мы перестали,
А ты другим всюду помогала!
Да, другим ты много что давала,
Но в поношенном терпении,
Осколки ты лишь поднимала,
Разбитого союза, расколотой империи!
Ну вот, пришёл момент прощанья!
Верить нам - уж точно жуть!
Прости, что забрали твои дарованья,
Толкнув тебя в неверный путь!
***
Идти против власти - путь тяжёлый,
Лучше сиди и не рыпайся!
Ласкание России рукой не лёгкой,
Тебя током ударит, не дивгайся!
Моя родина ни кем не заменится,
Мой край вечно в сердце поселится,
Мой дом и мои все родные,
Будут проклинать меня встречно!
И идти уже некуда, все неизбежно,
Все мне кричат "предатель! ", "агент! "
Но я ненавижу Америку, милые!
Зачем работать на ненавистных людей?
Европу я презираю больше, чем вы в момент,
Да не ношу я букву "z" среди очей,
Но разве в этом патриотизм состоит?
Всего лишь хотел остаться нейтральным,
Но всем будто бы бог велит,
Что меня надо называть странным!
В чем дело, то, я ж люблю Россию!
И в русской бане вырос, силой!
Часами слушая "русская дача"
В юности хулиганил я пацанами,
С Машкой в школе встречался годами!
Вот это была удача!
Я уважаю боевых товарищей на "сво"
Не кричу лозунги "хватит!"
Мне понадобится все мастерство,
Чтобы свои надежды потратить!
***
Я верил, что любви не существует,
И война изменит мир,
Что справедливость восторжествует!
И сказкою всё станет, не будет тир!
Но когда увидел я тебя!
Словно сиянение осенило, меня!
Когда вспомнил своего я прадеда!
Когда встретил я друзей, отчаянно!
Я послал все войны вдруг, нечаянно!
И поверил я в любовь, и в дружбу!
И всю злость и ненависть, из себя
Изгнал я навсегда, наружно!
***
От общества исходит взгляд лукавый!
Приносящий людям и всем вред,
И говорит он мне, в день неясный:
Good bay my friend, you already the end!
Мозг мой затуманен под мечтами!
Не исполненные все иллюзии убиты,
И от музыки в ушах, очень много битов,
Уже надоело это слышать днями!
Пустая любовь и полная вера,
Ни к чему не приводит, и не нужна!
Тупая боль и скука лезет как сера,
Внушая мне страх, будто она мне важна!
Достало свое же возмущение!
Надоела российская активность,
Точно всех умных ликвидность,
Словно нормы отчеждение!
Уже не нравится вся эта система!
Иду я против ветра, как будто бы!
Против общества, дождя и снега
И доминирование, неравенства судьбы!
Раздражает факт бездействия!
И от этого ещё ужаснее, до последнего
Не верил в существование депрессии,
До последнего не знал последнего!
Много ненависти у меня внутри,
И груша есть, чтоб выплеснуть, что есть,
Но не получается, нет сил в груди!
А вера в самого себя, считается как месть!
Горе простодушное молчит,
Но заплакать не могу никак,
И верёвка на потолке висит,
И написано : дурак-простак!
Моё счастье - горе другим,
Моё страдание - радость всем,
Моё возмущение, как упрямый олень,
И звук неудач мне слишком родим!
Если начинает, что то получаться,
Или я что то обретаю в плюс,
Я сразу же это теряю, как не сдаться?
Лишь упасть тут камнем вниз!
Капитализм и война,
Разрушили надежды,
Мои любимые края,
Мои угрюмые невежды!
Состояние пробило дно!
В самый неудобный момент,
Мне ещё не было так все равно,
На все вокруг, как эксперимент!
Долги моих родных устали ждать,
Как моё желание жить и вспоминать!
И я готов душу дьявол продать,
Лишь бы перестать страдать!
Но все же мои мозги,
Мне говорят прощай!
Лучше больше ты страдай!
И тёмный путь от куда то возник!
Голова раскалывается треском,
Конец близок, как никогда!
Чувствую в мире нету мне места,
Уж лучше уйти навсегда!
Конец, конец и конец,
Приближается в момент,
Ведь сознание вещит под венец:
Good bay my friend, you already the end!
***
Я всё потерял — от жены до алтына,
ты к весне говорила, что родишь мне сына,
полупьяный лежу посреди новостроек в отпуске,
это я, твой посланник, не добрёдший к дару, Господи.
Здесь помазан оттенками неба покой и уют,
ты мне говорила, что нас всех на штурме убьют,
я не верил и шел: вот упал у чугунного люка.
Моя жизнь стала болью,
овсяной трагедией, мукой;
пьянь до пьяни — спасает улыбка Месяца,
эти звёзды над чёрной Москвой всё куда-то мечутся,
или Анну увидишь, влюбишься — так прекрасны глаза её,
а донецкое кружит и кружит над просекой вороньё,
кто спасал нас, тот сам уже слёг в могилу,
чёрна плесень, затхлый подъезд, крапива
у детского сада нависла и жжёт, и кусается:
время спать,
засыпай красавица.
Мы знакомы немного, Анна,
я подрясник, слуга, победитель,
по ветру знойному возле шеи завёрнут китель,
на военной машине, донецкими тротуарами,
в охране с двумя вагнеровцами-амбалами,
кружишь ты, и смакуешь весну, как приданное,
червоточины, солдатня, бездорожье под Волновахой,
каждый слепнет, когда щерит зубы на солнца пасквиль,
проведи рукой по глазам моим, с партаками битыми наспех.
***
Домой я пришёл даже не то, чтобы сломанным и уставшим, а именно уничтоженым, потерянным. Моё ужасное состояние достигло пикового значения, вроде у меня все есть, но а с другой с стороны ничего и нет. Я был не пьян, к тому времени уже успел протрезвиться, но однако вся моя мокрая одежда давала о себе знать. Да несмотря на возраст я катался с горки со своим другом. Я не знаю с кем могу делится своими проблемами, нет, даже не проблемами, а именно грехами, да точно грехами. В то время я украл у родителей деньги, вино, сигареты и потом ещё говорил что это был не я(они мне верили) Я воровал в магазинах, всегда врал, был гордым, высокомерным, алчным, жестоким и порой даже эгоистичным и завистливым человеком. Мне нет оправдания, бог уже точно меня не простит. Я уже сам понимаю, что нету у меня права даже и говорить о своих проблемах, и тем более просить помощи. Самому себе я уже давно перестал верить, а уважать себя и подавно. Мне очень плохо, больно, но я не плачу. Я не хочу, чтобы моя родина страдала от этого. Я не хочу, чтобы мир страдал от этого. Я не допущу, чтобы от этого страдало общество и все люди. Мною уже ничего не движет. Я погас. Мне ничего не надо, но все равно, не смотря ни на что, я хочу вам кое что сказать: слушайте, думайте, любите, чувствуйте, вертье, прощайте, благодарите, приветствуйте, желайте, принимайте, помогайте и угощайте - имея все эти черты вы оправдаете свое существование в этом мире и построете счастливую жизнь.
Амир Сабиров https://stihi.ru/avtor/rheijeje12
_____________________________________
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 16.05.2025, 09:08 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Пятница, 06.06.2025, 15:35 | Сообщение # 1590 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| С Днем Рождения гения!
Елизавета Алексеевна Карлгоф (урождённая Ашанина). Из воспоминаний. https://upload.wikimedia.org/wikiped....tti.jpg
"...Приезд в Петербург партизана Давыдова, давнишнего знакомого моего мужа, дал повод сделать обед в его честь и пригласить всю литературную аристократию, которую мой муж встречал каждую субботу у Жуковского <…>
В продолжение обеда все внимание мое было устремлено на Пушкина, который сидел против меня. Он был не хорош собой: смугловатый, неправильные черты лица, но нельзя было представить себе физиономии, более выразительной, более оживленной, более говорящей, и слышать более приятный, более гармонический голос, как будто нарочно созданный для его стихов <…>. Разговор был донельзя оживлен, ни на минуту не прекращался. Много толковали о мнимом открытии обитаемости луны. Пушкин доказывал нелепость этой выдумки, считал ее за дерзкий пуф, каким она впоследствии и оказалась, и подшучивал над легковерием тех, которые падки принимать за наличную монету всякую отважную выдумку.
Так как я не спускала глаз с Пушкина, то ни одно движение его не ускользнуло от моей наблюдательности. Я заметила между прочим, что он мало ел, беспрестанно щипал и клал в рот виноград, который в вазе стоял перед ним. После обеда я осмелилась заговорить с Пушкиным и беседовала с ним о Современнике, который он начал издавать и которым он был сильно занят..."
***
Керн (Маркова-Виноградская) Анна Петровна. Воспоминания о Пушкине. https://u.9111s.ru/uploads....9de.jpg
Вам захотелось, почтенная и добрая Е. Н., узнать некоторые подробности моего знакомства с Пушкиным. Спешу исполнить ваше желание. Начну сначала и выдвину перед вами, еще кроме Пушкина, несколько лиц, вам очень знакомых и всем известных.
Я воспитывалась в Тверской губернии, в доме родного деда моего по матери, вместе с двоюродною сестрою моею, известною Вам Анною Николаевною Вульф, до двенадцатилетнего возраста. В 1812 г. меня увезли от дедушки в Полтавскую губернию, а 16 лет выдали замуж за генерала Керна.
В 1819 г. я приехала в Петербург с мужем и отцом, который, между прочим, представил меня в дом его родной сестры, Олениной. Тут я встретила двоюродного брата моего Полторацкого, с сестрами которого я была еще дружна в детстве. Он сделался моим спутником и чичероне в кругу незнакомого для меня большого света. Мне очень нравилось бывать в доме Олениных, потому что у них не играли в карты; хотя там и не танцовали, по причине траура при дворе, но зато играли в разные занимательные игры и преимущественно в Charades en action (Шарады в живых картинках), в которых принимали иногда участие и наши литературные знаменитости — Иван Андреевич Крылов, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и другие.
В первый визит мой к тетушке Олениной батюшка, казавшийся очень немногим старше меня, встретясь в дверях гостиной с Крыловым, сказал ему: «Рекомендую вам меньшую сестру мою». Иван Андреевич улыбнулся, как только он умел улыбаться, и, протянув мне обе руки, сказал: «Рад, очень рад познакомиться с сестрицей». На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его; мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. Не помню, за какой-то фант Крылова заставили прочитать одну из его басен. Он сел на стул посередине залы; мы все столпились вкруг него, и я никогда не забуду, как он был хорош, читая своего Осла! И теперь еще мне слышится его голос и видится его разумное лицо и комическое выражение, с которым он произнес: «Осел был самых честных правил!».
В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения, и вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, и когда я держала корзинку с цветами, Пушкин, вместе с братом Александром Полторацким, подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал: «Et c'est sans doute Monsieur qui fera l'aspic?» (Конечно, этому господину придется играть роль аспида?) Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла.
После этого мы сели ужинать. У Олениных ужинали на маленьких столиках, без церемоний и, разумеется, без чинов. Да и какие могли быть чины там, где просвещенный хозяин ценил и дорожил только науками и искусствами? За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например: «Est-il permis d'être aussi jolie» (Можно ли быть такой прелестной). Потом завязался между ними шутливый разговор о том, кто грешник и кто нет, кто будет в аду и кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких, там можно будет играть в шарады. Спроси у m-me Керн, хотела ли бы она попасть в ад?» Я отвечала очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну, как же ты теперь, Пушкин?» — спросил брат.— «Je me ravise (Я раздумал) ответил поэт, — я в ад не хочу, хотя там и будут хорошенькие женщины»... Вскоре ужин кончился, и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мною в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами.
Впечатление его встречи со мною он выразил в известных стихах:
Я помню чудное мгновенье — и проч.
Вот те места в 8-й главе «Онегина», которые относятся к его воспоминаниям о нашей встрече у Олениных:
...Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал,
К хозяйке дама приближалась...
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязанья на успех,
Без этих маленьких ужимок
Без подражательных затей;
Все тихо, просто было в ней.
Она казалась верный снимок
Du comme il faut... прости,
Не знаю, как перевести!
К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей
Девицы проходили тише
Пред ней по зале: и всех выше
И нос, и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
.....................
Но обратимся к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола.
.....................
Сомненья нет, увы! Евгений
В Татьяну, как дитя, влюблен.
В тоске любовных помышлений
И день, и ночь проводит он.
Ума не внемля строгим пеням,
К ее крыльцу, к стеклянным сеням,
Он подъезжает каждый день,
За ней он гонится как тень.
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо.
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок поднимет ей!
Прожив несколько времени в Дерпте, в Риге, в Пскове, я возвратилась в Полтавскую губернию к моим родителям. В течение шести лет я не видела Пушкина, но от многих слышала про него, как про славного поэта, и с жадностию читала: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Разбойники» и 1-ю главу «Онегина», которые доставлял мне сосед наш Аркадий Гаврилович Родзянко, милый поэт, умный, любезный и весьма симпатичный человек. Он был в дружеских отношениях с Пушкиным и имел счастие принимать его у себя в деревне Полтавской губернии, Хорольского уезда. Пушкин, возвращаясь с Кавказа, прискакал к нему с ближайшей станции, верхом, без седла, на почтовой лошади, в хомуте ...
Во время пребывания моего в Полтавской губернии я постоянно переписывалась с двоюродною сестрою моею Анною Николаевною Вульф, жившею у матери своей в Тригорском, Псковской губернии, Опочецкого уезда, близ деревни Пушкина — Михайловского. Она часто бывала в доме Пушкина, говорила с ним обо мне и потом сообщала мне в своих письмах различные его фразы; так, в одном из них она писала:·«Vous avez produit une vive impression sur Pouchkine à votre rencontre, chez Ol[eni]ne; il dit partout: Elle était trop brillante» (Вы произвели сильное впечатление на Пушкина при встрече у Олениных; он постоянно твердит: «Она была слишком блестяща»). В одном из ее писем Пушкин приписал сбоку, из Байрона: «Une image qui a passé devant nous, que nous avons vue et que nous ne reverrons jamais» (Образ, мелькнувший перед нами, который мы видели и который никогда более не увидим. ).Когда же он узнал, что я видаюсь с Родзянко, то переслал через меня к нему письмо, в котором были расспросы обо мне и стихи:
Наперсник Феба, иль Приапа,
Твоя соломенная шляпа
Завидней, чем иной венец,
Твоя деревня Рим, ты папа,
Благослови ж меня, певец!
Далее, в том же письме он говорит: «Ты написал Хохлачку, Баратынский Чухонку, я Цыганку, что скажет Аполлон?» и проч. и проч., дальше не помню, а неверно цитировать не хочу. После этого мне с Родзянко вздумалось полюбезничать с Пушкиным, и мы вместе написали ему шуточное послание в стихах. Родзянко в нем упоминал о моем отъезде из Малороссии и о несправедливости намеком Пушкина на любовь ко мне. Послание наше было очень длинно, но я помню только последний стих:
Прощайте, будьте в дураках!
Ответом на это послание были следующие стихи, отданные мне Пушкиным, когда я через месяц после этого встретилась с ним в Тригорском.
Вот они:
Ты обещал о романтизме,
О сем Парнасском афеизме
Потолковать еще со мной;
Полтавских муз поведать тайны, —
А пишешь лишь об ней одной.
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, ты влюблен, Пирон Украйны.
Ты прав, что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной:
Поговорим опять об ней.
Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей,
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу,
Не наведет она зевоту.
Дай Бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту!
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода,
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.
А.Пушкин
Михайловское.
Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей, в Тригорском, в 1825 г. в июне месяце. Вот как это было: мы сидели за обедом и смеялись над привычкою одного г-на Рокотова, повторяющего беспрестанно: «Pardonnez ma franchise» и «Je tiens beaucoup à votre opinion» (Простите мою откровенность; я слишком дорожу вашим мнением.), как вдруг вошел Пушкин с большой, толстой палкой в руках.
Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол; он обедал у себя, гораздо раньше, и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, chien loup (Волкодавами). Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила, он очень низко поклонился, но не сказал ни слова: робость была видна в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться; он был очень неровен в обращении: то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен, — и нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Ai-je été assez vulgaire aujourd'hui?» (Я был слишком вульгарен сегодня?) Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренно и был неописанно хорош, когда что-нибудь приятное волновало его... Так, один раз, мы восхищались его тихою радостью когда он получил от какого-то помещика, при любезном письме, охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Charmant, charmant!» (Чудесно! Чудесно!) Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностию его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в «Подснежнике». Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать и занимать общество. Однажды с этою целью он явился в Тригорское с своею большою черною книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки€ и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих «Цыган». Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу!.. Я была в упоении, как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения; он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих Цыганах:
И голос, шуму вод подобный.
Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная, лунная июньская ночь дышал прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах: тетушка с сыном в одном; сестра, Пушкин и я — в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов; хвалил луну, не называл ее глупою, а говорил: «J'aime la lune quand elle éclaire un beau visage» (Я люблю луну, когда она освещает красивое лицо.), хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною; это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече Александру Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавши в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый, запущенный сад,
Приют задумчивых Дриад, с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, вились по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавши туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pouchkine, faites les honneurs de votre jardin à Madame» (Милый Пушкин, покажите же, как любезный хозяин, ваш сад.). Он быстро подал мне руку и побежал скоро, скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробностей разговора нашего не помню; он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Vous aviez un air si virginal; n'est-ce pas que vous aviez sur vous quelque chose comme une croix?» (У вас был такой девственный вид, не правда ли, на вас было надето нечто вроде креста?)
На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрою Анною Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр 2-й главы Онегина, в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:
Я помню чудное мгновенье, — и проч. и проч.
Когда я сбиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила тогда барону Дельвигу, который их поместил в своих «Северных Цветах», Мих. Ив. Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя.
Во время пребывания моего в Тригорском я пела Пушкину стихи Козлова:
Ночь весенняя дышала
Светлоюжною красой,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной — и проч.
Мы пели этот романс Козлова на голос «Benedetta sia la madre» (Пусть благословенна будет мать), баркаролы венецианской. Пушкин с большим удовольствием слушал эту музыку и писал в это время Плетневу: «Скажи слепцу Козлову, что здесь есть одна прелесть, которая поет его ночь. Как жаль, что он ее не увидит! Дай бог ему ее слышать!»
Итак, я переехала в Ригу. Тут гостили у меня сестра, приехавшая со мною, и тетушка со всем семейством. Пушкин писал из Михайловского к ним обеим; в одном из своих писем тетушке он очертил мой портрет так: «Хотите знать, что за женщина г-жа Керн? она податлива, все понимает; легко огорчается и утешается также легко; она робка в обращении и смела в поступках; но она чрезвычайно привлекательна».
Его письмо к сестре очень забавно и остро; выписываю здесь то, что относилось ко мне:
«Все Тригорское поет: „Не мила ей прелесть ночи", и у меня от этого сердце ноет; вчера мы с Алексеем проговорили 4 часа подряд. Никогда еще не было у нас такого продолжительного разговора. Угадайте, что нас вдруг так сблизило? Скука? Сродство чувства? Не знаю. Каждую ночь гуляю я по саду и повторяю себе: она была здесь; камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа, я пишу много стихов — все это, если хотите, очень похоже на любовь, но клянусь вам, что это совсем не то. Будь я влюблен, в воскресенье со мною сделались бы судороги от бешенства и ревности; между тем мне было только досадно, — и все же мысль, что я для нее ничего не значу, что, пробудив и заняв ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее более задумчивой среди ее побед ни более грустной в дни печали; что ее прекрасные глаза остановятся на каком-нибудь рижском франте с тем же пронизывающим сердце и сладострастным выражением, — нет, эта мысль для меня невыносима; скажите ей, что я умру от этого, нет, лучше не говорите, она только посмеется надо мной, это очаровательное создание. Но скажите ей, что если в сердце ее нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее — слышите? — да, презираю, несмотря на все удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для нее чувство. <...> 21 июля».
Вскоре ему захотелось завязать со мной переписку, и он написал мне следующее письмо:
«Я имел слабость попросить у вас разрешения вам писать, а вы — легкомыслие или кокетство позволить мне это. Переписка ни к чему не ведет, я знаю; но у меня нет сил противиться желанию получить хоть словечко, написанное вашей хорошенькой ручкой.
Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши — это стараться не думать больше о вас. Если бы в душе вашей была хоть капля жалости ко мне, вы тоже должны были бы пожелать мне этого, но ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу.
Прощайте, божественная, я бешусь, и я у ваших ног. Тысячу нежностей Ермолаю Федоровичу и поклон г-ну Вульфу.
25 июля».
«Снова берусь за перо, потому что умираю с тоски и могу думать только о вас. Надеюсь, вы прочтете это письмо тайком, — спрячете ли вы его у себя на груди? ответите ли мне длинным посланием? пишите мне обо всем, что придет вам в голову — заклинаю вас. Если вы опасаетесь моей нескромности, если не хотите компрометировать себя, измените почерк, подпишитесь вымышленным именем, — сердце мое сумеет вас угадать. Если выражения ваши будут столь же нежны, как ваши взгляды, увы! — я постараюсь поверить им или же обмануть себя, что одно и то же.— Знаете ли вы, что, перечтя эти строки, я стыжусь их сентиментального тона, — что скажет Анна Николаевна? Ах вы чудотворка или чудотворица!»
Получа это письмо, я тотчас ему отвечала и с нетерпением ждала от него второго письма; но он это второе письмо вложил в пакет тетушкин, а она не только не отдала мне его, но даже не показала. Те, которые его читали, говорили, что оно было прелесть как мило.
В другом письме его было: «Пишите мне вдоль, поперек и по диагонали».
Мне бы хотелось сделать много выписок из его писем; они все были очень милы, но ограничусь еще одним:
«Не правда ли, по почте я гораздо любезнее, чем при личном свидании; так вот, если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до чрезвычайности: в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю — у ваших ног».
Через несколько месяцев я переехала в Петербург и, уезжая из Риги, послала ему последнее издание Байрона, о котором он так давно хлопотал, и получила еще одно письмо, чуть ли не самое любезное из всех прочих, так он был признателен за Байрона! Не воздержусь, чтобы не выписать вам его здесь.
«Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть, — все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах Гюльнары и Леилы — идеал самого Байрона не мог быть божественнее. Вас, именно вас посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение! Вы — ангел - утешитель, а я — неблагодарный, потому что смею еще роптать... Вы едете в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться. Не стоит верить надежде: она — лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами, как со старым мужем. Что поделывает ваш муж, мой нежный гений? Знаете ли вы, что в его образе я представляю себе врагов Байрона, в том числе и его жену».
«8 дек.
Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и т.д.».
С Пушкиным я опять увиделась в Петербурге, в доме его родителей, где я бывала почти всякий день и куда он приехал из своей ссылки в 1827 году, прожив в Москве несколько месяцев. Он был тогда весел, но чего-то ему недоставало. Он как будто не был так доволен собою и другими, как в Тригорском и Михайловском. Я полагаю, что император Александр I, заставляя его жить долго в Михайловском, много содействовал к развитию его гения. Там, в тиши уединения, созрела его поэзия, сосредоточились мысли, душа окрепла и осмыслилась. Друзья не покидали его в ссылке. Некоторые посещали его, а именно: Дельвиг, Баратынский и Языков, а другие переписывались с ним, и он приехал в Петербург с богатым запасом выработанных мыслей. Тотчас по приезде он усердно начал писать, и мы его редко видели. Он жил в трактире Демута, его родители на Фонтанке, у Семеновского моста, я с отцом и сестрою близь Обухова моста, и он иногда заходил к нам, отправляясь к своим родителям. Мать его, Надежда Осиповна, горячо любившая детей своих, гордилась им и была очень рада и счастлива, когда он посещал их и оставался обедать. Она заманивала его к обеду печеным картофелем, до которого Пушкин был большой охотник. В год возвращения его из Михайловского свои именины праздновал он в доме родителей, в семейном кружку и был очень мил. Я в этот день обедала у них и имела удовольствие слушать его любезности. После обеда Абрам Сергеевич Норов, подойдя ко мне с Пушкиным, сказал: «Неужели вы ему сегодня ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» — «И в самом деле, — отвечала я, — мне бы надо подарить вас чем-нибудь: вот вам кольцо моей матери, носите его на память обо мне». Он взял кольцо, надел на свою маленькую, прекрасную ручку и сказал, что даст мне другое. В этот вечер мы говорили о Льве Сергеевиче, который в то время служил на Кавказе, и я, припомнив стихи, написанные им ко мне, прочитала их Пушкину. Вот они:
Как можно не сойти с ума,
Внимая вам, на вас любуясь!
Венера древняя мила,
Чудесным поясом красуясь,
Алкмена, Геркулеса мать,
С ней в ряд, конечно, может стать,
Но, чтоб молили и любили
Их так усердно, как и вас,
Вас прятать нужно им от нас,
У них вы лавку перебили!
Л.Пушкин
Пушкин остался доволен стихами брата и сказал очень наивно: «И он тоже очень умен. Il a aussi beaucoup desprit!»
На другой день Пушкин привез мне обещанное кольцо с тремя бриллиантами и хотел было провести у меня несколько часов; но мне нужно было ехать с графинею Ивелич, и я предложила ему прокатиться к ней в лодке. Он согласился, и я опять увидела его почти таким же любезным, каким он бывал в Тригорском. Он шутил с лодочником, уговаривая его быть осторожным и не утопить нас. Потом мы заговорили о Веневитинове, и он сказал: «Pourquoi l'avez vous laissé mourir? Il était aussi amoureux de vous, n'est-ce pas?» (Почему вы позволили ему умереть? Он тоже был влюблен в вас, не правда ли?) На это я отвечала ему, что Веневитинов оказывал мне только нежное участие и дружбу и что сердце его давно уже принадлежало другой. Тут кстати я рассказала ему о наших беседах с Веневитиновым, полных той высокой чистоты и нравственности, которыми он отличался; о желании его нарисовать мой портрет и о моей скорби, когда я получила от Хомякова его посмертное изображение. Пушкин слушал мой рассказ внимательно, выражая только по временам досаду, что так рано умер чудный поэт... Вскоре мы пристали к берегу, и наша беседа кончилась.
Коснувшись светлых воспоминаний о Веневитинове, я не могу воздержаться, чтобы не выписать стихов Дельвига, написанных на смерть его в моем черном альбоме, рядом с портретом Веневитинова: они напоминают прекрасную душу так рано оставившего нас поэта.
На смерть Веневитинова
Дева
Юноша милый! на миг ты в наши игры вмешался.
Розе подобный красой, как филомела ты пел.
Сколько в тебе потеряла любовь поцелуев и песен!
Сколько желаний и ласк, новых, прекрасных, как ты!
Роза
Дева, не плачь! я на прахе его в красоте расцветаю.
Сладость он жизни вкусив, горечь оставил другим.
Ах! И любовь бы изменою душу певца отравила!
Счастлив, кто прожил, как он, век соловьиный и мой.
Зимой 1828 года Пушкин писал «Полтаву» и, полный ее поэтических образов и гармонических стихов, часто входил ко мне в комнату, повторяя последний написанный им стих; так он раз вошел, громко произнося:
Ударил бой, Полтавский бой!
Он это делал всегда, когда его занимал какой-нибудь стих, удавшийся ему или почему-нибудь запавший ему в душу. Он, например, в Тригорском беспрестанно повторял:
Обманет, не придет она!..
Посещая меня, он рассказывал иногда о своих беседах с друзьями и однажды, встретив у меня Дельвига с женою, передал свой разговор с Крыловым, во время которого, между прочим, был спор о том, можно ли сказать «бывывало»? Кто-то заметил, что можно даже сказать: «бывывывало». — «Очень можно, — проговорил Крылов, — да только этого и трезвому не выговорить!»
Рассказав это, Пушкин много шутил. Во время этих шуток ему попался под руку мой альбом — совершенный слепок с того уездной барышни альбома, который описал Пушкин в «Онегине!», и он стал в нем переводить французские стихи на русский язык и русские на французский.
В альбоме было написано:
Oh, si dans l'immortelle vie
Il existait un être parfait,
Oh, mon aimable et douce amie,
Comme toi sans doute il est fait — etc. etc.
Пушкин перевел:
Если в жизни поднебесной
То тебе подобен он.
Я скажу тебе резон:
Невозможно!
Под какими-то весьма плохими стихами было подписано: «Ecrit dans mon éxil» (Написано в моем изгнании). Пушкин приписал:
«Amour, exil» (Любовь, изгнание) —
Какая гиль!
Дмитрий Николаевич Барков написал одни всем известные стихи не совсем правильно, и Пушкин, вместо перевода, написал следующее:
Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть
И даже имени такого
Не смею громко произнесть!
Так несколько часов было проведено среди самых живых шуток, и я никогда не забуду его игривой веселости, его детского смеха, которым оглашались в тот день мои комнаты.
В подобном расположении духа он раз пришел ко мне, и, застав меня за письмом к меньшой сестре моей в Малороссию, приписал в нем:
Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног
В тени украинских черешен.
В этот самый день я восхищалась чтением его“«Цыган» в Тригорском и сказала: «Вам бы следовало, однако ж, подарить мне экземпляр «Цыган» в воспоминание того, что вы их мне читали». Он прислал их в тот день с надписью на обертке всеми буквами: «Ее превосходительству А. П. Керн от господина Пушкина, усердного ее почитателя. Трактир Демут № 10».
Несколько дней спустя, он приехал ко мне вечером и, усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится у меня, как святыня), написал на какой-то записке:
Я ехал к вам. Живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Осеребрял мой бег ретивый.
Я ехал прочь. Иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.
Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты,
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.
Писавши эти стихи и напевая их своим звучным голосом, он при стихе:
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло — заметил, смеясь: «Разумеется, с левой, потому что ехал назад».
Это посещение, как и многие другие, полно было шуток и поэтических разговоров.
В это время он очень усердно ухаживал за одной особой, к которой были написаны стихи: «Город пышный, город бедный» и «Пред ней, задумавшись, стою». Несмотря, однако ж, на чувство, которое проглядывает в этих прелестных стихах, он никогда не говорил об ней с нежностию и однажды, рассуждав о маленьких ножках, сказал: «Вот, например, у ней вот какие маленькие ножки, да черт ли в них». В другой раз, разговаривая со мною, он сказал: «Сегодня Крылов просил, чтобы я написал что-нибудь в ее альбом». — «А вы что сказали?» — спросила я. «А я сказал: „Ого!"» В таком роде он часто выражался о предмете своих вздыханий.
Когда Дельвиг с женою уехали в Харьков, я с отцом и сестрою перешла на их квартиру. Пушкин заходил к нам узнавать о них и раз поручил мне переслать стихи к Дельвигу, говоря: «Да смотрите, сами не читайте и не заглядывайте».
Я свято это исполнила и после уже узнала, что они состояли в следующем:
Как в ненастные дни собирались они
Часто.
Гнули, бог их прости, от пятидесяти
На сто.
И отписывали, и приписывали
Мелом.
Так в ненастные дни занимались они
Делом.
Эти стихи он написал у князя Голицына, во время карточной игры, мелом на рукаве37. Пушкин очень любил карты и говорил, что это его единственная привязанность. Он был, как все игроки, суеверен, и раз, когда я попросила у него денег для одного бедного семейства, он, отдавая последние пятьдесят рублей, сказал: «Счастье ваше, что я вчера проиграл».
По отъезде отца и сестры из Петербурга я перешла на маленькую квартирку в том же доме, где жил Дельвиг, и была свидетельницею свидания его с Пушкиным. Последний, узнавши о приезде Дельвига, тотчас приехал€ быстро пробежал через двор и бросился в его объятия; они целовали друг у друга руки и, казалось, не могли наглядеться один на другого. Они всегда так встречались и прощались: была обаятельная прелесть в их встречах и расставаниях.
В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его; Лангер, князь Эристов, Яковлев, Комовский и Илличевский. Кроме этих, приходили на вечера: Подолинский, Щастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх. Иногда также являлся Сергей Голицын и Михаил Иванович Глинка, гений музыки“ добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу38.
Тут кстати заметить, что Пушкин говорил часто: «Злы только дураки и дети». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, — но всегда раскаивался. Так однажды, когда он мне сказал какую-то злую фразу и я ему заметила: «Ce n'est pas bien de s'attaquer à une personne aussi inoffensive» (Нехорошо нападать на столь безобидную особу.) — обезоруженный моею фразою, он искренно начал извиняться. В поступках он всегда был добр и великодушен.
На вечера к Дельвигу являлся и Мицкевич. Вот кто был постоянно любезен и приятен. Какое бесподобное существо! Нам было всегда весело, когда он приезжал. Не помню, встречался ли он часто с Пушкиным, но знаю, что Пушкин и Дельвиг его уважали и любили. Да что мудреного? Он был так мягок, благодушен, так ласково приноровлялся ко всякому, что все были от него в восторге. Часто он усаживался подле нас, рассказывал нам сказки, которые он тут же сочинял, и был занимателен для всех и каждого.
Сказки в нашем кружке были в моде, потому что многие из нас верили в чудесное, в привидения и любили все сверхъестественное. Среди таких бесед многие из тогдашних писателей читали свои произведения. Так, например, Щастный читал нам «Фариса», переведенного им тогда, и заслужил всеобщее одобрение. За этот перевод Дельвиг очень благоволил к нему, хотя вообще Щастный, как поэт, был гораздо ниже других второстепенных писателей. Среди этих последних видное место занимал Подолинский, и многими его стихами восхищался Пушкин. Особенно нравились ему следующие:
Портрет
Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она,
Я мыслю, Гурия Пророка
С небес на землю сведена.
Коса и кудри темнорусы,
Наряд небрежный и простой,
И на груди роскошной бусы
Роскошно зыблются порой.
Весны и лета сочетанье
В живом огне ее очей
Рождают негу и желанье
В груди тоскующей моей.
И окончание стихов под заглавием: «К ней»:
Так ночью летнею младенца,
Земли роскошной поселенца,
Звезда манит издалека,
Но он к ней тянется напрасно...
Звезды златой, звезды прекрасной
Не досягнет его рука.
Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена:
Неумолимая, ты не хотела жить, — передразнивая его и голос и выговор.
Зима прошла. Пушкин уехал в Москву и хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась.
Когда я имела несчастие лишиться матери и была в очень затруднительном положении, то Пушкин приехал ко мне и, отыскивая мою квартиру, бегал, со свойственною ему живостью, по всем соседним дворам, пока наконец нашел меня. В этот приезд он употребил все свое красноречие, чтобы утешить меня, и я увидела его таким же, каким он бывал прежде. Он предлагал мне свою карету, чтобы съездить к одной даме, которая принимала во мне участие; ласкал мою маленькую дочь Ольгу, забавляясь, что она на вопрос: «Как тебя зовут?» — отвечала: «Воля!» — и вообще был так трогательно внимателен, что я забыла о своей печали и восхищалась им, как гением добра. Пусть этим словом окончатся мои воспоминания о великом поэте.
Сообщение отредактировал Михалы4 - Пятница, 06.06.2025, 15:47 |
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Четверг, 19.06.2025, 13:05 | Сообщение # 1591 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Софья Аверичева
Дневник разведчицы
Год 1941
20-е июня.
Пароход идет из Костромы в Рыбинск. Закончились наши гастроли в Костроме. Волжская ночь, тихая и лунная. Теплый речной ветерок. Настроение у всех приподнятое. Танцуем на палубе. Пассажиры недовольны. Потом узнают, что мы актеры Волковского театра. Все выходят на палубу. Перезнакомились.
Приглашают наперебой, говорят всяческие комплименты. Костя Копеин даже пиво не пьет. Танцует со мной Митя Аборкин, потом Сережа Тихонов.
Все они милые ребята, каждый по своему хорош. Товарищи, заботливые и щедрые. В обиду никогда не дадут. Сережа Тихонов все смотрит на меня и молчит, а когда начинает говорить, бледнеет и заикается.
Музыка и танцы. Мне кажется, что мы где-то в безвоздушном пространстве, такая легкость. И на душе чудесно!
21-е июня.
Вот и Рыбинск. Разместились по квартирам. Завтра открытие гастролей. Сбор труппы в одиннадцать часов дня во Дворце культуры.
22-е июня.
Война! Мы о ней знаем только по книгам и кинофильмам. Даже в песнях говорилось, что если будем воевать, то на чужой территории. А немцы с четырех часов утра топчут нашу советскую землю.
Здесь, в Рыбинске, не верится, что где-то уже льется кровь.
Коллектив театра весь в сборе. Начался митинг. Выступает артист Стагронский: «Враг не пройдет даль ше!» — читает Маяковского. Артистка Чудинова: «Не будет гранат, камнями будем драться». Артист Политимский: «Встанем все, как один, на защиту отечества!»
Хорошие, верные слова. Но почему так много пафоса, а глаза испуганные, растерянные, тревожные?
Вечером, на открытии гастролей, в огромнейшем зале Дворца культуры 18–20 человек. Открыли занавес. От пустого зала стало на душе холодно. Война! За кулисами все ходят на цыпочках и говорят шепотом. Война!
23-е июня.
Ночь не сплю. Утром чуть свет бегу к Дворцу культуры, там репродуктор. На душе тревожно.
Около Дворца ни души. Репродуктор молчит. Сажусь на ступеньки огромной террасы, около колонны. Репродуктор молчит. Что же дальше? Как жить? Играть Нину в «Маскараде»? Произносить со сцены никому не нужные слова!
Подходят группами рабочие, закуривают. Садятся рядом. Репродуктор молчит. А рабочие все подходят, подходят. Наконец передают сводку Информбюро.
Немцы на нашей земле. Шагают, топают сапожищами… Идут ожесточенные бои. И опять, уже в который раз, я твержу про себя: «Да нет же, нет! Не может этого быть! Это какая-то страшная ошибка. Почему так внезапно, как снег на голову?» Это как дурной сон, кошмар. Хочется проснуться, открыть глаза и увидеть веселые лица, увидеть жизнь — обыкновенную, нет, необыкновенную, чудесную жизнь, какая была два дня назад.
28-е июня.
Каждый день я бегаю к репродуктору. Сводки неутешительные. Днем работа идет своим чередом. Репетируем «Маскарад». Нину играет Александра Дмитриевна Чудинова, я с ней в очередь. Она частенько заставляет режиссера репетировать со мной, а сама сидит и смотрит. Раньше я бы ей была благодарна от всей души, но теперь… Вот сегодня не могла дождаться конца репетиции. Хочу пойти на сборный пункт, откуда отправляют молодежь на фронт.
Прочла в «Правде» статью о фашистских злодеяниях в Сербии, Чехии, Польше. В Румынии — забастовка в связи с вывозом продовольствия в Германию. В Польше евреи согнаны в специальные районы, за колючую проволоку. В Лодзи — 250 тысяч, в Варшаве — 500 тысяч. Фашистская Германия — концентрационный лагерь!
1-е июля.
Вот и июль. Гитлеровцы захватили Литву, часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Авиация фашистская бомбит Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь.
И над Рыбинском пролетели фашисты. Мы стояли на посту. Мой, пост был на крыше Дворца, но ничего страшного не произошло.
3-е июля.
Прибежала утром к Дворцу культуры. Рабочие уже слушали выступление Сталина. Речь его, как всегда, нетороплива, но в голосе слышится тревога, волнение. Рабочие стоят суровые, сосредоточенные. Среди этих людей чувствуешь себя как-то увереннее. Один пожилой рабочий, обняв паренька, глухо проговорил:
— Ну, что ж, сынок, надо — так надо, воевать — так воевать!
Все разошлись. Осталась одна. Сижу на крыльце Дворца и все повторяю: «Надо — так надо, воевать — так воевать!»
4-е июля.
Гастроли оборвались. Вчера в три часа ночи вернулись в Ярославль, а утром я пошла в райвоенкомат, подала заявление с просьбой направить меня на фронт.
Работник военкомата говорит усталым голосом: «Эх, девушка, у нас тысячи заявлений, все просятся на фронт. А работать-то кто же будет? Заявления девчата пишут такие, что мурашки по коже… Ладно, оставьте и вы свое».
10-е августа.
Открыли новый сезон премьерой «Парень из нашего города». Судьба и поступки героев пьесы К. Симонова сейчас особенно близки и понятны всем. Переполненный зал Волковского гудит и рукоплещет.
20-е августа.
В театре организуется народное ополчение. Все мужчины должны пройти боевую подготовку. Уговорила взять и меня в стрелковый взвод. Я в отделении нашего молодого режиссера Семы Оршанского. Дали мне из костюмерного синий комбинезон, сапоги и берет. По утрам, до репетиции, ползаем, бегаем. Изучаем материальную часть винтовки, пулемета, но все это, мне кажется, как-то не всерьез. Самодеятельность какая-то. Идет война, такая страшная, жестокая. А мы тут… Неужели не понятно, что надо действовать, действовать там! Ну чего мы ждем, и чему мы тут научимся! Ведь каждый день дорог. Каждый день (а может, и час) уносит тысячи жизней. С каждым днем враг все ближе к Москве, к Ярославлю — страшно подумать!
Подала заявление в партию. Хочу быть в эти трудные дни коммунистом. Но заявление мое не разбирают, никто со мной об этом не говорит. Конечно! Что я сделала такого, чтобы меня приняли в партию, членом которой был Ленин!
26-е августа.
Сегодня я познакомилась с двумя маленькими поклонницами. Узнали адрес, пришли ко мне домой. Просят фотокарточку, но у меня ее не оказалось: не очень люблю сниматься, да и с деньгами туговато. Приходу девочек рада. Очень славные, особенно младшая, Гетта Егорова. Читает Лермонтова и даже Маяковского.
30-е августа.
Из военкомата никакого ответа. Что же делать?
В театре народу битком. 27 августа, в среду, играли «Парня из нашего города» в фонд обороны страны! Концерты для армии ежедневно. Дежурим в госпиталях. За нами, актерами, закреплены две палаты тяжелораненых. Во Дворце пионеров, во многих школах города — госпитали.
Ночью я вышла на балкон и увидела: в школу № 4, ставшую теперь госпиталем, привезли раненых. Сегодня особенно большой поток. Одеваюсь, бегу на помощь медсестрам — все равно не уснуть. Медицинские работники к нам привыкли и относятся как к своим. Помогаю выносить раненых из машин. А машины идут и идут. Коридоры, комната приема — полны. Лекарства. Тяжелый запах гниющих ран. Все просят: пить! пить! Подхожу с чайником то к одному, то к другому. Предо мною настоящие фронтовики, первые наши герои, все они кажутся родными, близкими, каждому хочется помочь, утешить, приласкать…
Здесь все виды войск. Вот и партизан. Молоденький мальчишка, без сознания, лицо желтое. Записываю номер палаты. Завтра, если он доживет до завтра, приду к нему, буду сидеть около него, выхаживать. Только бы остался жив.
Увидела столько горя, столько страдания! И всю ночь меня не покидало какое-то странное, тревожное чувство — чувство вины перед этими людьми. Хожу тут, молодая, здоровая, а ведь могла быть рядом с ними там, в бою. Я знаю, что смогла бы.
1-е сентября.
Надеваю свое лучшее платье, новое пальто, сшитое перед войной, сбиваю повыше белобрысый чуб и иду в облвоенкомат.
Около театра встречаю наших актеров Володю Митрофанова и Дмитрия Аборкина. Они тоже идут в военкомат. Надо же, такое совпадение!
Почтенный военком внимательно выслушивает моих спутников, а потом, повернувшись ко мне и устало окинув меня взглядом, спрашивает: «Ну, а вам что, барышня?» Я волнуюсь, объясняю, говорю о своей обиде: на мое заявление до сих пор нет ответа.
— А военная специальность у вас есть? Что вы намерены делать в армии?
— Шофером была на Дальнем Востоке, лет девять тому назад.
— Так вот, приобретайте специальность, тогда и приходите.
Прямо из военкомата бегу в автомотоклуб. Там открываются курсы мотоциклистов. Идет набор. Подаю заявление.
Ах, как я понимаю мальчишек, убегающих на фронт! Сесть бы в любой эшелон (а их так много проходит через наше Всполье) — и конец всякой волоките. Никаких заявлений, никаких ожиданий «решения вопроса».
20-е сентября.
Уже идут ожесточенные бои под Киевом. Занятия на курсах мотоциклистов проходят регулярно. В театр по-прежнему не достанешь билетов. Сережу Тихонова взяли в армию. Ушел на фронт и Семен Оршанский.
С питанием все хуже и хуже. Черный хлеб, чечевичный суп без мяса. У меня часто кружится голова. С утра обливаюсь холодной водой, закаляюсь, чтобы легче было на фронте. А в пять часов ежедневно выезжаю за город на клубном драндулете-мотоцикле.
Ужасная штука наш клубный драндулет, одно мученье. Собирали мы его, тщательно ремонтировали, а все равно одна тоска. Каждый раз приходится минут тридцать тратить, чтобы завести.
Вот и сегодня лишь после долгих усилий мотор заработал, с выстрелами и чиханием. Сажусь, включаю скорость, мотоцикл подскакивает и делает прыжок. Шипит, ухает, тарахтит, гудит, дымит, но движется вперед. А следом мальчишки со всей улицы. Включаю третью скорость, вырываюсь из «окружения», мчусь по улицам моего родного Ярославля.
Но вот несчастный начинает потихоньку вздрагивать, пищать, визжать, биться, как в лихорадке и… останавливается. Прочищаю, продуваю. Просматриваю зажигание, нажимаю рычаги и рычажочки. Никакой жизни. Опять толпа ребятишек. Откуда они только берутся? Окружают, дают советы. Толкаем все вместе, дружно — не помогает. Сажусь на него верхом, ребята тащат меня вместе с мотоциклом. Вдруг он вздрагивает и с прискоком делает рывок. Под дружное улюлюканье ребят вырываюсь на простор. Мальчишки смеются. Вид у меня, пожалуй, забавный: лицо, руки, комбинезон — в мазуте.
21-е сентября.
Сегодня, как и вчера, случилась такая же беда с мотоциклом на улице Волкова. И тут среди мальчишек появилась группа летчиков. Все вместе принялись мне помогать. Спасибо моему драндулету, на этот раз он не долго капризничал. Я облегченно вздохнула и помчалась. Слышу, меня догоняют. Обернулась: летчик на мотоцикле. Газую до отказа, но этот тип перегнал и начал вокруг гарцевать. Ему легко, у него ИЖ-9, а у меня несчастный гибрид фабрики «Красный Октябрь». Даже настроение испортилось. Добралась до гаража и заявила начальнику клуба, что наш мотоцикл — позор!
25-е сентября.
Теорию сдала на «отлично». Практические экзамены проходят на Советской площади. Один за другим сдают ребята. Вот и моя очередь. Волнуюсь, как перед выходом на сцену. Сажусь, мотор работает чудесно. Это тебе не «Красный Октябрь»! Плавно включаю скорость, постепенно прибавляю газ. Убыстряю ход и точненько по линиям вывожу фигуры, начерченные мелом. Остается самая сложная — восьмерка. Сосредоточиваю все внимание, машина идет легко, плавно. Урра-а! Вот и восьмерка. Выезжаю из круга фигур и мчусь по площади. Делаю последний большой круг. Подъезжаю к комиссии.
— Отлично! Поздравляем.
26-е сентября.
Встаю чуть свет, одеваюсь, бегу в нашу фотомастерскую. Еще рано. Жду. Открыли в восемь. Сфотографировалась. Получаю еще мокрые снимки, бегу в автоинспекцию. Наконец долгожданное удостоверение у меня в руках. Мчусь в облвоенкомат. Но уже поздно, все разошлись.
Я подумала о том, что вся жизнь моя — ожидание! Живу, играю на сцене, работаю дома, дежурю в госпиталях, выезжаю с концертами. Но главное сейчас — ожидание ответа из военкомата.
28-е сентября.
Сегодня воскресенье. Дали мне записку в гараж обкома партии. Взяла мотоцикл и в четыре утра выехала за город, по Костромской дороге. Возвращаясь домой, размечталась… Возьмут меня в армию. Буду связистом-мотоциклистом. Повезу донесение, а фашисты за мной. Нажму на гашетку, перестреляю всех из пулемета, вырвусь из окружения, привезу ценнейшие донесения командованию. Или… возьмут меня в моторазведку. Прорвемся мы ротой в тыл противника. Налетим с тыла на село, где издеваются над нашими людьми. Уничтожим фашистов, освободим наших…
Не заметила, как въехала в город. Утром прошел дождь. Воздух чистый, свежий, по-осеннему бодрый. Город проснулся. На площади у театра Волкова газанула, не рассчитала, сшибла барьер цветочной клумбы, перевернулась несколько раз, обнявшись с мотоциклом, и осталась под ним лежать. Народу набежало! Охают, ахают, но никто не помогает выбраться из-под мотоцикла. А я не могу двинуть ни одним суставом. Правую ногу придавило, прижарило глушителем. И тут вижу… О, ужас, бежит милиционер, расталкивает: «Посторонитесь, посторонитесь!» Пропала моя головушка, отнимет он мои права, с таким трудом приобретенные. Но милиционер оказался замечательным парнем. Оттащил машину, подал руку: «Вставайте, гражданочка!» Очистил меня от грязи. Завел мотор, что-то выправил. «Садитесь, пожалуйста! Я сам мотоциклист, кое-что в нем понимаю!»
Благодарю милиционера. С трудом сажусь и мчусь от места моего позора. Около гостиницы лужа, врезаюсь в нее и окатываю грязной водой себя и человека в шляпе. Оказывается, это наш режиссер Аксель Францевич Лундин. Я останавливаюсь, извиняюсь. А он: «Я из вас хотел сделать Нину Арбенину — чудесную из чудеснейших женщин, а вы… в штанах, верхом на мотоцикле!..»
Бегу на спектакль.
Гримируюсь. Все тело ноет. Нога пылает. В зеркале бледное лицо. Гример Бобренко, наш дорогой «Алексеич», приносит косы. Завивает мои волосы. Я как во сне. Начинаю одеваться. Ого, все тело в синяках. На ноге пузырь и рана от ожога. Об этом становится известно всем за кулисами. Врывается актриса Галя Петрова. Она уже успела пройти курсы медсестер, даже участвовала в одном рейсе санитарного поезда, на котором под обстрелом немецких самолетов везли раненых из фронтового госпиталя в Ярославль.
Осмотрела меня, принесла примочки, бинты, вату. Третий звонок. С трудом поднимаюсь, еле добираюсь до сцены. На сцене легче, все забываю. После спектакля обливают меня всякими лекарствами — йодом, зеленкой, примочкой, забинтовывают до пояса. Добираюсь до дому, до кровати и впадаю в какое-то забытье.
29-е сентября.
Сегодня все только и говорят о митинге молодежи в Москве. Радио передает волнующие речи поэтессы Маргариты Алигер, поэта Николая Асеева. Речь партизана Югославии Велемира Влаховича потрясает. Рубэн Руис Ибаррури обратился к молодежи Европы и Америки с призывом отдать все силы на борьбу с фашизмом. Страстно звучали слова Героя Советского Союза летчика Виктора Талалихина.
30-е сентября.
Пролежала два дня, но надо работать. Каждая замена актера на роль тяжело отражается на всем коллективе. Пришла в театр, и стало легче. Чувствую, что выздоравливаю.
2-е сентября.
Вчера вызвали меня в горком комсомола и предложили выступить на антифашистском митинге. Всю ночь волновалась. Что сказать и как сказать, чтоб передать всю свою ненависть к фашизму, который залил кровью Европу, который топчет нашу родную землю.
Зал переполнен. В глубокой тишине слушают каждое выступление.
Фашизм воспитал целое поколение бандитов и убийц. Они уничтожают все светлое, умное на земле. Они сжигают города, все, что создано умом, мыслью, руками человека. И это — Германия. Страна, которая дала миру Гете, Гейне, Бетховена, Маркса. В ушах все время звучит из «Сусанина»: «Налетели злые коршуны… Ворвалися к нам враги…»
Выступает фронтовик Половцев. На груди у него боевой орден Красной Звезды. «Сейчас все дело в том, быть или не быть нам свободными людьми. Весь народ встал на защиту своего отечества».
Красноармеец Волков призывает молодежь овладевать военными знаниями. Выступает стахановец Малахов, выполняющий норму на триста процентов. Речи кратки, все заявляют о готовности идти на фронт, в действующую армию.
Вот и меня вызывают на трибуну. В руках бумажка — конспект, продуманные слова. Но к чему это! И так все ясно. Сидеть в городе, играть меланхолических барышень, даже Нину Арбенину… Честно говоря, мне и непонятны сейчас страдания Арбениных. Вышла на трибуну, чувствую, что голос мне не подчиняется, а слова идут какие-то заученные. Но потом меня прорывает, я слышу, как звенит в тишине голос: «Мы отдадим все свои силы, все свои способности, всю свою жизнь тебе, Родина!»
15-е октября.
Сводки Информбюро неутешительны. Идут ожесточенные бои на Вяземском, Брянском и Калининском направлениях. Наши войска оставили Мариуполь. Объявлена эвакуация Одессы.
Формируется коммунистическая дивизия из ярославцев, костромичей, рыбинцев. В ее ряды вступают целыми семьями. Мужья с женами, братья с сестрами, отцы с сыновьями. Подают коллективные заявления целые парторганизации, цеха. По предприятиям проходят митинги. Еду в Кировский райвоенкомат. Там полно народу. Встаю в очередь, прошусь в дивизию. Говорят: «Не время — подождите».
Мчусь в обком комсомола. Сколько раз я пыталась застать первого секретаря Сашу Пелевина! Сегодня он у себя. Разговор короткий. Выслушав просьбу направить меня в Ярославскую коммунистическую в качестве мотоциклиста-связиста или в моторазведку, он обещает: «Помогу».
16-е октября.
Боже мой, немцы уже в Калинине! Сегодня к нам в театр пришла большая группа актеров из Калининского драмтеатра. Они несколько дней добирались до Ярославля. С ними ребятишки, старики. Я дежурю в театре. Сразу звоню В. П. Топтыгину — нашему директору.
Разместили калининских актеров в красном уголке. Принесли ковры, подушки, одеяла. Вызвали срочно буфетчицу, накормили, чём могли, вскипятили чай. Сейчас они спят.
Мои соседи солят баранину в бочках, сушат сухари мешками. У многих сделаны большие санки. Масло топленое в банках. Соседка вызывает мужа из Костромы, кричит в телефонную трубку: «Немедленно приезжай! Ты идиот, сумасшедший, немцы уже в Калинине».
20-е октября.
Фашисты под Москвой. Это трудно выговорить, а написать еще труднее. Объявлено осадное положение. Правительство призывает всех к выдержке и дисциплине. Долг каждого гражданина, способного носить оружие, — овладеть им, чтобы бить врага.
Наш взвод народного ополчения проходит боевую подготовку в пехотном училище.
А из обкома комсомола ответа нет.
Ждать больше не могу. Надо действовать. Написала письмо первому секретарю обкома партии Николаю Семеновичу Патоличеву.
22-е октября.
После репетиции, когда я вышла из театра, ко мне подошел молодой паренек — работник обкома комсомола. Мы идем по бульвару. Он объясняет обстановку на фронте: немцы рвутся к Москве, они торопятся завершить кампанию на Востоке до зимы. Ярославль — подступ к Москве. Поэтому наш город объявлен на угрожаемом положении. Паренек уверен, что под Москвой фашисты получат отпор. Но все-таки есть приказ: подготовить в городе все на случай прихода врага. В Ярославле должны остаться люди для работы в подполье.
Обком комсомола все обо мне знает и считает, что я вполне подхожу для работы в тылу врага. Не надо настаивать на том, чтобы взяли в армию, а потихонечку изучать оружие и немецкий язык. Мне в этом помогут. Получив мое согласие, паренек договаривается о следующей встрече и уходит.
Я остаюсь на скамейке бульвара и долго не могу прийти в себя. Вот оно начинается — настоящее.
23-е октября.
Вижу во сне себя в розовом платье. Это как будто то самое платье, в котором я играю в спектакле «Парень из нашего города», и как будто не то. Платье пышное, нежное.
Стою перед зеркалом, не могу глаз отвести, до того красиво. Но на мне почему-то черная шляпа. Все розовое, а шляпа черная.
Рассказала соседке Зине, она говорит, это к перемене жизни.
Приходит ко мне на квартиру паренек, худенький, незаметный. Начинаем мы с ним изучать наган. Разборка, сборка. Это легко. Затем немецкий пистолет «вальтер». Обещает в следующий раз принести другие системы пистолетов. Говорит, у немцев много всяких систем.
Зина думает, это поклонник. Говорит: «Сон в руку».
24-е октября.
Ярославская коммунистическая дивизия продолжает формироваться. Многие из нашего театра ушли туда. Главный режиссер Давыд Моисеевич Манский — начальник клуба дивизии. Артисты Владимир Митрофанов и Дмитрий Аборкин — адъютанты в батальонах.
Сегодня, все время примерки костюмов, вошла в костюмерный цех Мура Рыпневская. Она тоже уезжает на фронт с дивизией. Я ей завидую. Хорошо бы уйти вместе с ними на фронт! Но я не вольна об этом говорить.
Мура смотрит на меня с осуждением.
— Ты же мечтала о фронте! Что случилось?
— Не берут! — произношу я довольно легкомысленно.
— Захотела бы, так взяли в нашу бригаду актеров…
Я понимаю ее, она вправе презирать меня.
Домой иду мимо Дворца пионеров. Раненых везут и везут. Артисты театра уже давно здесь. Они не выходят из госпиталя, дежурят около раненых сутками. Иду помогать.
25-е октября.
В шесть утра постучалась ко мне высоченная женщина. Подавая руку, сказала: «Меня зовут фрау Ольга, я буду вам преподавать немецкий язык».
Началась у меня жизнь, полная забот!
8-е ноября.
Вчера был праздник. День рождения Советской власти. А на душе тревожно. С утра долго чистила, штопала и гладила свое черное шерстяное платье. В полдень выехали в лагерь, где заканчивается формирование Ярославской коммунистической дивизии.
Морозный вечер. Концерт проходит в дивизионном клубе. Принимают нас, волковцев, так, что слезы стоят в горле.
Уходим со сцены под бурные аплодисменты.
Ночуем в землянках. Я в землянке медсанбата. Гостеприимные хозяюшки, медсестры, приносят ужин и на мою долю. Чудесные сестрички, совсем девочки. Некоторые подстрижены коротко, под мальчишек. В чистых гимнастерках, с белоснежными подворотничками. Маруся Теплова — толстушка, хохотушка! Кокетливая Анюта Тюканова. А Муры нет. Говорят, она в Ярославле — получила увольнительную.
Ложимся спать все вместе. Девушки заботливо укладывают меня в середине. Сначала они стесняются, но потом прижимаются ко мне крепко, с обеих сторон. Мы обнимаемся и вдруг начинаем дружно и весело смеяться.
Утром встаю. В землянке ни души. На столе котелок с кашей, хлеб, кусочек сала и записка: «Кушайте, пейте чай. Спасибо вам, дорогие наши волковцы!»
Выхожу. Снег ослепительно яркий. Солнце уже высоко. В лагере жизнь кипит. Слышится команда: «На пле-чо! Шагом марш!» Под ногами бойцов хрустит снег.
Воздух свежий. Высокие сосны, они как будто в строю, им нет конца и края. Снег сверкает, переливается на солнышке, слепит глаза. А вот и за мной: пора ехать домой. Спасибо вам, родные подружки, желаю вам долгой и счастливой жизни, встречу с вами сохраню навсегда!
10-е ноября.
Ольга Николаевна, или фрау Ольга, появляется каждое утро, пунктуально, в шесть. Высокая, тощая. Метод преподавания очень прост. Изучаю построение фраз, запоминаю каждый день множество немецких слов. Начинаем разговаривать: «Вер зинд зи?» — «Их бин айнэ руссише шаушпиллерин» — «Во вонен зи?» — «Их воне штадт Ярославль, Волков штрассе, цвей фир, вонунг айн унд цванциг» — и т. д. Фрау Ольга не разрешает мне во время урока произносить ни одного русского слова. Готовлю ей ежедневно «эрцелюнг».
11-е ноября.
К нам в театр привезли бочку глюкозы, колбасу, яйца, хлеб. Я получила целых два килограмма глюкозы, килограмм колбасы и буханку черного хлеба. Ах, как все вкусно пахнет! Слюнки бегут. Вместо положенных десяти яиц мне выдали два килограмма картофеля.
6-е декабря.
Урра! Наконец радостные вести. Немцам под Москвой хорошо дали по зубам. У нас есть какое-то волшебное оружие. Говорят, это новый вид артиллерии страшной силы. Летят огненные снаряды и выжигают все на своем пути.
После спектакля шефский концерт в полуэкипаже моряков, а затем ужин с моряками. Тосты за нашу победу. Поздравляем друг друга с началом победы под Москвой.
10-е декабря.
Позвонила пареньку из обкома. Встретились на Волжской набережной. Теперь уже Ярославлю враг не угрожает, и я могу считать себя свободной. Но мы расстались еще не совсем. Нужно подождать окончательного разгрома немцев под Москвой.
И все-таки, во время концерта у летчиков, просила командование взять меня пулеметчиком на бомбардировщик. Они говорят, что пулеметчик на самолете должен быть и радистом. Предложили должность начальника клуба.
12-е декабря.
Приступили к работе над пьесой Шиллера «Вильгельм Телль». Мне поручили роль Берты фон Брунэк. А Ольга Николаевна со мной не расстается. Принесла пьесу на немецком языке. Мы изучаем и переводим мою роль с немецкого на русский, с русского на немецкий. Все это очень помогает войти в образ Берты.
В театре всюду стоят швейные машины. Женщины под руководством работников костюмерного цеха Лосева и Серафимы Михайловны Митрофановой шьют стеганые телогрейки, брюки, теплые ватные «конверты-одеяла» для раненых бойцов.
15-е декабря.
Меня возьмут в армию, возьмут! Но надо все по порядку. Только что была на приеме у Николая Семеновича Патоличева. Я с большой надеждой ждала этого дня. В глубине души жила уверенность, что Патоличев поймет меня. Уж он не скажет: «А вам что нужно, барышня? Не мешайте работать!» Все знают его как очень внимательного, чуткого и справедливого человека. Секретаря обкома часто видят в цехах заводов, бывает он и в семьях рабочих. Рассказывают даже, что он заходит в магазины. В театре он, по-моему, бывает на всех премьерах. Приходит за кулисы поздравить с новой удачей…
И вот я в обкоме. Навстречу мне встал среднего роста, чернявый человек. Молодое энергичное, открытое лицо, приятная добрая улыбка, внимательный взгляд. Я страшно волновалась.
Николай Семенович усадил меня в кресло, стал расспрашивать о делах в театре, о моих успехах в освоении машины. Волнение мое постепенно улеглось. Я высказала ему свои обиды и неудачи, сопутствующие хлопотам о фронте. И он поверил в меня. Ведь никто не верил, что я могу стать бойцом. А я им буду, буду воином Ярославской коммунистической дивизии!
На всю жизнь сохраню я в памяти эту встречу и это строгое гранитное здание на улице Трефолева.
Домой идти не хотелось. Долго ходила по улицам моего чудесного Ярославля. Стояла на набережной у дорогой сердцу беседки, разговаривала с Волгой, прощалась с ней.
Каталась с мальчишками на санках. Вернулась домой поздно, вся в снегу.
Год 1942
Далее: https://www.rulit.me/books/dnevnik-razvedchicy-read-390685-7.html
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 25.06.2025, 16:53 | Сообщение # 1592 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Бурлила магма, колыхалась,
творились, лопались миры,
кипел и вспучивался хаос
и освещался изнутри.
И тьма, и свет, закон и случай -
зачем-то было нужно всё -
короткий сверк звезды падучей,
орбит раскрученных лассо.
Зачем Земля?
Зачем амёба?
Зачем разинутый роток
и ненасытная утроба,
и пола зов, и кровоток?
Зачем копились прахи в гумус,
перепревали в мел и в нефть
иль погружались в недр угрюмость,
чтоб замереть, окаменев.
Зачем был проблеск первой мысли,
метнувшийся искрою вдруг
в глазах, над коими нависли
утесы двух надбровных дуг?..
И этот черный уголь в лапе...
и свет на узеньком челе...
И зверь, слюною брызжа в храпе,
рисует что-то на скале!
Вот он детеныша погладил
и, так потешно неумел,
он что-то завывать заладил,
да нет же, не завыл – запел!..
Зажглось в нем нечто и заныло,
метнулось, потянуло вверх
томленье непонятной силы...
Вот он был зверь – стал человек...
Все шло, прямоходящий малый,
от первых граммов вещества
к прекраснейшей из аномалий -
душе живого существа.
Весь ход миров - и нерв, и мускул,
вся неустроенная суть,
все лишь затем, смешной корпускул,
чтоб в твое тело душу вдуть!
Чтоб в вечный хоровод материй
вплести хоть тоненькую нить
желанья и уменья верить,
творить, надеяться, любить!..
***
Люблю тебя...
люблю тебя...
Светло и больно - как ни щурюсь.
Как ночью с птицами кочую,
светясь от звездного репья.
Я думал, в юрские мелА
радиолярией спиральной,
в грехи в щелях исповедальни
любовь навеки залегла.
Но было знаменье – готов
я присягать на всех святынях-,
две длинных радуги въедино
сплелись, в четырнадцать цветов.
И вот я выдохнул:
- Люблю...
Иду по лезвиям, разутый.
Из тьмы венозной и мазутной
К тебе свой голос длю и длю.
Люблю тебя...
люблю тебя...
назло всей горечи нажитой,
назло ушибам и ошибкам
и трезвым винам сентября.
Люблю тебя...
Люблю тебя
всем своим сердцем полустертым,
распахнуто и распростерто,
не требуя и не губя.
Люблю тебя всей силой жил!
Не ловчей птицею когтиться –
хочу под каждую ресницу
тебе свет радуг подложить.
***
Был март?.. Мне помнится тепло.
Был день воскресный - спи, блаженствуй.
А нас желанье путешествий,
прочь из уюта понесло...
Автобус был такой-сякой,
труба по радио и бонги.
Долгоиграющей бон-бонки
кристаллик таял за щекой...
Ну да, был март. Или апрель?
Вокруг все плакало и пело.
Автобус нес два наших тела
средь прочих пассажирских тел.
Была начальная весна...
Дождь сыпал бисер и стеклярус,
и нас не «лаз» или «икарус» -
любовь на крылышках несла.
...Ну, что ты споришь, не шуми.
Все было именно в апреле -
крестьянский рынок, вроде, в ПрЕнай,
и пряно пахло лошадьми.
И мы ходили средь мешков,
граблей, фиглЕй и ковырялок,
вдыхали чистый запах яблок
и мутный хмель от мужиков.
Мы накупили пустяков -
морковь с капустою, допустим...
И трех детей нашли в капусте,
играясь с рифмою к "морковь"...
***
Итак ты выжил после детских драк
и шалопайства пубертатной зоны,
не променял здоровье на кабак,
азарт и шаловливые гормоны.
Ты избежал проказы и чумы
(а от нестрашных немочей излечен).
И пусть не лез в высокие чины -
зато и плаха чавкала далече.
И не спешил ни "за", ни "супротив".
На кухне ересь гнал по мелочевке.
Из-за тычка, к примеру, суп пролив,
весь мир бранил за тесноту хрущевки.
Ты простоял, как ботик на мели,
неладность даний да и ладность тоже.
И не тебя к помосту отнесли
четыре вертухая менторожих.
О мудростях скрижальных не вещал
и не творил кумира из крамолы -
к событьям, людям, истинам, вещам
нетрудные прилаживал глаголы.
Ведь ни к чему к богатству ладить гать
и лезть во власть, расталкивая челядь,
чтобы любить, мечтать и горевать,
терпеть, страдать и помнить, и лелеять...
***
Приснилось давнишнее...Вот ведь - пожалте бриться...
Фокусник странный явился в наш старый двор.
За ним в подворотне осень жевала листья
и пар источался из дырок, щелей и пор.
Во фраке помятом, измызганном - матка бозка...
Вялый цветок в петлице посмертно ржав...
Штанина кальсонная – ода и гимн обноскам -
на шее висела, как гарусный гордый шарф.
Мальчишки смеялись:
- Барон! - хохотали. - Князь он!
Смех набивался в уши, как колкая чешуя.
А он то и дело, нервически дернув глазом,
вышептывал фразу - такую: "вобюл ущи я".
Я думал, что это просто присловье, типа
"сим-салабим", "фокус-покус" - словесный пасс...
Да что ни скажи, что ни делай - все будет липа,
эрзац-чудеса для забитых народных масс -
для этих для темных, окраинных, как горбушка,
добрых моих соседей - Господи, их храни!..
Для давленных, молотых в мялках и крупорушках
жестокой эпохи любимой, но злой страны.
В высокую шляпу-цилиндр (а в ней космос ухал)
фокусник руку засовывал по плечо.
Тащил он оттуда кроликов за два уха,
тощих курей да и много чего еще.
Бутылки вытаскивал - и наливали тут же.
Свет разнокОлерный шел по спирали вверх
И покрывались цветами гнилые лужи,
и жаркая соль обжигала изнанки век.
А эта - из тридцать четвертой квартиры дама.
Серая вечно,как пыльный цементный куль.
В окошке своем над юдолью тоски и хлама
в луче засияла, и ангел над ней мелькнул
Она невесомо по воздуху вниз сходила.
Он ждал, обездвижен - лишь вздергивался кадык...
Вобюл, говоришь?.. Тут я понял, какая сила
назначила встречу для этих двух горемык...
- Я долго искал, уж не ждал, что найду потерю...
Шел не в ту сторону, жил я наоборот...
Он говорил, а она отвечала:
- Верю...
И тонкой ладонью ему закрывала рот.
И шли со двора они молоды - мама миа...
В белых одеждах сквозь нестерпимый свет...
Я знаю с тех пор - чудо лучшее свойство мира.
Не говорите о том, будто чуда на свете нет...
***
Где эти комнаты, где проживало счастье?
Дверь приоткрылась бы, в малую щелку - шасть я!..
И ведь знакомы стены и пол, да и дверь сия ведь...
Дождь за окном говорит и сирень сияет.
Можно пойти наломать вороха махровья.
В зеркале олух влюбленный - глаза коровьи.
Очень печальные то есть... Боясь до колик,
бросить сирень в окно ей, на подоконник.
Или не дождь, а солнце - пали, не жалко,
носит по улице радугу поливалка.
Тени от листьев - сечку, рванье, обрезки -
лето качает в колышимой занавеске...
Слышу родителей - в кухне, вернулись с рынка...
Яблочный запах. Боже, - ранет, пепинка...
На косяке узнаю эти зубчики - метки роста.
Все насовсем, то есть невозвратимо просто...
Были потом удовольствия, кайфы, неги.
Реки молочные были, и арфы в небе.
Нынче, казалось бы, тоже - и цвет, и смак тут.
Но почему-то яблоки так не пахнут.
Смотришь на мир водянистым и сытым взглядом,
не замечаешь сирени, кипящей рядом.
В жизни то ямы, а то - в основном - равнина.
Все хорошо. Замечательно. Непоправимо.
***
В том дворе, в том дворе на кудыкиной горе
есть качели, тополя и голубятня,
и песочницы две, а по яркой траве
раскидало лето солнечные пятна.
В том дворе, в том дворе спит Полкаша в конуре,
пес породы нашаобщаясобака -
сон послал песий бог без котов и без блох,
сон о суке из рабочего барака.
В том дворе, в том дворе с бутербродом в кобуре
участковый Николаев ходит длинный.
Что-то часто он тут, а причину зовут
из пятнадцатой квартиры Валентиной.
Мужики. Домино. Смотрит тетенька в окно.
- Да не пьем мы, чеснолово, что ты, Люся!
Не волнуйся ты зря. Разве три пузыря-
это доза для таких орлов. Дуплюся!
Коллективный портрет — малолетний контингент,
синяки, веснушки, кеды, самокаты.
Ни чинов, ни цены — так, щеглы, пацаны.
Заготовки судеб, полуфабрикаты...
И прожит, и протух сфабрикованный продукт.
Тот зарыт, тот позабыт, а тот на зоне.
Кто пропит, кто пропет, гор кудыкиных нет.
Только солнечные пятна на газоне.
***
Постарел твой, мама, пострел.
Мир вокруг него посерел.
А блестел-то, мама, пестрел.
А летел ведь стрепет, летел...
Трепет был и свежесть была.
Высота была, купола.
И цвела ведь вишня, бела...
А теперь-то лишь лебеда...
Я теперь-то, мама, обрюзг,
как головопузый моллюск.
Аки неразумный полип,
к потонувшей барже прилип...
А вокруг мезга да лузга,
лезут тузики в тузы, мелюзга...
Может, и гордыня во мне,
но неверно что-то вовне.
Покрестился... Тушу свою
на четыре места солю –
а щепоткой-то в три перста,
да щепотка, мама, пуста.
Мне бы горло рвать в тропаре,
а я ус мочу в стопаре...
Ты прости меня за скулёж.
Я пойду уж...
Кладбище...
Дождь...
***
Далекое соло сакса.
Звучит ли? Вообразил?
В горле образовался
шершавящий абразив.
Мелодию-самозванку
дослушать не тороплюсь.
Пинаю пустую банку -
пусть бонги подкрасят блюз.
Мотив, чей ты голос выткал
Из блюзовой размазни?
Дружки мои - Гинтас, Витька ль
окликнули:
- Отпасни!
Но зря озираюсь. Глупость.
Их нет ни в одном из мест.
Их взяли суглинок, супесь
и круговорот веществ.
А блюз, ты пищаньем куцым -
не скроешь простую суть...
Мне есть обо что споткнуться,
но некому отпаснуть.
Давай-ка погнись от песни,
злаченый ручной удав...
Когда-то мы будем вместе.
Я знаю, что в этом прав!
А в небе лилово-мокром -
ужель они оба там -
друзья банку с летним громом
пинают по облакам.
***
Что виделось зернам под красной, как сердце, луной
на ветре озерном летящим к воде ледяной?
Что мнилось хвоинкам в паденья растянутый миг?
Да разве мы вникнем? Ужели мы вспомним о них?
Ведь мы-то весомей по правилам этой игры,
чем сонмы несомой цветной и живой мишуры.
Ведь мы сотворили и воду, и небо, и твердь.
И мы еще в силе придумывать жизнь, а не смерть.
Лишь мы и умеем, чтоб ухало эхо в лесу,
чтоб ветер по мелям и птичье перо на весу.
Ведь вызвана нашей любовью мелькнувшая ость
звезды этой падшей и нас проколовшей насквозь.
И ночь налетела, и след от заката угас
и два наших тела истаяли в клекот и газ,
и только мы сами всему двуединый творец
из плазмы касаний, из лунного света сердец...
Наверно мы тоже -соринки, живое ничто...
Но все же, но все же мы были на горнем плато.
И утро небесно. И медленный лебедя лет.
А все, что не песня пусть стихнет, угаснет, уйдет.
***
Наверное, пора бы о душе,
подумать, пошептаться, посудачить
с ветрами в индевелом камыше
и шорохами выстуженной дачи.
Вот я, живущий, бесом обуян,
смеюсь и вою в спящем состояньи,
вот вы - чуть шевелящие бурьян
и снегу придающие сиянье...
Вы то - звезда, а то - древесный ствол,
то вы - мотив в сосульчатой челесте.
А я, творец пустопорожних волн
и созидатель бубличных отверстий...
Я не умею, милые мои,
которых слышу в воздухе холодном,
крутить снежинок белые рои
и быть от всякой сущности свободным.
Но тоже стану вечен и безлик,
и буду жить в терновнике и дроке,
и вместе с вами шевелить тростник
и завивать поземку на дороге...
Владимир Таблер (1957.02.02 - 2010.05.22) https://stihi.ru/avtor/vtabler
____________________________________________________________
|
| |
| |
| Михалы4 | Дата: Среда, 06.08.2025, 20:04 | Сообщение # 1593 |
 Генералиссимус Нашей Планеты
Группа: Проверенные
Сообщений: 3586
Статус: Offline
| Она уже подбирала себе костюмы,
Искала цветочно-древесные ароматы,
Выкидывала баснословные суммы,
Опустошая играючи банкоматы.
Готовилась выйти в свет! Заявиться павой!
По случаю в крокодиловых ботильонах,
Как модель, по линеечке – левой…правой…
А вокруг вожделение, зависть, стоны…
Она привыкла являться слегка пораньше,
Без билета садиться на лучшее место,
Вся такая в коже, парче и замше,
Сто ледяных каратов – в одной подвеске…
В её визитке написано просто – «Осень».
Дверь лимузина открыта. Пава на старте…
Но август в шортах, шлёпках и с голым торсом,
Дёшево и сердито смешал ей карты.
Занял всё абсолютно: партер и ложи,
Повысил градус, накалил обстановку:
«Дамочка, загляните немного позже,
По такой погоде в парче неловко»…
***
Какое-то странное лето двадцать второго,
Пришло незаметно, не говоря ни слова…
И, вроде, ломилось в квартиру гремучим зноем,
Пылало по миру и тлело под Костромою…
Но только сегодня, когда на пороге август,
И день никуда не годный, прохладно малость,
Я летний привет увидел в кусте гортензий.
И дело во мне. А к лету я без претензий…
***
«Абхаз», «Бурят», «Якут», «Задира», «Дед» ...
Мы позабыли имена за восемь лет
И заблудились в отчествах уже:
"Петрович" - каждый третий в блиндаже.
Мы стали, вроде, на одно лицо,
В годах сравнялись за год сын с отцом.
В прямом и переносном – по следам –
Идем в степи навстречу городам,
И центр Земли смещается для нас
За сутки из Лимана в Лисичанск…
Мы все умеем всё – так повелось,
Мы вместе даже рассыпаясь врозь,
Дрожим слегка во сне, а бодрствуем, когда –
Мы не дрожим. Нас сделали года,
Часы и дни похожими на сталь.
Нам не о чем жалеть, нас – никому не жаль.
Мы позабыли имена за восемь лет
Свои – быть может, а погибших – нет.
И трёхлинейки оживляя труп,
Дотягиваясь пулей за уступ,
Без лишней злобы, шепчем, как завет:
«Ловите от «Петровича» привет»...
Мы позабыли имена за восемь лет
Свои – быть может, а погибших – нет.
***
Без ноутбука и планшета,
Среди исписанных листов –
Я не поэт для Интернета,
Я – рифмоплёт для пацанов.
И нету миссии почётней,
И нет занятия важней,
Чем мужикам простые строчки
Читать в утробах блиндажей.
Заглушат «ямбы» и «хореи»
Пусть ненадолго, хоть на час,
Артиллерийской батареи
Уже привычный нервный бас…
На день рождения для дочки,
На Новый год – для сыновей
Я мужикам простые строчки
Пишу в утробах блиндажей.
***
Терпеливо в окопах ютится
ПРАВДА – бритвы опасной острей.
И стоит, не сдавая позиций,
Не жалея своих козырей.
Неподкупная, жаркая, злая,
Даже лютая по временам.
Наша ПРАВДА пощады не знает
Ни к врагам, ни, простите, к друзьям.
Беспристрастна она, непреклонна,
Страх животный у КРИВДЫ от ней...
С нами лезет на вражий опорник –
ПРАВДА – бритвы опасной острей!
Мы, певцы-самоучки, до срока
От НЕЁ побелев головой,
Утрамбуем в нехитрые строки
Этой ПРАВДЫ запас вековой.
И шагая по самому краю,
Тем безмерно довольны уже,
Что стихи о войне улетают
Прямо в сборники – из блиндажей...
Лишь бы всё это нам не прохлопать,
Лишь бы ПРАВДУ наружу тащить,
Чтоб хватало поэтов в окопах,
И скрипели бы карандаши.
***
Развезло: дорогу напрочь – потеплением,
А меня – вторыми сутками без сна...
Нам везёт! Мы продолжаем наступление,
Прирастает километрами страна.
Прирастают: мысли – делом, совесть – памятью,
Накатившимися строчками – блокнот:
Про «опорники», что всё ещё не заняты,
И о доме, где черёмуха цветёт...
Недосыпом порождённые двустишия
Хороводят на окраинах души...
Вслух двустишиям опять: «А-ну, потише там!»...
Бесполезно. Можешь, нет ли, а пиши.
И пишу себе то «джазово», то «блюзово»...
Я – пишу, хотя от роду не писал.
Парни шутят про последствия контузии,
Может, так, а, может, Бог поцеловал.
И не я как будто – синими чернилами
Словно водит кто по белому листу.
Нету силы спорить с этакими силами –
Синей строчкой наполняю пустоту...
***
Нарвался – бей! Схлестнулся – уничтожь!
Нет выбора: один увидит утро...
И плоть врага кромсал якутский нож,
И рвали зубы воина-якута.
Ни злости, ни пощады... Ничего.
Победодобывание – сугубо...
А дальше – целый мир на одного:
Не страшно, если целы нож и зубы.
Война – не самаркандская халва.
Победе – слава! Побежденным – горе!
Историкам – предсмертные слова,
Истории – Герой Андрей Григорьев…
***
Мы научились мёрзнуть не дрожа,
Жить под землей и радоваться солнцу.
Золой от печек в наших блиндажах
Остались речи псевдомиротворцев.
Мы сами – МИР: гремучий и седой –
Мужья, отцы, немного реже – деды.
Нас в строй поставил год двадцать второй.
Надолго ли? Сказали до Победы.
А это значит – будем приближать
Без дутых жил и пафосного слова.
У русских ген от рода – побеждать
И миру он потребовался снова…
Мы научились мёрзнуть не дрожа,
Запомнит здешний ветер наши лица.
Мы мир творим не ради куража,
Нам улыбнулось русскими родиться.
***
Над окопом с утра не свисти, Соловей-Разбойник,
И своим кулаком, озверев, по земле не ухай.
Мы уже на подходе, мы скоро, огнепоклонник,
Принесём и тебе на могилу - Святого Духа.
Над поганою марью махнем сгоряча кадилом,
И обрушим божественный крап из свинца и стали.
Мы уже на подходе! Построились… Зарядили…
Чтоб на смену рогатым крестам – золотые встали.
И попятится нечисть обратно за Океаны:
Приготовлены мётлы, стоят под парами ступы,
И кровавое золото сложено в чемоданы,
А за каждой монетой - гора черепов и трупов…
Над окопом с утра не свисти, Соловей-Разбойник,
С горяча по земле кулаком, озверев, не ухай.
Мы уже на подходе, мы скоро, огнепоклонник,
Принесём и тебе на могилу - Святого Духа.
***
Мразоту фашистскую греют в сердцах
Все нелюди мира.
Они аватарки в своих соцсетях
На новых кумиров
Уже поменяли. И вот результат -
Бандеро-солдаты
С укроповских баннеров «гордо» глядят
В желанное НАТО.
Им наши ребята – России форпост -
По яме нароют…
А ты сомневаешься сделать репост
Портрета Героя!?
А ты, чаевые бросая на стол
В каком-нибудь «Plaza»,
О том, чтобы скинуться в общий котёл
Не думал ни разу!?
И дело, конечно, совсем не в рубле,
Есть что подороже –
Мы тем, кто ложится за мир на земле,
Всем миром поможем!
Пусть сердце у каждого бьётся в груди
Во славу солдата…
А после Победы уже погудим,
Как в мае когда-то.
***
Нам пути обратного не будет.
Полумеры – это не про нас.
Точка не поставлена, покуда
«Точки» прилетают на Донбасс.
Гордо позывные наших братьев
На частотах Вечности звучат:
«Моторола», «Воха», «Гиви», «Батя» -
В небо устремившийся отряд.
И гремят они из поднебесья
Залпами стремительного «Су»,
Изгоняя демонов и бесов,
Сохраняя звёзды на весу.
Рукава задаром не засучит
Сталевар, строитель и шахтер,
Будет провокаторам из Бучи
И котел на завтра, и костер!
Те, кто носит свастику на сердце,
Если там оно, конечно, есть,
Выбор не велик у вас, поверьте,
Лечь сегодня или завтра сесть.
Нам пути обратного не будет.
Полумеры – это не про нас.
Точка не поставлена, покуда
Прилетают «Точки» на Донбасс.
***
Досыхаю на шалом ветру наизнанку –
Три почти, и неведомо сколько-то впредь.
Всё сложнее представить себя на гражданке,
В мирном городе свой силуэт разглядеть.
Я – солдатский бушлат полевого покроя,
Спецодежда, которой не носят в миру,
Шевелением «рук» темноту беспокоя,
Полощусь наизнанку на шалом ветру.
И невидим почти, и по запаху – утро,
Лесополки пятно продолжаю собой
И окоп, и блиндаж продолжаю попутно –
Экокожа войны, маскирующий слой.
Мне цивильным двубортным – увы, не случиться,
Личный номер клеймом на подкладке горит…
Ну, а вдруг! Если только в руках мастерицы,
Что по новой с любовью меня раскроит.
Я найду ателье! Помоги, белошвейка,
От вчерашнего ада, прошу, оторви!
Отстирай, просуши, и для мирного века
Ты меня раскрои по лекалам любви!
***
Я ещё полыхну окаянно когда-нибудь впредь,
И отвечу на вызовы времени белым каленьем.
А покуда удел: догонять, успевать и терпеть,
У столетних дубов на коленях спрошая терпения.
Я ещё "запятнаю" - в кавычках - себя простотой,
Без крахмала, подтяжек и запонок жёлтого цвета.
В деревенский расхристанный сруб попрошусь на постой,
И на русской печи обоснуюсь душою раздетой.
И поставит хозяйка на стол горячительный штоф,
Позабыв о приличии, сделаюсь честным и смелым.
Провалюсь на неделю в объятия сказочных снов,
Иногда возвращаясь «оттуда» за сладким похмельем.
И столы своротив без зазрений в присядку пущусь,
Затяну на завалинке дюже тоскливую песню,
Пусть такого запомнит деревня меня наизусть –
Мне и стыдно не будет, а будет немножечко лестно!
Я ещё полыхну окаянно когда-нибудь впредь,
И отвечу на вызовы времени белым каленьем.
А покуда удел: догонять, успевать и терпеть,
У столетних дубов на коленях спрошая терпения.
Михаил Душин https://vk.com/mihaildushin
____________________________________
|
| |
| |
/> |