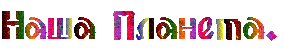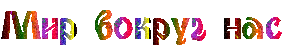Семьдесят первая параллель. Восемь часовых поясов от Москвы и всего
восемьдесят километров до Ледовитого океана. Сердце якутской тундры, по
которой несёт свои могучие холодные воды река с таинственным нерусским
названием – Индигирка. Но живут здесь русские люди. Живут более трёх
веков, вдали от цивилизации, продолжая свою невероятную историю. Кто они
и откуда пришли в суровую якутскую тундру, чем приглянулся им голый
берег реки? Как продержались несколько столетий, умудрившись сохранить
среди инородных племён русский облик, язык и культуру?
Старинные люди
Самая интригующая, почти художественно-эпическая версия (хоть кино
снимай) связана срасправой царя Ивана Грозного над новгородской
вольницей. Так сложилось на Руси: тяжела судьба изгнанника, много
испытаний ждёт его. Но в преодолении их, рождающем гордость и
самоуважение, издревле зачиналась и крепла силой, наполнялась
непостижимой тайной русская душа.
Побоище в Новгороде случилось в 1570 году, якобы вслед за ним,
спасаясь от царского преследования, переселенцы засобирались в дорогу,
взяв у судьбы билет только в одну сторону. По этой легенде, смельчаки
отправились в путь на 14 кочах, со скарбом, с жёнами и детьми. Из кочей
они потом смастерят избы, церковь и кабак – какое-никакое, а всё место
общения в долгую полярную ночь, почти ночной клуб. Красивая версия, но
уж больно обстоятельно собирались. Стали бы дожидаться опричники царя
Ивана, пока флотилия подготовится к плаванию?
Считается, что снарядить такое плавание могли только состоятельные
люди – купцы и бояре, а фамилии переселенцев – Киселёвы, Шаховские,
Чихачёвы – вполне могли иметь боярское происхождение. У известного
российского историка С.М. Соловьёва в «Истории России с древнейших
времён» в шестом томе описывается служба Мухи Чихачёва у Ивана Грозного
воеводой, гонцом и послом. Киселёвы, Шаховские до сих пор живут в
Русском Устье, а Чикачёвы – одна из самых распространённых фамилий.
Потомки это бояр Чихачёвых, поплывших за горем-злосчастьем, или других –
кто теперь скажет? О том периоде жизни переселенцев достоверных
свидетельств до сих пор не обнаружено.
Первое официальное упоминание о поселении русских в низовьях
Индигирки находим в отчётах великой Северной экспедиции Витуса Беринга.
Один из участников плавания, лейтенант Дмитрий Лаптев, в лето 1739 года
описывал берега междуречья Яны и Индигирки. Недалеко от её устья бот
вмёрз во льды, отряд Лаптева сошёл на берег и двинулся на зимовку в
«русское жило», то есть в Русское Устье.
Следующий век оказался куда богаче на посещения. Русские экспедиции
истоптали побережье тундры вдоль и поперёк, оставив описания странных,
непонятно как очутившихся здесь и выживших, несомненно, русских людей.
Как мука растёт?
Первое подробное описание Русского Устья оставил член ЦК партии
эсеров Владимир Михайлович Зензинов. Его появление в низовьях Индигирки в
1912 году не менее удивительно, чем возникновение самого поселения.
Царям давно приглянулась Якутия как место ссылки политических
смутьянов, но чести забраться в такую глухомань до Зензинова не
удостаивался никто. Ограничивались Верхоянском, до которого отсюда рукой
подать – всего-то километров четыреста через междуречье. Там сиживали и
участник польского восстания поэт Викентий Пужицкий, и декабрист С.Г.
Краснокутский, и участник революционного движения 60-х годов ХIХ
столетия И.А. Худяков, и более поздние революционеры – П.И.
Войноральский, И.В. Бабушкин, В.П. Ногин...
Вероятно, Зензинов чем-то особенно досадил царскому режиму. Зато,
оказавшись на поселении в низовьях Индигирки, почувствовал себя не
просто на краю света, но и переселённым на два столетия назад. А мы
благодаря Владимиру Михайловичу можем представить житие-бытие Русского
Устья начала прошлого века.
Тут не было ни одного грамотного человека. Жили совершенно
отрезанными от всего мира, не зная ничего о жизни других людей, кроме
ближайших соседей – якутов и юкагиров. Календарём служила палочка с
зарубками. Правда, точному летоисчислению мешали високосные годы – о них
попросту не догадывались. Расстояния мерили днями пути, на вопрос,
сколько времени прошло, отвечали «чайнику доспеть» или «мясу свариться».
Наблюдая, как Зензинов разбирал свои вещи, аборигены с туземным
любопытством присматривались к незнакомым предметам – эффект волшебной
лампы Аладдина произвела обыкновенная керосиновая лампа – и старались
выяснить: «А как мука растёт?» Позже, наслушавшись рассказов о
невероятно изменившейся жизни, покинутой когда-то их предками, качали
головами, вздыхая: «Мудрёна Русь!»
Между прочим, весьма вероятно, о Русском Устье мог рассказать Пушкину
его приятель по лицею Фёдор Матюшкин, принимавший участие в экспедиции
Врангеля. Он встречался с поэтом после возвращения с Севера. И, уж
конечно, рассказов Зензинова об уникальном поселении наслушался Владимир
Набоков во время их близкого знакомства в эмиграции.
Самым невероятным для Зензинова оказался странный язык, на котором
говорили вокруг. Он был безусловно русским, но плохо понятным
российскому человеку. Трудно было осознать, что здесь говорили на
древнем языке предков, с присущими именно ему грамматическими
особенностями. При этом использовались слова и обороты из лексики
обитателей русского Поморья конца XVI – начала XVII века. Возможно, это и
породило одну из версий о появлении русских на Индигирке ещё в первой
половине XVII века морским путём «прямо из России».
А потом пошло-поехало. Андрей Львович Биркенгоф, входивший в состав
экспедиции Наркомводтранса и проживший в Русском Устье почти весь 1931
год, предположил, что русские «поречане-индигирщики» – это потомки
русских землепроходцев. И продвигались они в XVII веке на Индигирку и
Колыму сушей. А в поисках охотничьих угодий по добыче драгоценных мехов –
«мягкой рухляди» – подавались всё глубже в тундру.
Под драгоценном мехом подразумевается шикарный в этих местах белый
песец. Между прочим, добыча «мягкой рухляди», а вовсе не бегство от
гнева грозного царя Ивана, могла быть целью и «купеческо-боярского»
десанта. Всё же морем до низовьев восточносибирских рек при
благоприятной погоде добраться можно было за одну навигацию, а не
пробиваться через нехоженую тайгу и горные хребты. Разработка «меховой
жилы», возможно, даёт ответ, почему пришельцы основали жизнь в столь
неудобном, неприспособленном месте.
Редкие появления гостей с «большой земли» не влияли на «заповедность»
Русского Устья. Проходили, только вдуматься, столетия, а люди
неподалёку от Ледовитого океана продолжали жить, охотиться, одеваться,
разговаривать, как их далёкие предки. Вся остальная Россия, даже родная
Сибирь, была непостижимо и бесконечно далеко, как для нас звёзды на
небе.
Перелёт в прошлое
В 80-х годах я работал в Якутии собкором республиканской газеты. Жил в
верховьях Индигирки. Как-то в августе друзья пилоты шепнули: спецрейс
пойдёт на Полярный – так тогда назывался посёлок.
И вот, миновав хребет Черского, мы летим над петляющей в горах,
словно змейка, скрывающейся от преследования Индигиркой. Километров
через пятьсот, ближе к Полярному кругу, горы выполаживаются, реке больше
не юркнуть в какое-нибудь ущелье, течение её успокаивается, и мы
любуемся разноцветьем осенней тундры, ловя через иллюминатор лучи ещё
тёплого солнца, отражённые посветлевшей зеленоватой водой.
Не успел «Ми-8» приземлиться, как к нему побежала ребятня, потянулись
взрослые. А когда-то было всё наоборот. В тридцатые в небе над посёлком
с разведывательными целями впервые появился самолёт. Покружил над
домами... Лётчики, вероятно, удивлённо посмеивались, наблюдая, как люди,
побросав дома, убежали в тундру. Но вскоре они стали пользоваться
авиацией так же естественно, как и мы. Их вхождение в цивилизацию
походило на снежную лавину. Она буквально обрушилась на голову людям,
чья жизнь мало отличалась от жизни далёких предков. Здесь никто не знал о
заводах и фабриках, железных и шоссейных дорогах, поездах и машинах,
многоэтажных домах, о колосящейся ниве, никогда не слышал жаворонка и
соловья. Русскоустьинцы впервые увидели и услышали неизвестную,
«тамошнюю» жизнь в кино.
Уже в годы войны произошло переселение с разбросанных по тундре
заимок на три-четыре дыма (считали не по домам, а по дымам) в новый
посёлок. Надо было учить детей, снабжать людей товарами, оказывать
медицинскую помощь. Строились, как встарь, из плавника. Зарождаясь за
1700 километров в горах, проносясь сквозь таёжные дебри, Индигирка уже
тысячи лет своей безумной силой срывает с берегов деревья и несёт их к
океану. Люди вытаскивали тяжёлые стволы из воды, ставили конусами,
напоминавшими формой якутскую урасу, – сохнуть. Так делали и триста лет
назад. Из высохших лесин строили дома. Крыши оставляли без скатов,
плоскими, утепляя дёрном, из-за чего дома казались недостроенными,
похожими на короба. Три века в похожих «коробках» с августа по июнь шла
изнурительная борьба с холодом. Зимой печи (камельки) топились сутками,
как ненасытные хищники, пожирали кубометры дров, добытых у реки, а когда
топлива не хватало, люди спасались под звериными шкурами.
Но к середине восьмидесятых всё изменилось. Я видел добротные дома,
квартиры, «как везде», котельную, отличную школу, вещали радио и
телевидение, в магазинах висела импортная одежда. Быт изменился, но не
изменилась работа. Главным оставался охотничий промысел белого песца.
Здесь говорят: песца «упромысливают». Вот только охотников, по-местному
«промышленников», становилось всё меньше. Охота «старилась», молодёжь
жила другими интересами. К середине восьмидесятых из примерно пятисот
жителей Русского Устья кадровых охотников оставалось два-три десятка.
Такое отношение к промыслу (ещё добывали мамонтовую кость, в изобилии
встречающуюся в этих краях) легко объяснить, представив себе труд
охотника.
Охота на песца здесь сохранила удивительный консерватизм. О ружье нет
и речи. Как и триста лет назад, основной снастью остаётся ловушка, или
просто пасть. Это такой трёхстенный короб, длиной около метра, над
которым сверху располагается бревно – гнеток, длиной метра четыре.
Срабатывает пасть по принципу мышеловки. Песец забирается в
насторожённый короб за наживой, обычно «кислой», остро пахнущей рыбой,
задевает сторожевой конский волос, положенный сверху приманки, связанный
со «спусковым механизмом», гнеток падает и своей тяжестью убивает
песца.
Обычно охотник имел 150–250 пастей. Расстояние между ними примерно
километр. Летом место у ловушки прикармливают, приваживают зверька.
Зимой охотник на собачьей упряжке отправляется в тундру. Здесь её
называют непривычным для нашего уха словом «сендуха». Но сендуха для
русскоустьинца не просто тундра, это название как бы вмещает в себя весь
окружающий природный мир. Чтобы только проверить, насторожить пасти,
надо сделать по безлюдной тундре круг в 200, а то и в 300 километров. И
так без конца, до весны. Все охотугодья распределены и закреплены за
определённым охотником, передаются по наследству вместе с орудиями
охоты, зимовьями, где охотник ночует или отдыхает в тундре. Некоторые
пасти стоят с незапамятных времён. Ими пользовались ещё деды и прадеды
нынешних промысловиков. Мода на капканы особо не прижилась. Их
используют, но мало. Говорят, что зверёк в них долго бьётся, шкурка
портится от голода, ведь проверить капкан охотник сможет через неделю, а
то и больше.
По весне с песца переключались на нерпу. Для охоты использовалась
«нерпичья собака» – индигирская лайка с особыми промысловыми качествами.
Такая собака должна найти нерпичьи лежбища и лунки во льду, у которых
дышит нерпа. Лунка обычно скрыта толстым слоем снега. Отыскав её, собака
подаёт сигнал хозяину.
К собакам (здесь обязательно скажут «собачкам» и ещё добавят:
«Собачки – наша жизнь») у русскоустьинцев отношение исключительно
серьёзное. И строгое. Никакого сюсюканья или заигрывания. Вы не увидите
собаку в доме. Они – своеобразная часть общины, и, как у всех вокруг, их
жизнь жёстко регламентирована. А как же иначе, если три века от собак
зависело существование поселенцев! Рассказывают, что до войны восточнее
Тикси не могла проникнуть ни одна собака, даже весьма породистая, но
нездешняя, не лайка: её пристреливали без всякого снисхождения. Северяне
блюли чистоту породы своих ездовых собак. Это потом появились
снегоходы, вездеходы, авиация, и собака стала терять свой статус. А
раньше хорошая упряжка ценилась очень дорого.
Индигирская лайка с успехом продавалась на соседних реках Яне и
Колыме. Отправляясь на торги, упряжку увеличивали вдвое. Примерно
одинаковое расстояние в семьсот вёрст, что до одной реки, что до другой,
при благоприятной погоде собаки преодолевали за трое суток. В отличие
от конского и оленьего транспорта, у собачьего есть ценнейшая
особенность – собаки обычно идут, пока есть силы, а при хорошей кормёжке
способны трудиться день за днём долгое время. Поэтому «собачий вопрос» у
русскоустьинцев пользовался повышенным интересом. Вечерами за чашкой
чая под тихое потрескивание камелька заводились бесконечные разговоры о
собаках – вечная, любимая, бесконечная, никогда не надоедающая тема: чем
кормил, когда болела, как лечил, как щенилась, кому отдал щенков.
Бывало, тут же совершались сделки, обмены. Встречались энтузиасты,
знавшие «в лицо» едва ли не каждого пса на нижней Индигирке.
А вот оленеводство не прижилось, попытка завести оленье стадо
закончилась конфузом. Мужики по ошибке перестреляли собственных оленей,
приняв их за диких, на которых привыкли охотиться с незапамятных времён.
Ожившая старина
Охота да рыбалка кормили людей и собак. Одному хозяйству из четырёх
человек, имеющему упряжку в десять собачек, на зиму требовалось до 10
000 ряпушек и 1200 крупных рыб – чир, муксун, нельма (примерно 3,5–4
тонны). Из рыбы готовили аж до тридцати блюд: от простой жарины –
поджаренной рыбы на сковородке – до колбасы, когда рыбий пузырь начиняют
кровью, жиром, кусочками желудка, печенью, икрой, затем варят и
нарезают кружочками.
Особым спросом пользовалась рыба с душком (кислая). Хозяйку просили:
«Сквась-ка омулька, жарину доспей». Та брала свежего омуля, заворачивала
его в зелёную травку и прятала в тёплое место. На следующий день рыба
была с душком, и из неё готовили жаркое.
Главным блюдом была щерба (уха). Ели её обычно на ужин – сначала
рыбу, а после «хлебали щербу». Затем пили чай. Остаток варёной рыбы
доедали утром как холодное блюдо. В щербу шли только отборные сорта –
муксун, чир и нельма. Уха для индигирцев была универсальным продуктом:
ею отпаивали роженицу, чтобы появилось молоко, отощавшему человеку сразу
давали «щербушку», ею смазывали обожжённое место, она применялась от
простуды, щербой увлажняли пересохшую обувь, а некоторые кузнецы в ней
даже ножи закаливали.
Но самым изысканным деликатесом считалась юкола – вяленая и копчёная.
На юколу идёт свежайшая, только что пойманная рыба. Её очищают от
чешуи. Вдоль спины делаются два глубоких надреза, после чего удаляется
скелет вместе с головой, и остаются два одинаковых пласта без костей,
соединённых хвостовым плавником. Затем мякоть часто, под наклоном
надрезается острым ножом до кожи. Готовили юколу исключительно хозяйки, и
у каждой имелся свой неповторимый «почерк». После порезки юколу
коптили. Непрокопчённая юкола называлась ветросушкой, а копчёная –
дымлянкой. Счёт заготовкам вели беремами. Беремо – это связка из 50 юкол
большой рыбы или 100 из ряпушки. Ели её на завтрак, на обед и в полдник
небольшими кусочками с солью, макая в рыбий жир. Юколу возили в конце
позапрошлого века даже на ярмарку в Анюйск.
В зимнем рационе рыба пользовалась преимуществом, а в летнем
появлялось мясо. Тушёная оленина называлась селянкой, а жаренное в
собственном жиру мясо гусей, уток и гагар – мясной кавардак.
Веками здесь жили по солнцу, по луне, по звёздам, выработав особый
промыслово-хозяйственный календарь, увязанный с церковными датами.
Выглядел он примерно так:
Егорьев день (23.04) – прилёт гусей.
Весенний Никола (9.05) – солнце не заходит за горизонт.
Федосьин
день (29.05) – добыча «свежины», то есть начало лова рыбы на открытой
воде. Существовала поговорка: «Егорий с травой, Микола с водой, Федосья с
едой».
Прокопьев день (8.07) – начало гусевания и массовый ход чира.
Ильин день (20.07) – солнце первый раз заходит за горизонт.
Успенье (15.08) – начало массового хода ряпушки («сельдятки»).
Михайлов день (8.09) – начало полярной ночи.
Покров (01.10) – начало езды на собаках.
Дмитриев день (26.10) – насторожка пастей.
Крещенье (06.01) – выход солнца, конец полярной ночи.
Евдокии день (1.03) – запрещается пользоваться освещением.
Алексеев день (17.03) – выезд на лов нерпы.
Этот удивительный календарь (сроки даны по старому стилю) записан
уроженцем Русского Устья Алексеем Гавриловичем Чикачёвым, потомком
первых переселенцев. Он отражает и строго, как устав гарнизонной службы,
регламентирует образ жизни общины. В нём легко различимо свойственное
предкам двоеверие: соблюдая церковные обряды и даты, сохраняя их из
поколения в поколение, они одновременно были и язычниками, поскольку
жили в полной зависимости от природы, от своей сендухи, от Индигирки, от
полярных дня и ночи.
Здесь до сих пор можно услышать хотя и сглаженный временем, но
русский говор далёкого прошлого. В языке, непонятных словах, непривычных
манерах людей будто оживает далёкое время, перенося из сегодняшнего дня
в, казалось бы, невозвратную старину. И побежит холодок по коже, когда
услышишь:
Врёшь ты, врёшь, мальчишечка,
Меня омманывашь.
Казань-городочек на костях стоит,
Казанска реченька кровью протекла,
Мелки ручеёчечки горючими слезьми,
А по бережку — не камешки, буйны головушки,
Все солдацкие да молодецкие...
От таких строк становится не по себе. В песне-то поётся о покорении
Иваном Грозным города Казани. И слова в ней звучат те же, что и почти
четыре века назад. Но не только, не только поэтому! Ещё и от понимания,
что эти слова не могли попасть в якутскую тундру иначе, как из памяти
человека, добравшегося сюда три с лишним века назад. И ведь сохранились!
Как сохранилась старорусская лексика: алырить – бездельничать, валять
дурака; апризорить – сглазить; ачилинка – любовница, зазноба; басник –
сплетник; вара – заварка чая; вискак – маленькая речка; вракун – лжец,
обманщик; выжуравливаться – высовываться, стараться быть выше других;
гад – мусор, нечистоты; гылыга – замухрышка, босяк; домекнуться –
догадаться; дымоволок – дымоход; дюкак – сосед; удёмный – съедобный;
забуль – правда, истина; задориться – сердиться; кила – геморрой;
коловратный – необщительный, гордый; летось – прошлым летом; мекешиться –
быть в нерешительности; на кукорках – на корточках; обзарчиться – войти
в раж; очокошить – оглушить; пертужий – выносливый...
Длинный-предлинный чудесный словарь старорусских слов, употребляемых
ещё автором «Слова о полку Игореве», сохранённых русскоустьинцами до
наших дней, а с языком сохранившими и частицу исторического прошлого
народа.
Всё, что случилось в 1990-е годы, для жителей Крайнего Севера, и
Русского Устья в том числе, можно охарактеризовать одним словом –
катастрофа. В одночасье рухнула привычная, веками отлаженная схема
жизни. Впрочем, это тема совсем другого разговора...
...Почти в то же время, что и я, в низовьях Индигирки побывал
замечательный русский писатель Валентин Распутин. Позже, размышляя о
судьбе России, он напишет: «...Быть ли ей в будущем и сколько быть, где
сыскать силы и духа для преодоления кризисного состояния – не подскажут
ли пример и опыт маленькой колонии на Крайнем Севере, которая по всем
приметам не должна была выжить, но выжила».
Игорь Ковлер