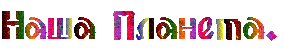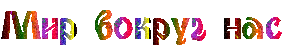Все, что меня сегодня окружает, – все другое. Москва уже не моя. Дворы
не мои. Лица чужие. Правда, на Арбат, в районе Щукинского училища, еще
иногда выползают знакомые старухи москвички. Ищут, где купить хлеба. А
негде. Вокруг – бутики. Нет того города, где прошла моя жизнь…
Я
со всеми на «ты». В этом моя жизненная позиция. На «ты» – значит,
приветствую естественность, искренность общения. Это не панибратство, а
товарищество… Я умею слушать друзей. У друзей, особенно знаменитых, –
постоянные монологи о себе… Когда я читаю современную мемуаристику,
особенно про то, где я был и в чем участвовал… Если все, что я знаю,
взять и написать… Иногда думаешь: ой, пора душой заняться. Пора, пора. А
потом забываешь – обошлось, можно повременить…
К старости вообще половые и национальные признаки как-то рассасываются.
Я
глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским
паспортом и полунемецкими корнями. Матерюсь профессионально и
обаятельно, пью профессионально и этнически точно, с женщинами
умозрительно сексуален, с коллегами вяло соревновательно тщеславен. Но
умиротворения нет… Пи…ц! Времени, отпущенного на жизнь, оказалось мало…
Как-то
меня спросили: если бы у меня была возможность после смерти вернуться в
виде какого-то человека или вещи, что это было бы? Я ответил: флюгер…
О еде
Вкусно
поесть для меня – это пюре, шпроты, гречневая каша со сметаной (с
молоком едят холодную гречневую кашу, а горячую – со сметаной). Я обожаю
сыр. Каменный, крепкий-крепкий, «Советский», похожий на «Пармезан». Еще
люблю плавленые сырки «Дружба»… Я воспитан в спартанских условиях
выпивки и посиделок на кухнях. В гараже, на капоте машины,
раскладывалась газета, быстро нарезались ливерная колбаса, батон,
огурец. Хрясь! И уже сразу хорошо. Когда сегодня я попадаю в
фешенебельные рестораны… приносят толстые, в переплете из тисненой кожи
меню… у меня сразу начинается изжога. Раньше и в ресторанах было проще:
быстро мажешь хлеб горчицей, сверху – сальцо, солью посыпанное, махнешь
под стакан – и уже «загрунтовался». Ну а потом заказываешь, что они
могут добыть у себя в закромах.
Я абсолютный говноед. Единственное,
чего не могу есть, – это чеснок. Не выношу холодец, студень и все, что
дрожит. Если где-то пахнет чесноком, начинаю задыхаться. У меня
партнерши были замечательные – Людмила Гурченко, Алена Яковлева, Ольга
Яковлева… Они все лечились чесноком. Но зная, что я не переношу его
запах, чем-то сверху пшикали. И получается еще страшнее, когда целуешься
с ними…
Чем ближе к финалу, тем меньше можно пить молока. «Не-не-
не, – говорят доктора, – ты свое отпил». Вообще сколько я всего уже
отпил: водку отпил, коньяк отпил, кофе тоже. Не отпил только какой-то
зеленый чай…
Про «выпить-закусить
У меня вкусы остались прежние:
больше всего люблю «Анисовую»… Когда-то я был на юбилее Георгия
Шенгелая. А в Грузии тогда еще принимали по-настоящему, и за столом
сидело человек 300… И у каждого стояло то вино, которое этот человек
любит. И только возле моего прибора стояла «пол-литра». Я пью давно и
много. Удар держал всегда… Теперь же включается что-то вроде
ограничителя на спидометре: зашкаливает, пора тормознуть. Но с гордостью
могу сказать: хотя пару раз меня под белы ручки… нет, не будем
вдаваться в подробности, но полной отключки у меня никогда не было.
О театре
Педагогика
– это вампиризм чистой воды. По себе сужу. Приходишь после всех
профессиональных мук к этим молодым щенкам, видишь их длинные ноги и
выпученные глаза и поневоле начинаешь от них питаться глупостью и
наивностью. К ним прикипаешь. После четырех лет обучения начинается
продажа. Как на птичьем рынке: сидит в ящике большая старая сука, вокруг
12 щенков, их брезгливо щупают: брать – не брать? Так и здесь после
четырех лет «инкубатора» приходят брезгливые худруки, смотрят зубы,
ноги… И ты еще уговариваешь: «Возьмите моего ребенка».
Я случайно
попал в кресло руководителя – меня уговорили. Плучек тогда уже болел,
несколько лет не появлялся в театре… Мы были ближайшими соседями
Захаровых по даче в Красновидово и после ужина садились играть в покер… А
играли на деньги и на следующий день их пропивали… Там, на даче, при
лучине, Марк Анатольевич стал меня уговаривать возглавить театр. Мои
близкие были против, говорили, что я больной, сумасшедший, маразматик и
параноик. Жена даже не выдержала: «А если я поставлю условие: я или
театр?» Я ответил: «Вообще-то вы мне обе надоели»…
Когда я начинал
работать в Театре имени Ленинского комсомола, туда пришел новый
замдиректора, бывший подполковник. И как раз через день мы поехали в
Казань на гастроли. А он поехал вперед, как это бывало всегда, чтобы
«заделать гастроли». Обычно прибывает поезд – на перроне пионеры, цветы,
духовой оркестр… Потом артистов расселяют по квартирам или в гостиницы.
Приезжаем – никого! Какая-то несчастная местная администраторша с
одним цветком. «Что это?» – спрашиваем. Он говорит: «Так, цветоув нет,
номероув нет, зрителев нет». Это он «заделал гастроли». Осталось на
века.
О гастролях
Летели мы в Днепропетровск… Вылет – где-то в
11 утра, а вечером спектакль. Снег шел хлопьями… Нет вылета и нет. Везли
мы туда антрепризный спектакль… со мной играли мощные партнерши: Таня
Догилева, Люся Гурченко, Оля Волкова. Кто-то из них не мог, ввелась
Любочка Полищук… И вот мы сидим в аэропорту. И все говорят: «Кажется,
поездка накрывается, пошли». Так как я был там самый главный, я говорил
«нет» – и все садились. Проходил еще час-другой, авиаторы сообщали:
«Нет, сегодня исключено». Все оживлялись: «Ну…» Я говорил: «Нет! Если
сейчас выпустят, мы успеваем». В буфете были только чипсы и коньяк. В
шесть часов вечера стало ясно, что уже точно никуда не успеваем. Ко мне
подходит Любка и говорит: «Разреши». Я говорю: «Рано». – «Ну где, … ,
рано?! Целый день сидим».
В семь часов я дал отмашку к алкоголизму. А
ближе к девяти часам вечера, после чипсов и коньяка, объявляют посадку.
Мы прилетаем в Днепропетровск в одиннадцатом часу в полном разборе.
Смотрим в иллюминаторы: весь аэродром в машинах – «скорые помощи»,
мигалки, милиции навалом. Нас выуживают из самолета, мы плюхаемся в
машины и за двадцать минут доезжаем до театра. Полный зал. Зрители
отказались уходить. И выходит совершенно разобранная, как бы это сказать
поинтеллигентнее… братия. «Что?! Играть?!» Мятые, страшные. Начали
играть. Зрители понимают, в каком мы состоянии… Мы понимаем, что они
понимают, и все время извиняемся: «Ну, мы так долго летели…» А так как
Любочка выходила на сцену через два часа после начала спектакля, она
созрела окончательно. Играли мы в оперном театре. А там между занавесом и
оркестровой ямой – почти ничего нет. Выходит Михал Михалыч, выводит
Любочку, а она не ожидала, что там так мало для нее места. Михал Михалыч
представляет ее: «А вот…» Она делает шаг: «Ё…..!» Ее встречает овация.
Державин не может ее удержать и начинает падать в оркестровую яму. И тут
Любочка совершенно грациозно хватает Михал Михалыча за шкирку и
вытаскивает его из оркестровой ямы на рабочее место. Любочка была очень
сильный человек, замечательная актриса, чудная, дико манкая баба и
удивительный товарищ.
Про халтуру и Миронова
Мы с Мироновым или
Державиным проводили так называемые творческие вечера. Переводя на
русский… халтуры. Роли распределялись так: Миронов – большой артист и
художник, а я – рвач и администратор. Звонок. «Вам звонят из
фармацевтического управления Москвы». Замечательная контора, где, как
муравьи, ползают сонмища женщин. И мы в этой конторе были, условно
говоря, в прошлом году на 8 Марта. И вот опять звонят: «Мы мечтаем на 8
Марта снова видеть вас…» Андрюша машет на меня руками: «Нет, ни в коем
случае, отказывайся». «Но ведь мы у вас были», – говорю я в трубку. «Не
важно… только на вас хотят посмотреть». «Ну что значит – посмотреть? –
говорю. – Мы же артисты. Мы должны что-то показать…». «Ну что-нибудь…»
Андрей машет руками: «Даже не думай! Положи, положи трубку! Не
разговаривай с ними!» – «Тогда говори сам». Я передаю ему трубку. Андрей
начинает: «Ну, дорогие, но мы артисты академического театра… Ну, не
можем мы просто выходить и улыбаться…» На том конце провода огорчаются:
«Ну как же? А мы так надеялись. У нас есть 500 рублей». Андрей: «Так,
адрес!»
После концертов возникали и неприятности. К примеру, однажды
зимой мы с Андрюшей Мироновым должны были лететь в Новосибирск на суд
над администратором концертных площадок, куда нас вызывали в качестве
свидетелей… Андрей заехал за мной на такси, поднялся, а я все никак не
мог решить, какую взять с собой трубку. Мы уже опаздывали на самолет,
Андрюша стал торопить… Трубка была наконец найдена, мы спустились к
такси. И, когда я в него влез, у меня сзади по шву лопнули брюки. Надо
возвращаться домой. Я поднялся, но из-за суеверия (и без того поездка не
из приятных), порог квартиры не переступил. Жена вынесла на лестничную
площадку газетку, расстелила на полу, я встал, стянул штаны, натянул
другие, но они мне чем-то не понравились, и я решил надеть третьи.
Снимаю те, и в этот момент хлопает входная дверь, в подъезд входит
Андрюша, видит меня на лестничной площадке без штанов и ласково
спрашивает:
– Шура, у тебя какие планы?
Про порнуху и матерщиные письма («КП» предупреждает! 18+)
Я
очень люблю рынок около дачи. Покупаю там все у знакомых продавцов. Они
уже знают, какой творог мне нравится, какая редиска мне нужна. Как-то
подошел к ларьку с DVD-дисками, спрашиваю: «Ну что, порнуха есть?»
«Есть, конечно», – говорит продавец. Я удивился и решил уточнить:
«Какая?» Он полез доставать диск: «Да «Бабник».
Первый фильм, в
котором я снялся, – «Она вас любит» (1956 год). В кинематограф меня
вывел мой друг Михаил Козаков. Я учился на четвертом курсе, а Козаков
был уже знаменитым, потому что снялся в «Убийстве на улице Данте» у
Ромма. Его тут же пригласили в картину «Она вас любит» сыграть молодого
кретина. И он уже начал сниматься, но его позвал Охлопков на роль
Гамлета, и он, конечно, все бросил. А киногруппе сказал: «Я вам привезу
такого же». Приволок меня и всем рассказывал, какой я гениальный. Первый
и последний раз он так обо мне отзывался. В киногруппе все были в
трауре: Козаков привел вместо себя какую-то испуганную шпану. Но выхода
не было, и я стал сниматься.
Через 43 года после съемок «Она вас любит» я получил от своего друга Козакова интеллигентнейшее письмо.
Ну
что, Шуренок? Ё…ло шестьдесят пять? А куда мы на х… денемся? Иду, как
всегда, вдогонку: в октябре можешь мне ответить виртуозным трехэтажным,
которым ты всегда владел лучше меня, твоего ученика. И хотя ты, б…, всю
нашу сорокапятилетнюю совместную и параллельную жизнь держал меня на
задворках, предпочитая мне других, несомненно более блестящих и
достойных твоей дружбы, я, сукин ты сын, тебя очень люблю! Ты, сука,
почти родственник…
Помню сакраментальную бутылку водки, разбитую
нами в Парке культуры и отдыха имени Горького. А старый Новый год в
ресторане гостиницы «Советская», куда мы с тобой, водила х…в, добирались
на станицынской «Победе», заправляя радиатор мочой… Ну и, конечно,
свадьба, Таточка, ее родня, ты… и я при сем. Дальше начиналась совсем
взрослая и, как выяснилось, длинная жизнь. Полагаю, ее можно назвать
счастливой, что у тебя, что у меня. Мы отцы, деды, даст Бог, станем
прадедами. Мы много видели, много пережили, увы, уже многих похоронили…
Что
мне пожелать тебе, хрен ты моржовый, в середине пути от одной круглой
даты до другой? Что тебе, б… ты эдакая, не хватает? Все у нас с тобой,
мудаков, есть: прошлое, настоящее, надежда на будущее…
Разве что здоровья. Тебе, Таточке, родным, близким. Все остальное при нас и в наших руках…
О Люсе Гурченко
При
всем моем вялом характере и при ее упертости и максимализме мы
умудрились с ней за 52 года общения ни разу не поссориться… Когда мы
снимались в Питере в фильме «Аплодисменты, аплодисменты», ей не
понравилось, что у меня не голливудские зубы, и она заставила меня
поехать на «Мосфильм», где мне дней пять делали бутафорскую челюсть. В
итоге мне воткнули эту страшную белозубую пасть, я, несчастный, приехал в
Питер. «Люс-ся, я с- сказать ничего не могу». Она: «Но как красиво!» –
«Что крас-сиво? Что крас-сиво?» Вот это ее силища.
Про наш абсурд
Когда
погружаешься в наши СМИ, создается впечатление, что население страны
состоит из лиц Первого канала, лиц второго и лиц кавказской
национальности… Недавно милый ведущий в телевизоре говорит: «Совершен
очередной теракт. К счастью, погибли всего три человека». К счастью!
Сейчас
все обо всех в курсе дела. Ума не приложу, как актрисы осмеливаются
играть что-то серьезное. Она выходит на сцену, и ползала знает о ней
досконально все: в каких колготках, в каких прокладках, с кем спала
вчера и кому дала отставку на прошлой неделе. А некоторые даже на себя
наговаривают. Куда лучше было раньше, когда актера окружал флер
таинственности…
Про технику
Компьютеры даже не знаю, с какой
стороны втыкают и куда… Когда за компьютером играли мои маленькие внуки,
я глубокомысленно им кивал, даже не соображая, о чем речь. До сих пор
компьютерная мышка для меня – нечто живое и страшное, как крыса, а слово
«сайт» ассоциируется с чем-то мочеиспускательным. Поэтому, когда надо
на сайт зайти, меня сажают перед экраном, как куклу, и показывают.
Иногда натыкаешься на что-то неожиданное. На форуме одного из
интернет-сайтов общаются мои поклонницы Nika, Esta, Рондо, Дама,
приятная во всех отношениях…
О рыбалке
На Валдае рыба стала
клевать хуже. Поэтому, если вынешь леща на килограмм, целуешь его,
фотографируешь. А рядом Рязанов – с лицензией на две сети. Когда он
вытаскивает судаков и щук, хочется его убить.
Самая оптимальная
насадка – отечественный навозный червяк. Он должен быть средней руки,
темно-коричневый и свежий. Все эти полиэтиленовые красоты, которые
привозят из Америки и Канады – искусственные черви, но точь-в-точь как
живые, – наши рыбы не берут. Не верят. С червями, правда, сейчас
катастрофа: очень дорожают. Ни в коем случае нельзя делать дырочки в
коро- бочке, лучше накрывать ее марлей, иначе черви, превратившись в
нитку, обязательно вылезут. Моя несчастная супруга видеть не может всех
этих выползков. А хранить их приходится в холодильнике. Если жена
открывает холодильник, а там со всех огурцов свисают черви, можно домой
не возвращаться… Моя мечта – это тихая заводь, хороший клев на карася.
На той стороне заводи купаются голые супермодели, а слева от меня стоит
телевизор и там показывают женский биатлон. Вот примерно такой расклад,
пожалуй, меня весьма взбодрил бы.
О возрасте
У меня очень
тяжелая зарядка утром. Лежа я сначала сучу ножками для поясницы. 30 раз.
Потом с трудом, кряхтя, сажусь на кровати и делаю вращательное движение
на скрипучей шее пять раз туда, пять раз назад. И потом плечиками 10
раз. Меня кто-то когда-то научил, и я привык. И чувствую, что сделал
зарядку.
Придумал название книги. Так как большинству московских
худруков театров от 70 до 90 лет, то новая книга должна называться
«Климакс-контроль»…
Смерти я не боюсь… Боюсь выглядеть старым. Боюсь
умирания постепенного, когда придется хвататься за что-то и за кого-то…
Я красивый старик, боящийся стать беспомощным. В общем, диагноз –
«старость средней тяжести».
О любви
В моей профессии любовь
постоянно приходится играть. Про любовь я наигрался, поэтому в жизни,
когда говорят «любовь», у меня сразу возникает ощущение либо вранья и
соплей, либо сурового быта: дети, внуки, тещи, невестки, обязательства… И
всплывают воспоминания: когда начиналась вся эта любовь, не было ни
квартир, ни машин. Велосипеды были. А как любить на велосипеде?
Женскую
грудь я впервые увидел в родильном доме. Мама рассказывала, что, когда
она стала меня кормить, я смотрел на грудь как настоящий бабник…
Получается, что в жизни я однолюб. То есть мужчина, испортивший жизнь
только одной женщине…
Александр Ширвинд
Оцените материал:
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
|