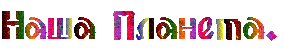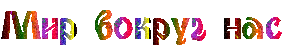Средневековая Прага – лакомый кусок для живописца, и начинающий художник Прокофьев каждый день устраивался со своим походным мольбертом то около Карлова моста, то около Тынова собора, то на Граде. Град он обожал, и каменная лестница, ведущая к трамвайной остановке, была им написана и под солнцем, и в туманные сыроватые дни, придающие Праге и лёгкость, и значительность.
В последнее время Прокофьев облюбовал знаменитую Золотую улочку. Эта улочка построена на краю глубокого оврага, из которого поднимался многосотлетний каштановый сад. Домов в этой улочке около десятка. Все они крошечные, низенькие: такого размера игрушки снятся детям после ёлочных вечеров. На самом деле это подлинные жилища средневековых пражских алхимиков, которые, как в монашеских кельях, обитали в них затворниками и трудились над отысканием философского камня. Отсюда их никуда не выпускали до самой смерти, из опасения, что, открыв секрет, алхимик использует его в своих собственных целях. Прелесть загадочности общения с дьяволом, заклинаний, таинственно-пылающих очагов и старинных реторт навсегда легла в этом странном, уединённом и необыкновенном месте. Здесь же рядом есть небольшая и малопосещаемая ресторация, в которой Прокофьева кормили чешскими кнедликами и по очереди – то свининой, то телятиной и поили крепким и сливочно-пенистым пивом в четырнадцать градусов.
Почти всегда, в одно время с ним завтракал человек, не старый, высокий, очень худой, с нервными, всегда внутренно-горящими глазами. Перед завтраком он гулял в этих местах, имел вид католического учёного и, проходя мимо прокофьевского мольберта, деликатно и внимательно поглядывал на расцветающий холст. Уходя из ресторана, он всегда приветствовал художника по-чешски, с каким-то странным акцентом:
– Поклона уцтиве.
Мало по малу они разговорились, и, узнав, что Прокофьев – русский, незнакомец начал проявлять к нему особую внимательность и благорасположенность.
Однажды художник пронаблюдал странный момент. Незнакомец читал пражскую немецкую газету и вдруг побледнел, руки его затряслись, и лицо выразило признаки гнетущей растерянности.
– Вам нездоровится? – спросил Прокофьев.
Вместо ответа незнакомец протянул ему газету с широкими колоннами и готическим шрифтом. В отмеченном месте Прокофьев прочитал телеграмму из Йены о том, что доктору Келлерману, после долгих опытов, удалось искусственным путём сделать полграмма жидкого золота.
– Вы понимаете? – сказал незнакомец. – Самое важное случилось. Проклятому удалось найти принцип.
Расплатившись, они вместе вышли из ресторана и спустились по каменной лестнице, которую так усердно писал Прокофьев. Незнакомец по-дружески взял его под руку и сказал:
– Вы, русские, натворили много глупостей в вашей стране. Вы наивны и детски-талантливы. И, тем не менее, в вас есть то, что располагает и внушает доверие. Нет такого замкнутого человека, как я, и тем не менее, вам я готов рассказать историю, которую никто, кроме Бога, не знает. Может быть, она вас заинтересует, и вы согласитесь мне помочь. Речь идёт о деле, которое может дать моему имени бессмертие.
– И лучи вашей славы упадут на меня? – спросил Прокофьев.
– Не шутите! – строго сказал незнакомец.
Трамвай довёз их до последней остановки. Пройдя две тёмные и кривые улицы, незнакомец привёл Прокофьева в старый, толстостенный дом, и когда зажёг газовую, слегка шипящую лампу, художник увидел странную пятиугольную комнату. Хозяин усадил гостя в кресло с потёртой гобеленовой спинкой и сказал:
– Не угощаю вас ничем. Хочу, чтобы голова ваша работала точно и отчётливо, чтобы вы могли воспринять логику историй, весьма сложных, и не подумали, что я сумасшедший. Если вы любите кинематограф, то это вам много поможет, ибо кинематограф научил нас не удивляться новой таблице умножения, в которой дважды два – четыре с половиной.
Вслед за этим незнакомец показал художнику карточку молодого и строгого монаха, подпоясанного верёвочным поясом.
– Это ваш брат? – спросил Прокофьев.
– Это я, – ответил незнакомец. – Я был монахом и ушёл из монастыря. Причина? Любовь. Я полюбил девушку, которая однажды приехала к нам поблагодарить Богородицу за выздоровление от тяжкой болезни. А вы знаете, что такое любовь?
– Любовь – это то, что сильнее смерти, – ответил Прокофьев и увидел, что незнакомец улыбнулся.
– Неточно и фантастично, а лучше апостола Павла не скажешь, как ни старается ваш Мопассан, – медленно проговорил он, – любовь есть то, что не мыслит зла, понимаете? Не мыслит! И всё прощает. Вот это любовь. И слушайте. Монастырь наш был тихий и культурный. Кроме богомольных, было в нём и пять-шесть талантливых людей. Среди них – один вашей профессии: он имел силу, по благости равную Беато, и вы бы ему позавидовали. Я работал по химии, и в моём распоряжении была старинная лаборатория, наполовину университетская, наполовину музейная.
Незнакомец помолчал, посмотрел на свои ладони и опять начал:
– Любовь сделала то, что я забыл Бога, уходил в монастырский лес и там часами лежал на сырой осенней траве. Я, весёлый и добрый инок, по имени Иероним, погиб. Когда она, моя страсть, моя Элеонора, вышла замуж, я начал богохульствовать. Я мог заснуть, только выпив литр обжигающего ликёра, и в таком смятении прожил несколько месяцев. Не знаю, чем бы всё это кончилось, но однажды ночью я увидел, как открылась дверь, запертая на два поворота ключа, и в мою лабораторию вошёл монах с лицом, которое закрывал капюшон. Я испугался, тело моё затрепетало, и рука начала свои крестные знамения, а уста зашептали девяностый псалом.
Монах подошёл к ретортам, и в его движениях я почувствовал человека, привыкшего обращаться с этими предметами. Он взял мел, приблизился к стене, начертил на ней небольшой квадрат и сказал:
– Пятьсот ваших лет тому назад, когда я жил в этой келье, и вот здесь, – он указал на квадрат, – секрет всякой любви. Овладей им, и тысячи Элеонор будут твоими.
Монах заставил меня проводить его, и мы шли по каким-то тёмным лестницам, по аллеям сада, по какой-то чаще: кустарники царапали меня по лицу, я спотыкался о пни и камни и не заметил, как около какой-то решётки странный спутник исчез.
Очнулся я в больнице, и брат мило рассказал мне, что меня в бессознательном состоянии подобрали на кладбище, у старинной могилы. Когда я выписался, то первым долгом разыскал эту могилу, расчистил плиту и разобрал надпись: Frа Аlfonsо Requiescat in расе[1].
А войдя в лабораторию, затрепетал, увидев, что на южной её стене действительно начертан меловой квадрат. Вырубив камень по очертаниям этого квадрата, я нашёл спрятанный за ним ларец. В ларце лежал пергамент, в котором чёткими буквами, красными и чёрными, было написано по латыни: «Одиночество. Великая меланхолия. Мир преступный и беззаконный. Вместо заповедей Господа Бога твоего ты снова пляшешь перед золотым тельцом. Весь ты в моих руках, в руках безвестного, некрасивого и смиренного Альфонса, поражённого низким чувством любви к женщине. От стыда и мук я не могу поднять глаз к подножию Престола Твоего, Господи, и молю о смерти. О, земля! О, люди! Вот я поверну рычаг, и посыпятся стены домов ваших. Я мог бы купить любовь, но разве сладка любовь купленная? Счастье мира, королей, иноков, художников, поэтов и женщин. Вот твоя жалкая формула».
И под этими словами была начертана сложная химическая выкладка, которую я легко расшифровал и по которой, к вечеру следующего дня, я сделал изрядный кусок подлинного и тяжёлого золота.
Оправившись от изумления, я тайком сбежал из монастыря. Потом я узнал, что братия меня прокляла и похоронила. В собор был принесён пустой гроб, а игумен, в полном облачении, пошёл в лес и срубил пышную зелёную ветвь. Эту ветвь положили в гроб и отпели Моцартовский реквием. Собор был торжественно освещён, алтарь был убран траурными занавесями, гремел орган. Потом в печальной процессии отнесли гроб на кладбище, зарыли и на могиле написали: Frа Hieronimus Requiescat in расе[2].
Я умер для них и для Бога: это было жестоко, но справедливо, и плакал обо мне только брат, которого я считаю равным по благости флорентийскому Беато.
Я переселился в Париж, ибо там жила Элеонора. В лучшем квартале этого страшного и очаровательного города у меня был особняк, а на окраине, в районе Итальянской площади, лаборатория, в которой я делал своё золото. Я держал конюшни, субсидировал журнал, в котором писали об искусстве, стал видным человеком самого высшего, всё оценивающего на деньги, парижского света и однажды, на балу в опере, был представлен Элеоноре. В её салоне я скоро сделался своим человеком, но о моей любви она узнала только тогда, когда муж её, увлекавшийся автомобильными гонками, разбился насмерть. Началось вдовство. Мне пришлось заняться её делами, которые были порядочно позапутаны, и в один прекрасный день я сделал ей предложение, охотно принятое. Любовь не мыслит зла и всё прощает. Это, собственно, неточный перевод слов апостола Павла: «Любовь не мыслит зла и всё покрывает». Я не мыслил зла и думал, что Элеонора любит меня. Но однажды в цирке, на глупом и неинтересном представлении, я проследил её взгляд, брошенный на ловкого и хладнокровного жокея. Такой мягкий и ласковый огонёк никогда не зажигался в её глазах для меня.
Ум женщины – фонарь, всё освещающий только вблизи, и Элеонора не поняла моей хитрости. Я объявил, что дела мои расстроились. Ба! Это был удар в январский день. Мы начали жить в долг, и сначала векселя мои принимались с лёгкостью и почтительностью, как самые верные деньги. Но когда наступил момент, и я не мог оплатить их, и был объявлен протест, тогда лёгкость превратилась в угрюмость, а почтительность – в хамство. И только на аукционе, когда с молотка продавалось моё имущество, я сумел по-настоящему оценить человека.
Из особняка мы переехали в отель с комнатами по двенадцать франков. Неделями я искал места и, в конце концов, поступил зазывалой в магазин готового платья из района Тампль. До хрипоты я расхваливал перед прохожими наши пальто, а Элеонора на спиртовке варила луковый суп. Очень скоро она разыскала какого-то своего старого и усердного поклонника и ушла от меня, даже не оставив записки. Оказалось, что любовь моя была купленная, та самая, которой так боялся много сот лет тому назад несчастливый брат Альфонсо.
Париж очарователен и стар. Здесь тебя никто не заметит, если ты этого захотел. Ты можешь умереть на любой бульварной скамье. Свой завтрак ты можешь съесть и в «Карльтоне», и в любом коридоре метро. Если ты обеднеешь, от тебя легко отвернутся; если разбогатеешь, к тебе с такою же лёгкостью возвратятся. А о твоём бесчестии помнят только до вечера, если о нём узнали с утра.
Кончилось тем, что я покинул своих евреев в Тампле, отправился в лабораторию, и через месяц у меня был дворец пышнее прежнего, а мои лошади беспрерывно забирали первые призы. Очень много ещё значит в Париже, если ты можешь печатать иллюстрации и статьи об искусстве.
Я опять сел на трон, но уже горек был мой опыт. Я читал Екклесиаста и не раскрывал Песни Песней. Однажды ночью, в рабочем плюшевом костюме, возвращаясь из лаборатории, я зашёл в какой-то италийский притон, чтобы выпить пива. Было пусто, но в углу сидела довольно тёмная и бессонная компания, обратившая на меня свои взоры только тогда, когда, расплачиваясь, я достал из кармана тетрадь тысячефранковых билетов. Один из них, в гарусном шарфе, подошёл, раскланиваясь, ко мне, долго испытывал меня взглядом, потом присел и таинственно-дружески спросил:
– Вор?
Я ответил утвердительно.
– Нет ли на примете дельца, для которого нужна хорошо спевшаяся компания?
Я ответил, что есть, и через два часа, обо всём столковавшись, повёл их обворовывать свой собственный дом.
Это было забавное приключение.
Я отрекомендовался как специалист по бесшумным отмычкам. Мне дали маску, я пошёл вперед и, конечно, легко, со своими ключами, вошёл в дом и потом ввёл туда остальных. Мои компаньоны ценили артистичность и сказали мне с восхищением, что я – туз. Начался грабёж, ловкий, дисциплинированный и бесшумный, и, всё-таки, как трудно воровское ремесло! Более удобных условий для него быть не могло и, тем не менее, в дальних комнатах проснулся мой дворецкий, сообразил, в чём дело, и по особой сигнализации вызвал полицию и, пока мы паковали наши мешки, дом был оцеплен ребятами в прорезиненных накидках. Меня изловили первым, больше всех меня лупил дворецкий, но когда сорвали маску, он завалился на ковёр в обморок.
Я легко объяснил всё, сказав комиссару, что хотел проверить бдительность прислуги и со своими приятелями организовал это нападение. Моих босяков я представил как графов и маркизов, и комиссар, очарованный беспокойной, но весёлой шуткой, почтительнейше пожал нам руки. Графы и маркизы тоже сначала были ошеломлены, но скоро сориентировались, и я понял, что быстрая сообразительность – главная составная часть таланта. Нижние полицейские чины были отпущены с наградой, а комиссар превесело с аппетитом поужинал в нашей компании, оказался человеком отлично воспитанным, охотно поддерживал великосветскую болтовню, а прорывавшийся арго считал продолжением ночного спектакля. Русскую свежую икру комиссар назвал божественным блюдом.
После этого приключения у меня проснулась страсть к озорству, и это спасало меня от той скуки, из-за которой люди лезут в петлю…
Со своими ворами, на другой день, я отправился к лучшему портному на Оперной авеню. Боже мой! Как перерождает человека сытость и уверенность в завтрашнем дне! И сколько изысканной театральности, способности к перевоплощению заложено в каждой живой душе! Надо было видеть их, этих трущобных жителей, на первой примерке, и с каким уже шиком они заложили в боковые карманы шёлковые платочки, когда им принесли готовые, с модными лацканами, отлично пригнанные, из немнущихся английских материалов, костюмы! Как они радовались фильдекосовым тщательно натянутым носкам; туфлям, мягким как шерсть; как они научились обрезывать упмановские сигары, читать после завтрака газеты и высказывать свои мнения о политике рейхстага и палаты общин!
Я решил сделать из них крупных мировых дельцов: дело в том, что, по глубочайшему моему убеждению, миром правят и всегда правили женщины, и поэтому все экономические системы, а в особенности денежные, человек построил на ценностях, которые служат любимым её украшением, то есть на золоте. Я решил повести борьбу с женщиной и обесчестить, обесценить, скомпрометировать золото, – и начал с драгоценных камней. Своих босяков, которые теперь ветрам дуть на себя не позволяли, я рассадил в главнейших городах Европы: в Амстердаме, Берлине, Лондоне, Цюрихе – и начал скупку бриллиантов и цветных камней. Лично сам скупил всю парижскую улицу Мира. Все эти драгоценности я свёз в одно место и раздробил мельничными жерновами, а потом вывез за два километра в океан и потопил. Воры мои решили, что я сошёл с ума, и, при помощи старых своих связей, организовали нападение на мой груз, но я сумел отстреляться, понял их и не рассердился.
Почти покончив с бриллиантами, я начал огромными партиями выбрасывать на рынок золото, якобы приходящее из моих африканских россыпей. Что сталось с мировыми биржами, когда цена золота начала медленно, но неуклонно опускаться, как ртуть в замерзающем термометре?! Вместе с золотом летели вниз акции, облигации, займы, ренты и, в первую голову, бумажные деньги. Я сам присутствовал на аукционе лондонского Ротшильда, я купил его коллекцию примитивов, которую хотел послать в подарок моему монастырскому Беато, и от радости… проснулся.
Дорогой русский художник! Вы давно уже поняли, что мой рассказ – или сон, или больной бред. Правда в нём одна: моя любовь.
Очнулся я, уже по-настоящему, на койке монастырской больницы, и около меня дежурил мой Беато. Был весенний, апрельский день, звонил колокол к Аве Мария, и мои исхудавшие, странно белые руки лежали поверх одеяла.
Опять по правильным схемам заработали и сознание, и логика, и мысль, но сердце тянуло в сторону, и я понял, что мне нужно поступить так, как это было во сне: то есть уйти из монастыря.
Восемь лет с тех пор, каждую ночь, я вижу эту формулу, но проснувшись, не могу ни вспомнить её, ни представить.
Незнакомец замолчал, опустил глаза, посмотрел на ладони (это был его постоянный жест) и тихо сказал:
– Поэтому я всегда и таскаюсь по Золотой улице. Мне кажется, что флюиды, исходящие от её стен, помогут мне вспомнить эту формулу... Но увы!
Наступило молчание.
– Желаете ли вы теперь помочь мне, милый русский художник? – спросил незнакомец.
– Да, – ответил Прокофьев.
– Я разговариваю во сне, – сказал незнакомец, – и могу заснуть хоть сейчас. Для этого у меня есть особые порошки. Дайте себе труд посидеть около меня и записать всё, что я скажу...
– Отлично, – ответил художник и вышел в соседнюю комнату.
Когда он возвратился обратно, незнакомец спал.
Голубоватый газовый свет мертвенно освещал его заострившиеся черты.
Губы были сжаты, дыхание поднималось медленно и слабо. Прокофьев осмотрел комнату. На столе в спиртовой банке, лежала зеленоватая, очень красивая змея. В шкафу стояли фолианты старых латинских книг, и на первом месте было сочинение блаженного Августина о граде Божием. На столе был раскрыт Екклесиаст.
Прошло два часа.
И вдруг разжались уста спящего, и он, властно, медленно и раздельно, начал говорить:
– Одиночество. Меланхолия. Мир преступный и беззаконный. Вместо заповедей Господа Бога твоего, ты снова пляшешь перед золотым тельцом. Весь ты в моих руках, в руках безвестного, некрасивого и смиренного Иеронима, поражённого низким чувством любви к женщине. Вот я поверну рычаг, и посыпятся стены домов ваших. Счастье мира, королей, иноков, художников, поэтов и женщин. Вот твоя формула.
И незнакомец начал называть какие-то цифры, буквы уравнения и слова, которых Прокофьев не мог ни понять, ни записать.
Илья Сургучёв
1930 год
[1] Лат. «Брат Альфонсо да покоится с миром».
[2] Лат. «Брат Иероним да покоится с миром».
Оцените материал:
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
|