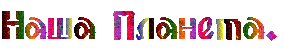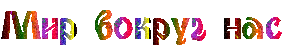Меня редко хвалили в детстве. Не то, чтобы ругали взамен, нет. Просто никому не было особого дела. Или мне так казалось... Лет, наверное, с шести я часто уходила далеко от дома, обычно с какими-то ребятишками, и терялась во времени совершенно. Мы играли в разные игры – в войнушки, в казаки-разбойники, в Тимура и его команду, или у кого-то в гостях смотрели диафильмы. Я спохватывалась, когда на улице было темно, и моя бабушка с кучкой старших ребят из соседних дворов прочесывали район в поисках пропавшей меня.
Даже тогда меня не ругали. Бабушка брала меня за руку и вела домой. Ну, так, словно она потеряла очки (хотя нет, из-за очков она волновалась и расстраивалась жутко), скорее, как брала вчерашнюю газету, где была любопытная статья, прочитанная уже, но пусть будет, вдруг пригодится, пусть вот тут на кучке полежит, где все газеты, чтобы сразу найти, если надо. Я не любила ходить с бабушкой за руку. Руки у нее были всегда тёплые и словно распаренные от бесконечной возни с посудой, со стиркой, с чем-то вечно кипящим в кастрюлях на плите. И когда по голове меня гладила, я не любила. – Ты не должна ходить так далеко, детка, – говорила она и отворачивалась к окну. Я думаю, она любила меня – той странной сдержанной любовью, которой любят учителя своих лучших учеников. Тем глубоким чувством, в котором слишком намешано от заботы и контроля, от нежности и ответственности. Когда изредка к гастроному на углу нашей улицы подъезжала машина с такой большой цистерной и надписью "живая рыба", бабушка всегда покупала нескольких карпов. И потом мы долго шли к маленькому озеру возле хладокомбината, где выпускали их в воду, и мне покупали мороженное на палочке. И еще бабушка выносила из моей комнаты пауков (которые неизвестно откуда вечно брались), аккуратно, в тряпочке, на траву. Подозреваю, что ко всякой живности она питала более теплые и искренние чувства, чем к людям. Или мне так казалось... Бабушка всегда просыпалась рано, так рано, что была ещё ночь. Она успевала переделать всю домашнюю работу к моему пробуждению – налепить вареников, перестирать в тазу всю одежду, перегладить простыни, вымыть полы в кухне и на веранде, накормить собак и кошек, подмести дорожку к калитке... Она делала это спокойно и безропотно, я думаю, даже радостно. Часто я заставала её поющей за этой работой. Когда она уставала, то садилась в кресло у окна, включала радио и перебирала гречку или фасоль или что-нибудь шила. Она никогда не сидела без дела.
Я совсем не плакала, ни на похоронах, ни позже (да и до того я почему-то не могла при ней плакать). Но каждый раз, когда я вспоминаю о бабушке, становится больнее всего от одной мысли: она никогда не видела моря, ни разу в жизни... *** Моя бабуля гнала самогон. Ещё в то время, когда за это могли не просто штраф выставить и аппарат конфисковать, но и посадить запросто. Нет, бабуля не была злостным самогонщиком, а что называется «чисто для себя». Хотя сама она, в общем-то, и не пила. Так, рюмочку по большим праздникам. Происходило это нечасто. И меня, маленькую, вся эта процедура завораживала, как какое-то алхимическое чудо. Большая клокочущая кастрюля на огне, трубка, которая крепилась к крышке просто куском сырого теста, и, конечно, сам аппарат, с замысловатым змеевиком и непрозрачными стенками. Я прекрасно помню, как выглядели все отдельные части конструкции, потому что хранились они в сарае, куда я частенько наведывалась поразмыслить о жизни. Там же, в сарае, стояли плоды химического действа – три трёхлитровых банки самогона: крепкий (первак), средней крепости и слабый (градусов 40, как водка). Самогон, конечно, шёл не на протирку магнитофонных головок. Его нахваливали бабушкины гости, соседи, знакомые… Знатный был самогон! На самом деле, пенсия у бабули была по тем временам маленькая, а просить она ничего ни у кого не любила. Помощников, кроме меня, мелюзги, - тоже не особо. А пол-литра самогона было довольно расхожей формой оплаты: и Лёне-сантехнику можно дать, и Ваське Чабану, чтоб траву во дворе выкосил, и соседу Петру, чтоб крышу подправил. Хорошо помню нескольких персонажей, которые появлялись более-менее регулярно у нас в доме, чтобы разжиться пол-литрой. • Николай. Здоровый мужик был, косая сажень в плечах, густые с проседью волосы. «Какой интеллигентный человек! – говаривала бабушка. – Каждый раз мне руку целует!» Николай водил мусоровоз. Раз в неделю он появлялся на нашей улице и по всем дворам собирал мусор. У Николая с бабулей был бартер: он всегда привозил пакет кофе в зёрнах. Тогда это был дефицит, а у Николая кто-то из родичей подворовывал на конфетной фабрике. • Зойка. Она жила в конце нашей улицы, и самогон брала для мамы – старой спивающейся Даны. Та не признавала никаких других лекарств. Когда Даны не стало, Зойка сама начала пить. Пила сильно, много и без разбору. Бабушка её от дома отваживала, не хотела грех на душу брать. Но тогда чуть ли не в каждом втором дворе самогон гнали. Нашлись добрые люди… Зойка совсем спилась, к сорока годам выглядела, как старуха. А потом по пьяни переписала свой дом на каких-то добродетелей и сгинула. • Вовчик. Стареющий вдовец, чья дочь уехала из дому, бросив ему двух внуков. Вовчик какое-то время обхаживал мою бабулю, даже замуж звал, но бабушка посмеивалась, а пацанов его жалела – вечно каких-то гостинцев передавала. Вовчик часто помогал какой-нибудь мужской работой по дому (а что-нибудь всегда находилось). Помню, что они часто в шутку ругались, получая от этого какое-то семейное почти удовольствие. • Витька-сутулый. Он и впрямь был очень сутулый, ездил на велосипеде, жил через два дома от нашего. Золотые руки были у мужика: телевизор там починить или проигрыватель, утюг вообще не глядя! Тот в любое время суток мог прийти. Плохо он с женой жил – скандалили до драк. Витька приходил к нам, бросал на стол кепку… «Эх, – говорил, – налей, бабка, стакашку! Анька совсем меня заела!» С собой бутылку никогда не брал – жену боялся. А потом бабуля болеть стала, и дело это совсем забросила. Аппарат каким-то соседям отдала, потому как без надобности… Но «ходоки» еще долго к ней наведывались. «Нету, - говорила бабуля, - и рада бы, да нету!» Особенно Витьку-сутулого ей жаль было. А после бабушкиной смерти в сарае обнаружилось пять трёхлитровых банок самогона, неизвестно, для какого случая припасённых. Не пригодился, стало быть... *** Пасху мы всегда праздновали. В детстве меня не сильно заботили эти нюансы, я не была воцерковленным ребёнком, хотя крестили меня ещё в младенчестве. Все атрибуты праздника для меня всё-равно были дома, а не в храме. Помню, как тщательно мы укладывали пасхальные корзинки. Куличи, барашки из теста, писанки, колечки домашней колбасы, корешки хрена... Обязательно свечи и веточки букшпана (самшита). У бабушки были специальные салфетки с ручной вышивкой, которые бережно хранились в шкафу и доставались раз в год, чтобы покрыть всю эту нехитрую снедь. Опуская само действо освящения куличей, скажу, что дух праздника (и до, и после) витал над нашей улицей неистребимо, в домах, во дворах, и касался каждого, независимо от вероисповедания. В эти дни люди становились ближе друг другу. Они улыбались, приветствовали и поздравляли всякого, кого встречали на улице. И всё это было очень искренне, органично и в порядке вещей. Именно эта атмосфера всеобщего подъёма и благости мне вспоминается сейчас, по прошествии времени. В детстве это было несомненным подтверждением того, что все люди – братья и сёстры. Куличи бабушка пекла в больших железных кружках и в жестяных банках разного размера (от томатной пасты, болгарского зелёного горошка и ещё чего-то, возможно, тушёнки). Помню, что было несколько больших куличей и целая тьма маленьких. Ими угощали соседей и друзей, а часть несли на кладбище. И вот об этом я как раз хотела рассказать отдельно. В воскресенье после пасхального завтрака бабушка всегда ездила на кладбище. Там были похоронены её родители, две дочери, мой дед, братик Андрейка, ещё какие-то дальние родственники. И вот я помню, как мы собирали "гостинцы", чтобы оставить на каждой могилке по куличику, по крашенному яйцу, по свече... Это сложно объяснить, но я попробую. Тогда (да и потом, позже) у меня было ощущение, словно мы идём в гости. Переступая смерть и ощущение горькой потери, бабушка шла к родственникам так, словно несла им передачку. В том смысле, что это не выглядело, как что-то неестественное. Она вот также носила мне в больницу баночки с бульоном и паровыми котлетами. И вот также два раза в неделю она носила продукты старенькой вдове чьего-то кузена. Я хочу сказать, что тогда, в детстве, я не ощущала большой разницы между тем, живы ли эти люди, здесь ли они или уже "там". Бабушкина любовь и преданность своему роду простиралась гораздо дальше, чем кладбищенская ограда. И это вселяло уверенность, что мир проницаем. И граница, что "делит бытиё на жизнь и на иное" – довольно размыта. И где бы ты ни был, к тебе придут любящие и принесут куличик, писанку и веточку букшпана. А если не придут, то помянут в своих молитвах уж точно. Бабушка, ты мой светлый ангел. Где бы ты ни была, ты со мной.
Оцените материал:
ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
|